Страница:
— Ах, дон Альфонсо, так это вы? Какая приятная встреча! Вас повсюду разыскивают, а тут нас сталкивает с вами сама Фортуна.
Мой приятель тотчас же соскочил с коня и кинулся обнимать барона, радость которого, казалось, не знала границ.
— Идемте, сын мой, — сказал затем этот добрый старец, — вы узнаете, кто вы, и насладитесь счастливой судьбой.
С этими словами он повел дона Альфонсо в замок, а я, спешившись и привязав лошадей, также отправился за ними. Первым лицом, которое мы встретили, оказался владелец замка. То был человек лет пятидесяти, весьма приятной наружности.
— Сеньор, — сказал барон Штейнбах, представляя ему дона Альфонсо, — вот ваш сын!
Услыхав это, дон Сесар де Лейва — так звали владельца замка — обнял дона Альфонсо и, плача от радости, сказал ему:
— Мой дорогой сын, перед вами тот, кому вы обязаны жизнью! Если я до сей поры скрывал от вас ваше происхождение, то, поверьте, это стоило мне немалых усилий. Тысячи раз вздыхал я от горя, но не мог поступить иначе. Я женился на вашей матушке по любви. Она была значительно менее знатного рода, чем я. Мне приходилось подчиняться власти сурового отца, и это заставляло меня держать в секрете брак, заключенный без его согласия. Один только барон Штейнбах был посвящен в тайну и воспитывал вас по уговору со мной. Отца моего теперь уже нет в живых, и я могу объявить вас своим единственным наследником. Но это еще не все, — добавил он. — Я намерен женить вас на молодой даме, не уступающей мне знатностью рода.
— О, сеньор, — прервал его дон Альфонсо, — не заставляйте меня заплатить слишком дорогой ценой за счастье, которое вы мне объявили. Неужели, узнав, что имею честь быть вашим сыном, я должен тут же услыхать о вашем решении сделать меня несчастным? Ах, сеньор, не будьте со мной более жестоки, чем был с вами мой дед. Если он и не одобрял сделанного вами выбора, то, по крайней мере, не заставлял вас вступать в брак против вашей воли.
— Сын мой, — возразил дон Сесар, — я вовсе не намерен насиловать ваши желания. Но соблаговолите взглянуть на даму, которую я вам предназначаю; это все, что я жду от вашего послушания. Хотя она очаровательна и представляет для вас весьма выгодную партию, я обещаю, что не буду принуждать вас к этому браку. Она сейчас находится в замке. Следуйте за мной; вы безусловно признаете, что нет на свете более обаятельного существа.

С этими словами он повел дона Альфонсо в покои замка, а я последовал за ними вместе с бароном Штейнбахом.
Там мы застали графа Полана с обеими его дочерьми, Серафиной и Хулией, а также дона Фернандо де Лейва, приходившегося племянником дону Сесару. Были еще и другие дамы и кавалеры. Дон Фернандо, как я уже говорил, похитил Хулию, и брак этих двух влюбленных был причиной празднества, на которое собрались окрестные крестьяне. Как только дон Альфонсо вошел и отец представил его обществу, граф Полан поднялся и, бросившись обнимать его, воскликнул:
— Приветствую своего избавителя!
— Дон Альфонсо, — продолжал он, обращаясь к нему, — узнайте, какою властью обладает добродетель над великодушными сердцами! Правда, вы убили моего сына, но зато спасли мне жизнь. Прощаю нанесенную нам обиду и отдаю вам Серафину, честь которой вы защитили. Этим я хочу отблагодарить вас за услугу.
Сын дона Сесара не преминул выразить графу Полану, сколь многим он обязан ему за его доброту, и я, право, не знаю, больше ли он радовался тому, что раскрыл тайну своего рождения, или тому, что собирался стать супругом Серафины. Действительно, брак этот состоялся через несколько дней, к величайшему удовольствию заинтересованных сторон.
Я был тоже одним из избавителей графа Полана, а потому вельможа, узнав меня, сказал, что берется обеспечить мою судьбу. Я поблагодарил его за великодушие, но не пожелал покинуть дона Альфонсо, который назначил меня управителем замка и почтил своим доверием. Терзаемый угрызениями совести за плутню, проделанную с Самуэлем Симоном, он тотчас же после свадьбы приказал мне отвезти этому купцу украденные у него деньги. Я отправился возмещать убытки и, таким образом, начал свою деятельность в качестве управителя с того, на чем иному надлежало бы ее кончить.

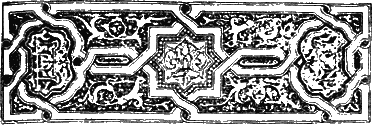
Итак, я отправился в Хельву отвозить нашему любезному Самуэлю Симону те три тысячи дукатов, которые мы у него украли. Признаюсь откровенно, что по дороге я испытал искушение присвоить себе эти деньги, чтоб начать свою службу под счастливой звездой. Я мог поживиться совершенно безнаказанно: стоило мне только попутешествовать дней пять-шесть и затем вернуться, сказав, что я выполнил поручение. Дон Альфонсо и его отец были обо мне слишком высокого мнения, чтоб заподозрить меня в недобросовестности. Все складывалось удачно. Но я не поддался искушению, могу даже сказать, что справился с ним, как честный человек, а это весьма похвально для юноши, побывавшего среди крупных мошенников. Многие люди, вращающиеся только в порядочном обществе, бывают не так щепетильны; в особенности могут кое-что порассказать об этом те, которые управляют чужими состояниями и имеют возможность легко присвоить их себе, не подрывая своей репутации.
Вернув купцу деньги, которые тот не чаял получить, я возвратился в замок Лейва. Графа Полана там уже не было: он отправился в Толедо вместе с Хулией и доном Фернандо. Я застал своего нового господина еще более влюбленным в Серафину, чем когда-либо, Серафину очарованной им, а дона Сесара в восторге от них обоих. Я постарался заслужить расположение этого нежного отца и успел в своем намерении. Став управителем замка, я распоряжался всем: принимал деньги от мызников, бел расходы и пользовался деспотической властью над лакеями, но, в противоположность мне подобным, не злоупотреблял своим могуществом. Я не прогонял слуг, которые мне не нравились, и не требовал от остальных, чтоб они всей душой были преданы господину управителю. Если они обращались непосредственно к дону Сесару или его сыну, чтоб испросить какую-нибудь милость, я никогда не ставил, им палки в колеса, а, напротив, ходатайствовал за них. Мои же господа непрестанно выказывали мне знаки своего благожелательства, подстрекавшего меня служить им с превеликим усердием. Всецело преданный их интересам, я Не допускал никакого плутовства в своем управлении: я был дворецким, какого с огнем не сыскать.
В то время как я радовался своему счастливому положению, Амур, как бы приревновав меня к Фортуне, пожелал, чтоб я был и ему чем-нибудь обязан: он зародил в сердце сеньоры Лоренсы Сефора, первой камеристки Серафины, пылкое чувство к господину управителю. Как правдивый историк, должен сказать, что моей жертве уже стукнуло пятьдесят. Но благодаря своей свежей коже, приятному лицу и черным глазам, которыми она умела искусно пользоваться, Лоренса могла еще сойти за некое подобие возлюбленной. Я пожелал бы ей, пожалуй, несколько больше румянца, ибо она была очень бледна, что я, впрочем, не преминул приписать подвигам безбрачия.
Моя дама долгое время заигрывала со мной при помощи взглядов, отражавших ее любовь; но вместо того чтобы отвечать на эти авансы, я притворился, будто не замечаю ее намерений. Это побудило ее принять меня за новичка в амурных делах, что отнюдь ее не разочаровало. Вообразив поэтому, что ей не следует ограничиваться языком глаз с молодым человеком, который казался ей менее просвещенным, чем был на самом деле, она при первой же нашей беседе объявила мне о своих чувствах с откровенностью, не допускавшей никаких сомнений. Взялась она за это, как женщина, прошедшая хорошую школу: вначале она прикинулась смущенной, а выложив мне все, что хотела, закрыла лицо руками и притворилась, будто стыдится своей слабости. Пришлось сдаться и, хотя мной руководила не столько страсть, сколько тщеславие, я выказал себя весьма умиленным этими знаками расположения. Я даже проявил настойчивость и так хорошо разыграл роль пылкого любовника, что навлек на себя упреки. Лоренса пожурила меня весьма ласково, но, проповедуя мне правила скромности, видимо, была не прочь, чтоб я их преступил. Я отважился бы и на большее, если бы красавица не побоялась уронить в моих глазах свою добродетель, разрешив мне слишком легкую победу. Таким образом, мы расстались в предвидении нового свидания: Сефора — убежденная, что ее притворное сопротивление побудило меня принять ее за весталку, я же — полный сладостной надежды вскоре благополучно завершить это приключение.
Дела мои, следовательно, обстояли отлично, когда один из лакеев дона Сесара сообщил мне весть, умерившую мою радость. Это был один из тех любопытных слуг, которые стараются разузнать все, что делается в доме. Он усердно ходил ко мне на поклон и угощал меня всякий день какими-либо новостями. И вот однажды утром он заявил мне, что сделал забавное открытие и готов поделиться им со мной, если я обещаю его не выдавать, так как дело касалось сеньоры Лоренсы Сефоры, которую он боялся прогневить. Мне слишком хотелось знать, что он скажет, а потому я посулил ему соблюдение таймы, но притворился при этом вполне равнодушным и спросил его, насколько мог хладнокровнее, в чем же заключалось открытие, которым он хотел меня полакомить.
— По вечерам, — сказал он, — Лоренса тайно впускает в свою горницу сельского фельдшера, весьма видного собой молодого человека, и этот прохвост не торопится от нее уходить. Готов поверить в невинность их свиданий, — добавил он с лукавым видом, — но вы, конечно, согласитесь, что когда такой молодчик тайком пробирается в покои девицы, то это бросает тень на ее репутацию.
Хотя это известие доставило мне такое же огорчение, как если б я был действительно влюблен, однако же я поостерегся выдать свои чувства; я даже принудил себя расхохотаться при этом донесении, которое переворачивало мне душу. Но, очутившись один, я вознаградил себя за свою выдержку. Я проклинал, ругался и ломал себе голову над тем, как поступить дальше. То презирая Лоренсу, я собирался бросить эту кокетку, не удостоив ее даже объяснения; то вообразив, что моя честь требует мщения, я мечтал вызвать костоправа на дуэль. Последнее решение одержало верх. Под вечер я засел в засаду и, действительно, увидал, как мой соперник с таинственным видом пробрался в комнату дуэньи. Это зрелище разожгло во мне бешенство, которое без того, быть может, улеглось бы само по себе. Выйдя из замка, я стал на дороге, по которой должен был пройти этот волокита, и принялся поджидать его с величайшей решительностью. Каждое мгновение усиливало мое желание драться. Наконец, враг появился. Я смело сделал несколько шагов ему навстречу; но тут, черт его знает почему, меня, точно какого-нибудь гомеровского героя, внезапно обуял такой страх, что я вынужден был остановиться, смутившись, как Парис, когда он вышел на бой с Менелаем. Взглянув на противника, я убедился, что он здоров и силен, к тому же его шпага показалась мне чрезмерной длины. Все это произвело на меня впечатление; но, несмотря на опасность, разраставшуюся в моих глазах, и на то, что мое естество подстрекало меня увильнуть от нее, чувство чести или что-либо другое одержало верх: у меня хватило смелости двинуться на фельдшера и обнажить шпагу.
Мое поведение изумило его.
— Что случилось, сеньор Жиль Блас? — воскликнул он. — К чему эти повадки странствующего рыцаря? Вы, видимо, изволите шутить?
— Нисколько, сеньор цирюльник, нисколько, — возразил я, — это вовсе не шутки. Я хочу знать, столь же ли вы храбры, как и галантны. Не надейтесь, что я позволю вам спокойно наслаждаться милостями дамы, которую вы тайком навещаете в замке.
— Клянусь св. Косьмой,
114 — отвечал фельдшер, заливаясь смехом, — вот забавное приключение! Черт подери! Видимость, действительно, бывает обманчива.
Заключив из этих слов, что у него было не больше охоты драться, чем у меня самого, я сразу обнаглел.
— Вот как, любезный? — прервал я его. — Не думайте, пожалуйста, что вам удастся отвертеться простым отрицанием фактов.
— Вижу, — отвечал он, — что придется все рассказать, дабы избегнуть несчастья, которое могло бы случиться с вами или со мной. А потому раскрою вам тайну, хотя людям моей профессии надлежит строго хранить чужие секреты. Если сеньора Лоренса проводит меня украдкой в свой покой, то только для того, чтоб скрыть от слуг недомогание, которым она страдает. У нее на спине застарелая злокачественная язва, которую я хожу врачевать каждый вечер. Вот причина моих посещений, возбудивших вашу тревогу. Можете поэтому совершенно успокоиться. Но если это объяснение вас не удовлетворяет, — продолжал он, — и вы непременно жаждете помериться со мной силами, то вам стоит только сказать: я не такой человек, чтоб отказать кому-либо в поединке.
С этими словами он обнажил свою длинную рапиру, повергшую меня в трепет, и стал в позицию с таким видом, который не предвещал ничего хорошего.
— Довольно, — сказал я ему, вкладывая шпагу в ножны, — не считайте меня забиякой, который не внемлет никаким резонам: после того, что я от вас слышал, вы мне больше не враг. Обнимемся!
Убедившись по этой речи, что я не такой злодей, каким сперва себя выказал, он тоже сунул шпагу в ножны и протянул мне руку, после чего мы расстались лучшими друзьями в мире.
С этого момента Сефора потеряла в моих глазах всякую привлекательность. Я избегал ее каждый раз, как она собиралась остаться со мной наедине, и делал это с такой стремительностью и нарочитостью, что она, наконец, догадалась. Удивившись столь решительной перемене, она пожелала узнать причину и, улучив подходящий момент, чтоб переговорить со мной с глазу на глаз, сказала:
— Сеньор управитель, объясните мне, ради создателя, почему вы даже не хотите взглянуть на меня. Вместо того чтоб, как раньше, искать случая побеседовать со мной, вы всячески стараетесь уклониться от этого. Правда, я сделала вам авансы, но вы на них ответили. Вспомните, пожалуйста, наш разговор наедине: вы весь пылали, а теперь вы как лед. Что это означает?
Вопрос этот, весьма щекотливый для откровенного человека, привел меня в немалое смущение. Не помню уже, какой ответ я дал этой даме, знаю только, что она осталась им весьма недовольна. По кроткому и скромному виду Лоренсы ее можно было принять за агнца, но в гневе она превращалась в настоящего тигра.
— Я думала, — сказала она, бросая на меня взгляд, полный досады и бешенства, — что, открывая вам свои чувства, которые польстили бы любому благородному кавалеру, я оказываю немалую честь такой ничтожной личности, как вы. Я здорово наказана за то, что снизошла до жалкого авантюриста.
Но она не остановилась на этом: мне не суждено было так легко отделаться. Ее язычок, подстрекаемый яростью, осыпал меня кучей всяких эпитетов, один сильнее другого. Мне следовало, разумеется, отнестись к ним с полным хладнокровием и подумать о том, что, пренебрегши победой над соблазненной мною добродетелью, я совершил преступление, которого женщины никогда не прощают. Но я был слишком экспансивен, чтоб стерпеть ругательства, над которыми благоразумный человек на моем месте только бы посмеялся. Мое терпение лопнуло, и я сказал ей:
— Сударыня, не будем никого презирать. Если бы благородные кавалеры, о которых вы говорите, увидали вашу спину, то они дальше бы не любопытствовали.
Не успел я выпустить этот заряд, как свирепая дуэнья закатила мне такую здоровенную пощечину, какой еще никогда не давала ни одна оскорбленная женщина. Я не стал ждать повторения и поспешно спасся бегством от града ударов, который, наверно, посыпался бы на меня.
Возблагодарив небо за то, что выскочил из этого неприятного дела, я уже почитал себя вне опасности, поскольку дама удовлетворила свою мстительность. Мне казалось, что в интересах своей чести она утаит это приключение: действительно, в течение двух недель все было тихо. Я уже и сам начинал о нем забывать, когда вдруг узнал, что дуэнья заболела. Эта весть огорчила мое доброе сердце. Я проникся жалостью к Лоренсе. Мне представилось, что моя несчастная возлюбленная стала жертвой безнадежной любви, с которой не смогла справиться. С прискорбием думал я о том, что являюсь причиной ее болезни, и, будучи не в силах ее полюбить, по крайней мере, питал к ней сострадание. Но как плохо я ее знал! Перейдя от страсти к ненависти, она только и помышляла о том, как бы мне повредить.
Однажды утром вошел я к дону Альфонсо и, застав этого молодого кавалера в грустном и задумчивом настроении, почтительно спросил его, чем он расстроен.
— Меня печалит, — сказал он, — что Серафина так несправедлива, безвольна и неблагодарна. Вы поражены, — добавил он, заметив, что я слушаю его с удивлением, — а между тем это так. Не знаю, какой повод для ненависти вы дали Лоренсе; во всяком случае, она вас совершенно не выносит и объявила, что непременно умрет, если вы немедленно не покинете замка. Не сомневайтесь в том, что вы дороги Серафине и что сперва она дала отпор этой неприязни, которой не может потворствовать, не выказав себя несправедливой и неблагодарной. Но в конце концов она — женщина и нежно любит Сефору, которая ее воспитала. Эта дуэнья была ей второй матерью, и она боится, как бы ей не пришлось упрекать себя в смерти Сефоры, если не исполнит ее просьбы. Что касается меня, то сколь я ни люблю Серафину, однако же никогда не проявлю такой постыдной слабости, чтоб разделять ее чувства в этом отношении. Пусть лучше погибнут все испанские дуэньи, прежде чем я соглашусь удалить человека, в котором вижу скорее брата, нежели слугу.
На это я отвечал дону Альфонсо:
— Сеньор, мне суждено быть игрушкой фортуны. Я рассчитывал, что она перестанет преследовать меня у вас, где все предвещало мне счастливые и спокойные дни. Придется, однако, примириться с изгнанием, как бы мне ни было приятно остаться здесь.
— Нет, нет, — воскликнул великодушный сын дона Сесара, — подождите, пока я урезоню Серафину. Пусть не говорят, что вас принесли в жертву капризам дуэньи, которой и без того уделяют слишком много внимания.
— Сеньор, — отвечал я, — противясь желаниям Серафины, вы только рассердите ее. Я предпочитаю удалиться, для того чтобы не подавать дальнейшим своим пребыванием повода к несогласию столь идеальным супругам. Это было бы несчастьем, от которого я не утешился бы всю свою жизнь.
Дон Альфонсо запретил мне думать об этом намерении и был так тверд в своем решении меня поддержать, что Лоренса, безусловно, оказалась бы посрамленной, если б и я захотел настоять на своем. Так бы я и поступил, если б руководствовался только голосом мести. Правда, были минуты, когда, озлясь на дуэнью, я испытывал искушение отбросить всякую пощаду, но когда я думал о том, что, разоблачая ее позор, убиваю бедное создание, которому причинил зло и которому грозили смертью две неисцелимые болезни, то испытывал к Лоренсе одно только сострадание. Раз уж я являлся таким опасным человеком, то должен был, по совести, удалиться, чтоб восстановить спокойствие в замке, что я и выполнил на следующий день до зари, не простившись со своими господами из опасения, как бы они по дружбе ко мне не воспротивились моему уходу. Я удовольствовался тем, что оставил в своей комнате письмо, в котором представлял точный отчет относительно своего управления.
Яехал верхом на хорошей собственной лошади и вез в чемодане двести пистолей, большая часть которых состояла из денег, отнятых у убитых бандитов, и из моей доли в трех тысячах дукатов, украденных у Самуэля Симона. Дон Альфонсо оставил мне мою часть и вернул купцу всю сумму из своего кармана. Считая, что это возмещение легализировало мои права на дукаты Симона, я пользовался ими без малейших угрызений совести. Я обладал, таким образом, суммой, позволявшей мне не беспокоиться о будущем, а кроме того, уверенностью в своих талантах, присущей людям моего возраста. К тому же я рассчитывал найти в Толедо гостеприимное пристанище. Я не сомневался, что граф Полан сочтет за удовольствие достойно принять одного из своих спасителей и предоставить ему помещение у себя в доме. Но я смотрел на этого вельможу, как на последнее прибежище и решил, прежде чем обращаться к нему, истратить часть своих денег на путешествие по королевствам Мурсия и Гренада, которые мне особенно хотелось повидать. С этой целью я отправился в Альмансу, а оттуда, следуя по намеченному пути, поехал из города в город до Гренады, не подвергнувшись никаким неприятным происшествиям. Казалось, что фортуна, удовлетворившись теми злыми шутками, которые она сыграла со мной, пожелала, наконец, оставить меня в покое. Однако ничуть не бывало: она уготовила мне еще множество других, как читатель впоследствии увидит.
Одним из первых лиц, встреченных мною в Гренаде, был сеньор дон Фернандо де Лейва, приходившийся, как и дон Альфонсо, зятем графу Полану. Увидав друг друга, мы оба испытали одинаковое удивление.
— Как вы попали в этот город, Жиль Блас? — воскликнул он. — Что привело вас сюда?
— Сеньор, — отвечал я ему, — если вы удивлены, увидав меня здесь, то еще больше изумитесь, когда узнаете, что я покинул службу у сеньора дона Сесара и его сына.
Затем я рассказал ему без всякой утайки то, что произошло между мной и Сефорой. Он похохотал над этим от всей души, после чего сказал мне уже серьезным тоном:
— Друг мой, предлагаю вам свое посредничество в этом деле. Я напишу свояченице…
— Нет, нет, сеньор, — прервал я его, — не пишите, прошу вас. Я покинул замок Лейва не для того, чтобы туда возвращаться. Не откажите лучше проявить свое хорошее отношение ко мне в другом направлении. Если кто-либо из ваших друзей нуждается в секретаре или управителе, то заклинаю вас замолвить словечко в мою пользу. Никто из них, смею поручиться, не упрекнет вас за то, что вы рекомендовали ему шалопая.
— Весьма охотно исполню то, о чем вы меня просите, — отвечал он. — Я прибыл в Гренаду, чтоб навестить старую, больную тетку, и пробуду здесь еще три недели, после чего вернусь в замок Лорки, где меня ждет Хулия. Я живу вот в этом доме, — продолжал он, указывая на барские палаты, находившиеся в ста шагах от нас. — Наведайтесь через несколько дней: к этому времени я, быть может, разыщу вам подходящую службу.
Действительно, в первый же раз, как мы снова встретились, он сказал мне:
— Архиепископ гренадский, мой родственник и друг, желает иметь при себе человека, сведущего в литературе и обладающего хорошим почерком, дабы переписывать начисто его произведения. Мой дядя — известный проповедник: он составил не знаю уж сколько проповедей и сочиняет каждый день новые, которые произносит с большим успехом. Считая, что вы ему подойдете, я предложил вас на это место, и он согласился. Ступайте, представьтесь ему от моего имени; по приему, который он вам окажет, вы сможете судить о благоприятном отзыве, который я о вас дал.
Место мне показалось таким, лучше которого трудно было пожелать. Приготовившись с величайшей тщательностью предстать перед его высокопреосвященством, я однажды утром отправился в его палаты. Если б мне вздумалось подражать сочинителям романов, то я составил бы пышное описание архиепископского дворца в Гренаде: я распространился бы относительно архитектуры здания, расхвалил бы роскошь меблировки, поговорил бы о находившихся там статуях и не пощадил бы читателя изложением сюжетов всех висевших там картин. Но я буду краток и скажу только, что дворец этот превосходил великолепием дворцы наших королей.

Я застал в покоях целую толпу духовных и светских лиц, большинство которых принадлежало к штату монсиньора: эскудеро, камер-лакеи, идальго и священники его свиты. Все миряне были в роскошных одеждах: их можно было скорее принять за сеньоров, нежели за людей служилого сословия. Вид у них был напыщенный, и они корчили из себя важных бар. Глядя на них, я не мог удержаться от смеха и внутренне поиздевался над ними:
«Черт подери! — подумал я, — этих людей можно назвать счастливыми, так как они несут ярмо рабства, не замечая его. Если б они его чувствовали, то, пожалуй, не усвоили бы себе таких высокомерных повадок».

Я обратился к одной важной и дородной личности, которая дежурила у дверей архиепископского кабинета и назначение которой заключалось в том, чтоб отворять и затворять их, когда понадобится. На мой вежливый вопрос, нельзя ли поговорить с монсиньором, камер-лакей сухо ответил мне:
— Обождите здесь: его высокопреосвященство сейчас выйдут, чтоб отправиться к обедне, и дадут вам на ходу несколько минут аудиенции.
Я промолчал и, вооружившись терпением, попытался завязать разговор кое с кем из служителей; но они оглядели меня с головы до пят и не удостоили ответа, а затем, переглянувшись между собой, надменно усмехнулись над дерзостью человека, позволившего себе вступить с ними в беседу.
Мой приятель тотчас же соскочил с коня и кинулся обнимать барона, радость которого, казалось, не знала границ.
— Идемте, сын мой, — сказал затем этот добрый старец, — вы узнаете, кто вы, и насладитесь счастливой судьбой.
С этими словами он повел дона Альфонсо в замок, а я, спешившись и привязав лошадей, также отправился за ними. Первым лицом, которое мы встретили, оказался владелец замка. То был человек лет пятидесяти, весьма приятной наружности.
— Сеньор, — сказал барон Штейнбах, представляя ему дона Альфонсо, — вот ваш сын!
Услыхав это, дон Сесар де Лейва — так звали владельца замка — обнял дона Альфонсо и, плача от радости, сказал ему:
— Мой дорогой сын, перед вами тот, кому вы обязаны жизнью! Если я до сей поры скрывал от вас ваше происхождение, то, поверьте, это стоило мне немалых усилий. Тысячи раз вздыхал я от горя, но не мог поступить иначе. Я женился на вашей матушке по любви. Она была значительно менее знатного рода, чем я. Мне приходилось подчиняться власти сурового отца, и это заставляло меня держать в секрете брак, заключенный без его согласия. Один только барон Штейнбах был посвящен в тайну и воспитывал вас по уговору со мной. Отца моего теперь уже нет в живых, и я могу объявить вас своим единственным наследником. Но это еще не все, — добавил он. — Я намерен женить вас на молодой даме, не уступающей мне знатностью рода.
— О, сеньор, — прервал его дон Альфонсо, — не заставляйте меня заплатить слишком дорогой ценой за счастье, которое вы мне объявили. Неужели, узнав, что имею честь быть вашим сыном, я должен тут же услыхать о вашем решении сделать меня несчастным? Ах, сеньор, не будьте со мной более жестоки, чем был с вами мой дед. Если он и не одобрял сделанного вами выбора, то, по крайней мере, не заставлял вас вступать в брак против вашей воли.
— Сын мой, — возразил дон Сесар, — я вовсе не намерен насиловать ваши желания. Но соблаговолите взглянуть на даму, которую я вам предназначаю; это все, что я жду от вашего послушания. Хотя она очаровательна и представляет для вас весьма выгодную партию, я обещаю, что не буду принуждать вас к этому браку. Она сейчас находится в замке. Следуйте за мной; вы безусловно признаете, что нет на свете более обаятельного существа.

С этими словами он повел дона Альфонсо в покои замка, а я последовал за ними вместе с бароном Штейнбахом.
Там мы застали графа Полана с обеими его дочерьми, Серафиной и Хулией, а также дона Фернандо де Лейва, приходившегося племянником дону Сесару. Были еще и другие дамы и кавалеры. Дон Фернандо, как я уже говорил, похитил Хулию, и брак этих двух влюбленных был причиной празднества, на которое собрались окрестные крестьяне. Как только дон Альфонсо вошел и отец представил его обществу, граф Полан поднялся и, бросившись обнимать его, воскликнул:
— Приветствую своего избавителя!
— Дон Альфонсо, — продолжал он, обращаясь к нему, — узнайте, какою властью обладает добродетель над великодушными сердцами! Правда, вы убили моего сына, но зато спасли мне жизнь. Прощаю нанесенную нам обиду и отдаю вам Серафину, честь которой вы защитили. Этим я хочу отблагодарить вас за услугу.
Сын дона Сесара не преминул выразить графу Полану, сколь многим он обязан ему за его доброту, и я, право, не знаю, больше ли он радовался тому, что раскрыл тайну своего рождения, или тому, что собирался стать супругом Серафины. Действительно, брак этот состоялся через несколько дней, к величайшему удовольствию заинтересованных сторон.
Я был тоже одним из избавителей графа Полана, а потому вельможа, узнав меня, сказал, что берется обеспечить мою судьбу. Я поблагодарил его за великодушие, но не пожелал покинуть дона Альфонсо, который назначил меня управителем замка и почтил своим доверием. Терзаемый угрызениями совести за плутню, проделанную с Самуэлем Симоном, он тотчас же после свадьбы приказал мне отвезти этому купцу украденные у него деньги. Я отправился возмещать убытки и, таким образом, начал свою деятельность в качестве управителя с того, на чем иному надлежало бы ее кончить.

КНИГА СЕДЬМАЯ
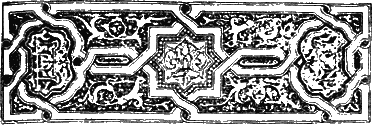
ГЛАВА I
О любви Жиль Бласа и сеньоры Лоренсы Сефоры
Итак, я отправился в Хельву отвозить нашему любезному Самуэлю Симону те три тысячи дукатов, которые мы у него украли. Признаюсь откровенно, что по дороге я испытал искушение присвоить себе эти деньги, чтоб начать свою службу под счастливой звездой. Я мог поживиться совершенно безнаказанно: стоило мне только попутешествовать дней пять-шесть и затем вернуться, сказав, что я выполнил поручение. Дон Альфонсо и его отец были обо мне слишком высокого мнения, чтоб заподозрить меня в недобросовестности. Все складывалось удачно. Но я не поддался искушению, могу даже сказать, что справился с ним, как честный человек, а это весьма похвально для юноши, побывавшего среди крупных мошенников. Многие люди, вращающиеся только в порядочном обществе, бывают не так щепетильны; в особенности могут кое-что порассказать об этом те, которые управляют чужими состояниями и имеют возможность легко присвоить их себе, не подрывая своей репутации.
Вернув купцу деньги, которые тот не чаял получить, я возвратился в замок Лейва. Графа Полана там уже не было: он отправился в Толедо вместе с Хулией и доном Фернандо. Я застал своего нового господина еще более влюбленным в Серафину, чем когда-либо, Серафину очарованной им, а дона Сесара в восторге от них обоих. Я постарался заслужить расположение этого нежного отца и успел в своем намерении. Став управителем замка, я распоряжался всем: принимал деньги от мызников, бел расходы и пользовался деспотической властью над лакеями, но, в противоположность мне подобным, не злоупотреблял своим могуществом. Я не прогонял слуг, которые мне не нравились, и не требовал от остальных, чтоб они всей душой были преданы господину управителю. Если они обращались непосредственно к дону Сесару или его сыну, чтоб испросить какую-нибудь милость, я никогда не ставил, им палки в колеса, а, напротив, ходатайствовал за них. Мои же господа непрестанно выказывали мне знаки своего благожелательства, подстрекавшего меня служить им с превеликим усердием. Всецело преданный их интересам, я Не допускал никакого плутовства в своем управлении: я был дворецким, какого с огнем не сыскать.
В то время как я радовался своему счастливому положению, Амур, как бы приревновав меня к Фортуне, пожелал, чтоб я был и ему чем-нибудь обязан: он зародил в сердце сеньоры Лоренсы Сефора, первой камеристки Серафины, пылкое чувство к господину управителю. Как правдивый историк, должен сказать, что моей жертве уже стукнуло пятьдесят. Но благодаря своей свежей коже, приятному лицу и черным глазам, которыми она умела искусно пользоваться, Лоренса могла еще сойти за некое подобие возлюбленной. Я пожелал бы ей, пожалуй, несколько больше румянца, ибо она была очень бледна, что я, впрочем, не преминул приписать подвигам безбрачия.
Моя дама долгое время заигрывала со мной при помощи взглядов, отражавших ее любовь; но вместо того чтобы отвечать на эти авансы, я притворился, будто не замечаю ее намерений. Это побудило ее принять меня за новичка в амурных делах, что отнюдь ее не разочаровало. Вообразив поэтому, что ей не следует ограничиваться языком глаз с молодым человеком, который казался ей менее просвещенным, чем был на самом деле, она при первой же нашей беседе объявила мне о своих чувствах с откровенностью, не допускавшей никаких сомнений. Взялась она за это, как женщина, прошедшая хорошую школу: вначале она прикинулась смущенной, а выложив мне все, что хотела, закрыла лицо руками и притворилась, будто стыдится своей слабости. Пришлось сдаться и, хотя мной руководила не столько страсть, сколько тщеславие, я выказал себя весьма умиленным этими знаками расположения. Я даже проявил настойчивость и так хорошо разыграл роль пылкого любовника, что навлек на себя упреки. Лоренса пожурила меня весьма ласково, но, проповедуя мне правила скромности, видимо, была не прочь, чтоб я их преступил. Я отважился бы и на большее, если бы красавица не побоялась уронить в моих глазах свою добродетель, разрешив мне слишком легкую победу. Таким образом, мы расстались в предвидении нового свидания: Сефора — убежденная, что ее притворное сопротивление побудило меня принять ее за весталку, я же — полный сладостной надежды вскоре благополучно завершить это приключение.
Дела мои, следовательно, обстояли отлично, когда один из лакеев дона Сесара сообщил мне весть, умерившую мою радость. Это был один из тех любопытных слуг, которые стараются разузнать все, что делается в доме. Он усердно ходил ко мне на поклон и угощал меня всякий день какими-либо новостями. И вот однажды утром он заявил мне, что сделал забавное открытие и готов поделиться им со мной, если я обещаю его не выдавать, так как дело касалось сеньоры Лоренсы Сефоры, которую он боялся прогневить. Мне слишком хотелось знать, что он скажет, а потому я посулил ему соблюдение таймы, но притворился при этом вполне равнодушным и спросил его, насколько мог хладнокровнее, в чем же заключалось открытие, которым он хотел меня полакомить.
— По вечерам, — сказал он, — Лоренса тайно впускает в свою горницу сельского фельдшера, весьма видного собой молодого человека, и этот прохвост не торопится от нее уходить. Готов поверить в невинность их свиданий, — добавил он с лукавым видом, — но вы, конечно, согласитесь, что когда такой молодчик тайком пробирается в покои девицы, то это бросает тень на ее репутацию.
Хотя это известие доставило мне такое же огорчение, как если б я был действительно влюблен, однако же я поостерегся выдать свои чувства; я даже принудил себя расхохотаться при этом донесении, которое переворачивало мне душу. Но, очутившись один, я вознаградил себя за свою выдержку. Я проклинал, ругался и ломал себе голову над тем, как поступить дальше. То презирая Лоренсу, я собирался бросить эту кокетку, не удостоив ее даже объяснения; то вообразив, что моя честь требует мщения, я мечтал вызвать костоправа на дуэль. Последнее решение одержало верх. Под вечер я засел в засаду и, действительно, увидал, как мой соперник с таинственным видом пробрался в комнату дуэньи. Это зрелище разожгло во мне бешенство, которое без того, быть может, улеглось бы само по себе. Выйдя из замка, я стал на дороге, по которой должен был пройти этот волокита, и принялся поджидать его с величайшей решительностью. Каждое мгновение усиливало мое желание драться. Наконец, враг появился. Я смело сделал несколько шагов ему навстречу; но тут, черт его знает почему, меня, точно какого-нибудь гомеровского героя, внезапно обуял такой страх, что я вынужден был остановиться, смутившись, как Парис, когда он вышел на бой с Менелаем. Взглянув на противника, я убедился, что он здоров и силен, к тому же его шпага показалась мне чрезмерной длины. Все это произвело на меня впечатление; но, несмотря на опасность, разраставшуюся в моих глазах, и на то, что мое естество подстрекало меня увильнуть от нее, чувство чести или что-либо другое одержало верх: у меня хватило смелости двинуться на фельдшера и обнажить шпагу.
Мое поведение изумило его.
— Что случилось, сеньор Жиль Блас? — воскликнул он. — К чему эти повадки странствующего рыцаря? Вы, видимо, изволите шутить?
— Нисколько, сеньор цирюльник, нисколько, — возразил я, — это вовсе не шутки. Я хочу знать, столь же ли вы храбры, как и галантны. Не надейтесь, что я позволю вам спокойно наслаждаться милостями дамы, которую вы тайком навещаете в замке.
— Клянусь св. Косьмой,
114 — отвечал фельдшер, заливаясь смехом, — вот забавное приключение! Черт подери! Видимость, действительно, бывает обманчива.
Заключив из этих слов, что у него было не больше охоты драться, чем у меня самого, я сразу обнаглел.
— Вот как, любезный? — прервал я его. — Не думайте, пожалуйста, что вам удастся отвертеться простым отрицанием фактов.
— Вижу, — отвечал он, — что придется все рассказать, дабы избегнуть несчастья, которое могло бы случиться с вами или со мной. А потому раскрою вам тайну, хотя людям моей профессии надлежит строго хранить чужие секреты. Если сеньора Лоренса проводит меня украдкой в свой покой, то только для того, чтоб скрыть от слуг недомогание, которым она страдает. У нее на спине застарелая злокачественная язва, которую я хожу врачевать каждый вечер. Вот причина моих посещений, возбудивших вашу тревогу. Можете поэтому совершенно успокоиться. Но если это объяснение вас не удовлетворяет, — продолжал он, — и вы непременно жаждете помериться со мной силами, то вам стоит только сказать: я не такой человек, чтоб отказать кому-либо в поединке.
С этими словами он обнажил свою длинную рапиру, повергшую меня в трепет, и стал в позицию с таким видом, который не предвещал ничего хорошего.
— Довольно, — сказал я ему, вкладывая шпагу в ножны, — не считайте меня забиякой, который не внемлет никаким резонам: после того, что я от вас слышал, вы мне больше не враг. Обнимемся!
Убедившись по этой речи, что я не такой злодей, каким сперва себя выказал, он тоже сунул шпагу в ножны и протянул мне руку, после чего мы расстались лучшими друзьями в мире.
С этого момента Сефора потеряла в моих глазах всякую привлекательность. Я избегал ее каждый раз, как она собиралась остаться со мной наедине, и делал это с такой стремительностью и нарочитостью, что она, наконец, догадалась. Удивившись столь решительной перемене, она пожелала узнать причину и, улучив подходящий момент, чтоб переговорить со мной с глазу на глаз, сказала:
— Сеньор управитель, объясните мне, ради создателя, почему вы даже не хотите взглянуть на меня. Вместо того чтоб, как раньше, искать случая побеседовать со мной, вы всячески стараетесь уклониться от этого. Правда, я сделала вам авансы, но вы на них ответили. Вспомните, пожалуйста, наш разговор наедине: вы весь пылали, а теперь вы как лед. Что это означает?
Вопрос этот, весьма щекотливый для откровенного человека, привел меня в немалое смущение. Не помню уже, какой ответ я дал этой даме, знаю только, что она осталась им весьма недовольна. По кроткому и скромному виду Лоренсы ее можно было принять за агнца, но в гневе она превращалась в настоящего тигра.
— Я думала, — сказала она, бросая на меня взгляд, полный досады и бешенства, — что, открывая вам свои чувства, которые польстили бы любому благородному кавалеру, я оказываю немалую честь такой ничтожной личности, как вы. Я здорово наказана за то, что снизошла до жалкого авантюриста.
Но она не остановилась на этом: мне не суждено было так легко отделаться. Ее язычок, подстрекаемый яростью, осыпал меня кучей всяких эпитетов, один сильнее другого. Мне следовало, разумеется, отнестись к ним с полным хладнокровием и подумать о том, что, пренебрегши победой над соблазненной мною добродетелью, я совершил преступление, которого женщины никогда не прощают. Но я был слишком экспансивен, чтоб стерпеть ругательства, над которыми благоразумный человек на моем месте только бы посмеялся. Мое терпение лопнуло, и я сказал ей:
— Сударыня, не будем никого презирать. Если бы благородные кавалеры, о которых вы говорите, увидали вашу спину, то они дальше бы не любопытствовали.
Не успел я выпустить этот заряд, как свирепая дуэнья закатила мне такую здоровенную пощечину, какой еще никогда не давала ни одна оскорбленная женщина. Я не стал ждать повторения и поспешно спасся бегством от града ударов, который, наверно, посыпался бы на меня.
Возблагодарив небо за то, что выскочил из этого неприятного дела, я уже почитал себя вне опасности, поскольку дама удовлетворила свою мстительность. Мне казалось, что в интересах своей чести она утаит это приключение: действительно, в течение двух недель все было тихо. Я уже и сам начинал о нем забывать, когда вдруг узнал, что дуэнья заболела. Эта весть огорчила мое доброе сердце. Я проникся жалостью к Лоренсе. Мне представилось, что моя несчастная возлюбленная стала жертвой безнадежной любви, с которой не смогла справиться. С прискорбием думал я о том, что являюсь причиной ее болезни, и, будучи не в силах ее полюбить, по крайней мере, питал к ней сострадание. Но как плохо я ее знал! Перейдя от страсти к ненависти, она только и помышляла о том, как бы мне повредить.
Однажды утром вошел я к дону Альфонсо и, застав этого молодого кавалера в грустном и задумчивом настроении, почтительно спросил его, чем он расстроен.
— Меня печалит, — сказал он, — что Серафина так несправедлива, безвольна и неблагодарна. Вы поражены, — добавил он, заметив, что я слушаю его с удивлением, — а между тем это так. Не знаю, какой повод для ненависти вы дали Лоренсе; во всяком случае, она вас совершенно не выносит и объявила, что непременно умрет, если вы немедленно не покинете замка. Не сомневайтесь в том, что вы дороги Серафине и что сперва она дала отпор этой неприязни, которой не может потворствовать, не выказав себя несправедливой и неблагодарной. Но в конце концов она — женщина и нежно любит Сефору, которая ее воспитала. Эта дуэнья была ей второй матерью, и она боится, как бы ей не пришлось упрекать себя в смерти Сефоры, если не исполнит ее просьбы. Что касается меня, то сколь я ни люблю Серафину, однако же никогда не проявлю такой постыдной слабости, чтоб разделять ее чувства в этом отношении. Пусть лучше погибнут все испанские дуэньи, прежде чем я соглашусь удалить человека, в котором вижу скорее брата, нежели слугу.
На это я отвечал дону Альфонсо:
— Сеньор, мне суждено быть игрушкой фортуны. Я рассчитывал, что она перестанет преследовать меня у вас, где все предвещало мне счастливые и спокойные дни. Придется, однако, примириться с изгнанием, как бы мне ни было приятно остаться здесь.
— Нет, нет, — воскликнул великодушный сын дона Сесара, — подождите, пока я урезоню Серафину. Пусть не говорят, что вас принесли в жертву капризам дуэньи, которой и без того уделяют слишком много внимания.
— Сеньор, — отвечал я, — противясь желаниям Серафины, вы только рассердите ее. Я предпочитаю удалиться, для того чтобы не подавать дальнейшим своим пребыванием повода к несогласию столь идеальным супругам. Это было бы несчастьем, от которого я не утешился бы всю свою жизнь.
Дон Альфонсо запретил мне думать об этом намерении и был так тверд в своем решении меня поддержать, что Лоренса, безусловно, оказалась бы посрамленной, если б и я захотел настоять на своем. Так бы я и поступил, если б руководствовался только голосом мести. Правда, были минуты, когда, озлясь на дуэнью, я испытывал искушение отбросить всякую пощаду, но когда я думал о том, что, разоблачая ее позор, убиваю бедное создание, которому причинил зло и которому грозили смертью две неисцелимые болезни, то испытывал к Лоренсе одно только сострадание. Раз уж я являлся таким опасным человеком, то должен был, по совести, удалиться, чтоб восстановить спокойствие в замке, что я и выполнил на следующий день до зари, не простившись со своими господами из опасения, как бы они по дружбе ко мне не воспротивились моему уходу. Я удовольствовался тем, что оставил в своей комнате письмо, в котором представлял точный отчет относительно своего управления.
ГЛАВА II
Что сталось с Жиль Бласом по уходе его из замка Лейва и о счастливых последствиях его неудачного любовного похождения
Яехал верхом на хорошей собственной лошади и вез в чемодане двести пистолей, большая часть которых состояла из денег, отнятых у убитых бандитов, и из моей доли в трех тысячах дукатов, украденных у Самуэля Симона. Дон Альфонсо оставил мне мою часть и вернул купцу всю сумму из своего кармана. Считая, что это возмещение легализировало мои права на дукаты Симона, я пользовался ими без малейших угрызений совести. Я обладал, таким образом, суммой, позволявшей мне не беспокоиться о будущем, а кроме того, уверенностью в своих талантах, присущей людям моего возраста. К тому же я рассчитывал найти в Толедо гостеприимное пристанище. Я не сомневался, что граф Полан сочтет за удовольствие достойно принять одного из своих спасителей и предоставить ему помещение у себя в доме. Но я смотрел на этого вельможу, как на последнее прибежище и решил, прежде чем обращаться к нему, истратить часть своих денег на путешествие по королевствам Мурсия и Гренада, которые мне особенно хотелось повидать. С этой целью я отправился в Альмансу, а оттуда, следуя по намеченному пути, поехал из города в город до Гренады, не подвергнувшись никаким неприятным происшествиям. Казалось, что фортуна, удовлетворившись теми злыми шутками, которые она сыграла со мной, пожелала, наконец, оставить меня в покое. Однако ничуть не бывало: она уготовила мне еще множество других, как читатель впоследствии увидит.
Одним из первых лиц, встреченных мною в Гренаде, был сеньор дон Фернандо де Лейва, приходившийся, как и дон Альфонсо, зятем графу Полану. Увидав друг друга, мы оба испытали одинаковое удивление.
— Как вы попали в этот город, Жиль Блас? — воскликнул он. — Что привело вас сюда?
— Сеньор, — отвечал я ему, — если вы удивлены, увидав меня здесь, то еще больше изумитесь, когда узнаете, что я покинул службу у сеньора дона Сесара и его сына.
Затем я рассказал ему без всякой утайки то, что произошло между мной и Сефорой. Он похохотал над этим от всей души, после чего сказал мне уже серьезным тоном:
— Друг мой, предлагаю вам свое посредничество в этом деле. Я напишу свояченице…
— Нет, нет, сеньор, — прервал я его, — не пишите, прошу вас. Я покинул замок Лейва не для того, чтобы туда возвращаться. Не откажите лучше проявить свое хорошее отношение ко мне в другом направлении. Если кто-либо из ваших друзей нуждается в секретаре или управителе, то заклинаю вас замолвить словечко в мою пользу. Никто из них, смею поручиться, не упрекнет вас за то, что вы рекомендовали ему шалопая.
— Весьма охотно исполню то, о чем вы меня просите, — отвечал он. — Я прибыл в Гренаду, чтоб навестить старую, больную тетку, и пробуду здесь еще три недели, после чего вернусь в замок Лорки, где меня ждет Хулия. Я живу вот в этом доме, — продолжал он, указывая на барские палаты, находившиеся в ста шагах от нас. — Наведайтесь через несколько дней: к этому времени я, быть может, разыщу вам подходящую службу.
Действительно, в первый же раз, как мы снова встретились, он сказал мне:
— Архиепископ гренадский, мой родственник и друг, желает иметь при себе человека, сведущего в литературе и обладающего хорошим почерком, дабы переписывать начисто его произведения. Мой дядя — известный проповедник: он составил не знаю уж сколько проповедей и сочиняет каждый день новые, которые произносит с большим успехом. Считая, что вы ему подойдете, я предложил вас на это место, и он согласился. Ступайте, представьтесь ему от моего имени; по приему, который он вам окажет, вы сможете судить о благоприятном отзыве, который я о вас дал.
Место мне показалось таким, лучше которого трудно было пожелать. Приготовившись с величайшей тщательностью предстать перед его высокопреосвященством, я однажды утром отправился в его палаты. Если б мне вздумалось подражать сочинителям романов, то я составил бы пышное описание архиепископского дворца в Гренаде: я распространился бы относительно архитектуры здания, расхвалил бы роскошь меблировки, поговорил бы о находившихся там статуях и не пощадил бы читателя изложением сюжетов всех висевших там картин. Но я буду краток и скажу только, что дворец этот превосходил великолепием дворцы наших королей.

Я застал в покоях целую толпу духовных и светских лиц, большинство которых принадлежало к штату монсиньора: эскудеро, камер-лакеи, идальго и священники его свиты. Все миряне были в роскошных одеждах: их можно было скорее принять за сеньоров, нежели за людей служилого сословия. Вид у них был напыщенный, и они корчили из себя важных бар. Глядя на них, я не мог удержаться от смеха и внутренне поиздевался над ними:
«Черт подери! — подумал я, — этих людей можно назвать счастливыми, так как они несут ярмо рабства, не замечая его. Если б они его чувствовали, то, пожалуй, не усвоили бы себе таких высокомерных повадок».

Я обратился к одной важной и дородной личности, которая дежурила у дверей архиепископского кабинета и назначение которой заключалось в том, чтоб отворять и затворять их, когда понадобится. На мой вежливый вопрос, нельзя ли поговорить с монсиньором, камер-лакей сухо ответил мне:
— Обождите здесь: его высокопреосвященство сейчас выйдут, чтоб отправиться к обедне, и дадут вам на ходу несколько минут аудиенции.
Я промолчал и, вооружившись терпением, попытался завязать разговор кое с кем из служителей; но они оглядели меня с головы до пят и не удостоили ответа, а затем, переглянувшись между собой, надменно усмехнулись над дерзостью человека, позволившего себе вступить с ними в беседу.
