Страница:
Старик тут же налил капли своего эликсира в мою бутылку, отчего вино сделалось лучше самых тонких вин, которые распивают в Испании.
Чудеса поражают воображение, а когда оно разыграется, то человек перестает руководствоваться разумом. Очарованный поразительным секретом и убежденный в сверхдьявольских способностях его изобретателя, я воскликнул восторженно:
— Ради бога, отче, простите меня, если я сперва принял вас за старого безумца! Отдаю вам теперь полную справедливость. Я и без дальнейших доказательств верю, что вы можете, если захотите, превратить железный брус в слиток золота. Сколь я был бы счастлив, если б постиг эту дивную науку!
— Упаси вас господь! — прервал меня старец с глубоким вздохом. — Вы не ведаете, сын мой, о чем мечтаете. Вместо того чтоб завидовать, вы лучше пожалейте меня, ибо я затратил много трудов для того, чтоб сделать самого себя несчастным. Я нахожусь в постоянной тревоге и боюсь, как бы не проведали о моей тайне и не заточили меня навеки вечные в награду за все мои страдания. Опасаясь этого, я веду бродячий образ жизни, то переряженный патером или монахом, то кавалером или крестьянином. Можно ли назвать преимуществом умение делать золото, купленное столь дорогой ценой, и не является ли оно скорее мукой для тех, кто не может пользоваться им спокойно?
— Вы рассуждаете, по-моему, весьма здраво, — сказал я тогда философу. — Ничто не может сравниться со спокойствием. Вы возбудили во мне отвращение к философскому камню, а потому я вполне удовольствуюсь, если вы не откажетесь Предсказать мне мою судьбу.
— Весьма охотно, дитя мое, — возразил он. — Я уже исследовал ваше лицо. Теперь покажите ладонь.
Я протянул ему руку с полным доверием, за что меня, наверно, осудят некоторые читатели, которые, быть может, поступили бы точно так же на моем месте. Он внимательно осмотрел ее и затем воскликнул с восторгом:
— Ого, сколько переходов от горя к радости и от радости к горю! Какая курьезная чехарда злоключений и благополучии. Но вы уже испытали большую часть превратностей фортуны. Впредь вы избавлены от всех несчастий, и один благожелательный сеньор устроит вашу судьбу, которой не будут уже грозить никакие перемены.
Заверив меня, что я могу положиться на его пророчество, он распрощался со мной и покинул трактир, оставив меня погруженным в раздумье по поводу того, что мне довелось от него услышать. Я не сомневался, что пресловутым благожелательным сеньором окажется не кто иной, как маркиз де Мариальва, а поэтому считал предсказанное вполне вероятным. Но будь оно даже совершенно несуразным, это не помешало бы мне поверить мнимому монаху, ибо он совершенно заворожил меня своим эликсиром. Желая, со своей стороны, способствовать осуществлению того счастья, которое он мне посулил, я решил служить маркизу еще с большим рачением, чем всем своим прежним господам. Приняв такое намерение, я с превеликой радостью вернулся в нашу гостиницу; никогда еще ни одна женщина не выходила от ворожеи преисполненной таким довольством.
Маркиз еще не изволил вернуться от своей комедиантки, и я застал в его покоях камердинеров, которые в ожидании его возвращения забавлялись игрой в приму. Я познакомился с ними, и мы скоротали время в шутках до двух часов пополуночи, пока не приехал наш барин. Он несколько удивился, увидев меня, и сказал мне добродушным тоном, свидетельствовавшим о том, что он остался весьма доволен проведенным им вечером:
— Как, Жиль Блас, вы еще не спите?
Я отвечал, что хотел сперва спросить, нет ли каких приказаний.
— Возможно, — заметил он, — что я завтра утром дам вам одно поручение, но вы еще успеете тогда узнать мои намерения. Ложитесь спать и знайте, что я освобождаю вас от обязанности дожидаться меня по вечерам: мне нужны только камердинеры.
Обрадовавшись такому распоряжению, которое избавляло меня от дежурств, иногда казавшихся мне тягостными, я покинул апартаменты маркиза и отправился на свой чердак, где улегся в постель. Но, не будучи в состоянии уснуть, я последовал совету Пифагора,
131который рекомендует вспоминать по вечерам то, что мы делали в течение дня, дабы хвалить себя за хорошие поступки и хулить за дурные.
Совесть моя была не настолько чиста, чтоб я был доволен собой. Меня мучило содействие, оказанное мной Лауриной проделке. Тщетно оправдывал я себя тем, что вежливость не позволяла мне уличить во лжи особу, ратовавшую только о моем благе, и что я некоторым образом был вынужден стать соучастником плутовства; ко, неудовлетворенный этими извинениями, я отвечал сам себе, что мне не следует продолжать эту плутню и что я буду бесстыднейшим человеком, если останусь служить у сеньора, которому так дурно заплатил за его доверие ко мне. Наконец, по строгом рассмотрении дела, я пришел к убеждению, что если я не мошенник, то во всяком случае мало чем от него отличаюсь.
Перейдя затем к последствиям, я решил, что веду опасную игру, обманывая знатного сеньора, который, в наказание за мои грехи, рано или поздно проведает о нашей проделке. Эти разумные рассуждения вселили в меня некоторый страх, но вскоре мысли об удовольствиях и наживе рассеяли его. Впрочем, одних предсказаний владельца эликсира было достаточно, чтоб меня успокоить. А потому я погрузился в приятные мечты и занялся арифметическими вычислениями, высчитывая мысленно сумму, которую я скоплю из своего оклада после десятилетней службы. Я присоединил сюда наградные, которые барин мне пожалует, и, сообразуя их с его щедрым правом или, вернее, с моими желаниями, проявил такую — с позволения сказать — необузданную фантазию, что мои богатства оказались несметными. Такое изобилие благ мало-помалу усыпило меня, и я заснул, строя воздушные замки.
На следующий день я встал около восьми часов, чтоб отправиться к патрону за приказаниями, но, открыв свою дверь, был крайне изумлен, когда увидал его перед собой в шлафроке и ночном колпаке. Он был один.
— Жиль Блас, — сказал мне маркиз, — покидая вчера вечером твою сестру, я обещал провести с ней сегодняшнее утро; но важное дело мешает мне сдержать свое слово. Пойди к ней и скажи, что я весьма раздосадован этой помехой, но Что я обязательно буду ужинать у нее вечером. Это еще не все, — промолвил он, вручая мне кошелек и маленький шагреневый футляр, усыпанный брильянтами, — отнеси ей мой портрет и возьми себе этот кошелек с пятьюдесятью пистолями, как знак расположения, которое я уже к тебе питаю.
Я взял одной рукой портрет, а другой кошелек, столь мало мною заслуженный, и не медля помчался к Лауре, говоря самому себе в порыве чрезмерной радости:
«Превосходно! Пророчество, видимо, сбывается. Какое счастье быть братцем пригожей и любвеобильной девицы. Жаль только, что это приносит больше выгоды и удовольствия, чем чести».
В противоположность особам своего ремесла, Лаура имела обыкновение вставать спозаранку. Я застал ее за уборным столиком, где она в ожидании своего португальца прибавляла к своей естественной красоте все вспомогательные чары, изобретенные искусством кокеток.
— Любезная Эстрелья, магнит чужеземцев, — сказал я входя, — отныне ничто не препятствует мне кушать за одним столом с моим господином, ибо он почтил меня поручением, которое дает мне эту привилегию и для выполнения коего я сюда пришел. Планы сеньора маркиза расстроились, и он лишен сегодня утром удовольствия беседовать с вами, но для вашего утешения он отужинает здесь вечером и посылает вам свой портрет, к коему, сдается мне, приложено нечто еще более утешительное.
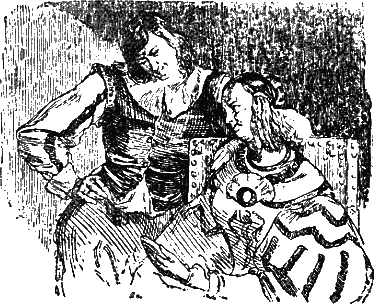
Я тут же вручил Лауре футляр, и созерцание великолепной игры брильянтов, которыми он был украшен, доставило ей немалое удовольствие. Она открыла его, потом, небрежно взглянув на живопись, захлопнула и заговорила о драгоценных камнях. Похвалив их красоту, она сказала мне с улыбкой:
— Да, такие портреты театральные дивы ценят больше оригиналов.
Затем я сообщил ей, что, передавая мне это подношение, щедрый португалец наградил меня кошельком с пятьюдесятью пистолями.
— Поздравляю тебя, — сказала она. — Этот сеньор начинает с того, чем другие даже редко кончают.
На это я ответил ей:
— Вам, моя обожаемая, обязан я этим подарком. Маркиз пожаловал мне его только благодаря нашему родству.
— Мне хотелось бы, — промолвила она, — чтоб он жаловал тебя так всякий день. Не могу тебе выразить, сколь ты мне дорог! С первой нашей встречи я привязалась к тебе такими прочными узами, что время не смогло их разрушить. После того как мы расстались в Мадриде, я не отчаялась разыскать тебя, и когда ты вчера явился, то встретилась с тобой, как с человеком, который неизбежно должен был ко мне вернуться. Словом, мой милый, небо предназначило нас друг для друга. Ты будешь моим мужем, но сперва нам следует разбогатеть. Осторожность требует, чтоб мы с этого начали. Мне нужны еще три-четыре любовных интриги, и твое благополучие будет обеспечено.
Я вежливо поблагодарил ее за хлопоты, которые она готова была предпринять ради меня, и мы незаметно проболтали до полудня. Затем я удалился, чтоб доложить своему господину, как приняла его фея присланный им гостинец. Хотя Лаура не снабдила меня в этом отношении никакими инструкциями, я не преминул сочинить по дороге изрядный комплимент, который собирался передать маркизу от ее имени. Но это был потерянный труд, ибо в гостинице мне сказали, что мой господин только что вышел, и судьбе было угодно, чтоб я больше никогда его не видал, как читатель узнает из следующей главы.
Янаправился в свой трактир, где, встретив двух приятных собеседников, пообедал и просидел с ними за столом до начала комедии. Затем мы расстались. Они пошли по своим делам, а я побрел в театр. Замечу мимоходом, что у меня были все основания для хорошего настроения: моя беседа с кавалерами носила самый веселый характер, а фортуна улыбалась мне, как никогда. Между тем меня разбирала тоска, от которой я не мог отделаться. Пусть говорят после этого, что человек не предчувствует угрожающих ему несчастий.
Как только я заглянул в артистическую, ко мне подошел Мелькиор Сапата и шепотом пригласил следовать за собой. Он отвел меня в один из уединенных уголков театра и обратился ко мне с такою речью:
— Сеньор кавальеро, считаю своим долгом сделать вам весьма важное сообщение. Вы, конечно, знаете, что маркиз де Мариальва сперва увлекся моей супругой Нарсисой; он даже назначил день, чтоб отведать моего пирога, но хитрая Эстрелья расстроила это свидание и сама пленила португальского сеньора. Вы понимаете, что комедиантка не выпустит такой добычи с легким сердцем. Моя жена не может этого простить и способна на любую месть. На ваше несчастье, ей как раз представился хороший случай. Вчера, как вы помните, наши театральные служители сбежались посмотреть на вас. Подсчикатель свеч заявил кой-кому из труппы, что он вас узнал и что вы такой же брат Эстрельи, как он сам.
Сплетня, — продолжал Мелькиор, — дошла сегодня до ушей Нарсисы, которая не преминула порасспросить ее автора, а тот подтвердил ей сказанное. По его словам, он знавал вас в то время, когда вы были лакеем у Арсении, а Эстрелья под именем Лауры служила у нее же в Мадриде. Моя жена, обрадованная этим открытием, уведомит обо всем маркиза де Мариальва, который должен сегодня вечером быть в театре. Примите это к сведению, и если вы на самом деле не брат Эстрельи, то советую вам по дружбе, а также в память нашего старинного знакомства, позаботиться о своей безопасности. Нарсиса, которая требует только одной жертвы, позволила мне уведомить вас об этом, дабы вы успели поспешным бегством предупредить могущие произойти роковые события.
Ему не к чему было распространяться далее на эту тему. Я поблагодарил за предупреждение гистриона, легко догадавшегося по моему испуганному виду, что я не стану уличать во лжи подсчикателя. И, действительно, у меня не было ни малейшего желания нагло упорствовать. Я даже не подумал зайти на прощание к Лауре из опасения, как бы она не заставила меня разыграть нахала. Не могло быть сомнений, что такая прекрасная комедиантка, как моя сестрица, сумеет выпутаться из затруднительного положения, но для себя я предвидел неминуемую кару и не испытывал такой влюбленности, чтоб презреть опасность. Все мои помыслы были направлены только на то, чтоб убежать со своими пенатами, т. е. пожитками. Я исчез из гостиницы в мгновение ока и распорядился молниеносно вынести и переправить свой чемодан к погонщику мулов, который должен был в три часа поутру отправиться в Толедо. Мне хотелось тотчас же очутиться у графа Полана, дом которого казался мне единственным надежным убежищем. Но до него было еще далеко, и я с трепетом думал о том, что мне предстоит провести немало времени в этом городе, где, быть может, меня начнут разыскивать в ту же ночь.
Тем не менее, я отправился ужинать в свой трактир, хотя испытывал не меньшее беспокойство, чем должник, знающий, что альгвасил гонится за ним по пятам. Не думаю, чтоб съеденная мной в этот вечер пища дала надлежащий питательный сок моему желудку. Став жалкой игрушкой страха, я вглядывался во всех входящих и дрожал от ужаса всякий раз, как обнаруживал какую-нибудь подозрительную физиономию, каковое не редкость в таких местах. Отужинав в непрестанной тревоге, я встал из-за стола и вернулся к погонщику, где улегся на свежей соломе в ожидании отъезда.
Смею сказать, что в эту ночь терпение мое подверглось тяжелому испытанию. Меня осаждали тысячи неприятных мыслей. Всякий раз, как мне удавалось вздремнуть, я видел взбешенного маркиза, который полосовал прекрасное лицо Лауры и производил в ее жилище полный разгром или приказывал своим челядинцам бить меня палками до смерти. Тут я просыпался, и пробуждение, обычно столь приятное после кошмара, становилось для меня мучительнее, чем самый сон.
К счастью, погонщик избавил меня от этого тягостного состояния, объявив, что мулы поданы. Я тотчас же вскочил на ноги и, благодарение богу, выехал, наконец, из города, навсегда излечившись от любви к Лауре и от хиромантии. По мере того как мы удалялись от Гренады, у меня становилось спокойнее на душе. Я вступил в беседу с погонщиком, хохотал по поводу нескольких забавных историй, которые он мне рассказал, и незаметно утерял всякий страх. В Убеде, где мы ночевали после первого перегона, я заснул мирным сном, а на четвертый день мы прибыли в Толедо.
Первым делом я спросил, где живет граф Полан, и отправился к нему в полной уверенности, что он не позволит мне остановиться нигде, кроме как у него. Но счет сей сделан был без хозяина. В палатах оказался только привратник, сообщивший мне, что его господин выехал накануне в замок Лейва, так как оттуда пришло известие об опасной болезни Серафины.
Я этого не ожидал. Отсутствие графа несколько омрачило мое пребывание в Толедо и побудило меня переменить свое намерение. До Мадрида было недалеко, а потому я решил отправиться туда. Мне казалось, что я сумею сделать карьеру при дворе, где для этого, как мне говорили, вовсе не требуется быть непременно гением. На следующий день я воспользовался лошадью, возвращавшейся порожняком, и таким способом добрался до столицы Испании. Меня влекла туда сама фортуна, предназначавшая мне более важные роли, чем те, которыми она до сих пор меня наделяла.
По приезде своем в Мадрид, я тотчас же пристал в меблированных комнатах, где в числе прочих постояльцев жил один старый капитан, приехавший с окраин Новой Кастилии, чтоб хлопотать при дворе о пенсии, которую он, по его мнению, вполне заслужил. Его звали дон Анибал де Чинчилья. Увидав его впервые, я даже пришел в некоторое изумление. Это был человек лет шестидесяти, гигантского роста, но исключительной худобы. Он носил густые и закрученные вверх усы, которые доходили ему с обеих сторон до самых висков. У него не только не хватило руки и ноги, но, кроме того, широкая повязка из зеленой тафты прикрывала ему недостающий глаз, а лицо в нескольких местах казалось покрыто шрамами. В остальном же капитан ничем не отличался от прочих людей и мог сойти не только за рассудительного, но и за весьма серьезного человека. Он строго придерживался кодекса морали и был особенно щепетилен в вопросах чести.
После двух-трех бесед Чинчилья почтил меня своим доверием. Вскоре я был в курсе всех его дел. Он рассказал мне, при каких обстоятельствах потерял глаз в Неаполе, руку в Ломбардии и ногу в Нидерландах. Больше всего я дивился тому, что, повествуя о баталиях и осадах, он не позволял себе никакого фанфаронства, ни малейшего хвастовства, хотя, видит бог, я охотно простил бы ему, если б в возмещение за утерянную половину тела он стал восхвалять ту, которая ему осталась. Далеко не все офицеры, возвращающиеся с войны целыми и невредимыми, бывают такими скромниками.
По его словам, он особенно тяготился тем, что во время походов прожил крупное состояние и принужден был существовать на доход в сто дукатов, едва хватавший на завивку усов, оплату квартиры и на переписку челобитных.
— Ибо, сеньор кавальеро, — добавил он, пожимая плечами, — видит бог, я подаю их каждый день, но никто не обращает на них ни малейшего внимания. Можно подумать, что мы побились об заклад с первым министром, кому из нас скорее надоест: мне ли подавать или ему принимать мои челобитные. Я также имею честь зачастую вручать оные королю; но каков слуга, таков и барин, а тем временем мой замок Чинчилья превращается в развалины, так как мне не на что его чинить.
— Никогда не надо отчаиваться, — отвечал я на это капитану. — Вы знаете, что обычно приходится немного повременить, когда добиваешься высочайших милостей. Возможно однако, что недалек час, когда вам сторицей воздается за все ваши труды и старания.
— Не смею льстить себя такой надеждой, — возразил Анибал. — Не прошло еще трех дней, как я беседовал с одним из секретарей министра, и если его послушать, то мне необходимо запастись терпением.
— А что он сказал вам, сеньор капитан? — спросил я. — Неужели вы, по его мнению, недостойны награды за понесенные вами увечья?
— Рассудите сами, — отвечал Чинчилья. — Этот секретарь заявил мне без обиняков: «сеньор идальго, не старайтесь превозносить свое усердие и свою преданность; рискуя жизнью за родину, вы только исполнили свой долг. Слава, сопровождающая подвиги доблести, является сама по себе достойной наградой и должна доставлять удовлетворение, в особенности испанцу. А потому перестаньте заблуждаться и рассматривать, как чей-то долг, пенсию, о которой вы хлопочете. Если вам ее пожалуют, то вы будете обязаны этой милостью исключительно великодушию нашего короля, которому угодно почитать себя в долгу перед теми подданными, кто служил государству верой и правдой». Из сего, — добавил капитан, — можете усмотреть, что я, чего доброго, еще сам в долгу перед родиной и что мне придется уехать отсюда с тем, с чем я приехал.
Невозможно равнодушно отнестись к порядочному человеку, когда видишь, что он в нужде. Я убеждал капитана не терять бодрости и предложил ему переписывать безвозмездно его челобитные. Не довольствуясь этим, я предоставил в его распоряжение свой кошелек и заклинал его взять оттуда, сколько ему потребуется. Но он был не из тех людей, которые в таких случаях хватаются за деньги, не дожидаясь вторичного приглашения. Напротив, выказав себя крайне щепетильным в этих делах, капитан гордо поблагодарил меня за мою предупредительность. Затем он поведал мне, что, не желая ни у кого одолжаться, он постепенно приучил себя довольствоваться столь малым, что даже самого ничтожного количества пищи было достаточно, чтоб его насытить. Это оказалось правдой: он питался исключительно чесноком и луком, а потому от него осталась только кожа да кости. Желая избежать свидетелей, он обычно запирался для этих скудных трапез в своей комнате. Все же мне удалось в конце концов упросить его, чтоб мы обедали и ужинали вместе, и, пустившись из сочувствия к нему на хитрость, я обманул его гордость, заказав гораздо больше мяса и вина, чем мне самому требовалось, и усиленно уговаривая его отведать и того и другого. Сперва он церемонился, но в конце концов уступил моим настояниям, после чего, постепенно осмелев, помог мне сам очистить блюдо и опорожнить бутылку.
Выпив четыре-пять стаканов вина и ублажив свой желудок хорошей пищей, он сказал, повеселев:
— Вы великий соблазнитель, сеньор Жиль Блас, и заставляете меня делать все, что вам угодно. У вас такие обходительные манеры, что я уже больше не боюсь злоупотребить вашим великодушием.
Мой капитан, казалось, был в ту минуту настолько далек от своей щепетильности, что если б я пожелал воспользоваться моментом и снова предложить ему свой кошелек, то он, вероятно, не отказался бы. Но я не подверг его этому испытанию и удовольствовался тем, что сделал его своим сотрапезником и взялся не только переписывать, но и составлять вместе с ним его челобитные. Наловчившись в переписке проповедей, я научился гладко строить фразы, и сам стал чем-то вроде сочинителя. Старый служака, со своей стороны, мнил себя великим мастером по письменной части, так что, соревнуясь при совместной работе, мы составляли образчики витийства, достойные знаменитейших саламанкских профессоров. Но мы тщетно истощали свой дух, рассыпая по челобитным цветы красноречия: это было, как говорится, равносильно тому, чтоб сеять семя при дороге.
132Как мы ни изловчались, выставляя в должном свете заслуги дона Анибала, двор не обращал на это никакого внимания, что отнюдь не поощряло старого инвалида отзываться с похвалой об офицерах, разоряющихся на военной службе. Под влиянием дурного настроения он проклинал свою судьбу и посылал ко всем чертям Неаполь, Ломбардию и Нидерланды.
В довершение обиды случилось как-то, что поэт, представленный герцогом Альбой, прочитал в присутствии короля сонет на рождение инфанты и был пожалован, как бы на зло капитану, пенсией в пятьсот дукатов. Мой искалеченный капитан, пожалуй, сошел бы от этого с ума, если б я не постарался его успокоить.
— Что с вами? — спросил я, видя, что он вне себя. — Тут нет ничего такого, что должно было бы вас возмущать. Разве поэты не владеют с незапамятных времен даром превращать государей в данников их музы? Нет такой коронованной особы, у которой не было бы нескольких таких пенсионеров. И, между нами говоря, такого рода пенсии, редко забываемые грядущими поколениями, увековечивают щедрость монархов, тогда как другие раздаваемые ими награждения зачастую ничего не прибавляют к их славе. Сколько наград роздал Август, сколько пенсий, о которых мы ничего не знаем! Но даже самые отдаленные потомки будут помнить так же твердо, как мы, что этот император пожаловал Виргилию свыше двухсот тысяч эскудо.
Но как я ни убеждал его, плоды, пожатые стихоплетом от его сонета, легли свинцовым комом на желудок дона Анибала, и, не будучи в состоянии этого переварить, он решил бросить хлопоты. Все же ему хотелось перед отъездом сделать еще одну последнюю попытку, и он подал челобитную герцогу Лерме.
133С этой целью мы вдвоем отправились к первому министру и встретили у него молодого человека, который, поклонившись капитану, сказал ему приветливо:
— Вас ли я вижу, мой дорогой барин? Какое дело привело вас к их светлости? Если вам нужен человек, пользующийся влиянием, то, прошу вас, не стесняйтесь: я весь к вашим услугам.
— Как, Педрильо! — воскликнул офицер. — Судя по вашим словам, выходит, что вы важная шишка в этом доме?
— Во всяком случае, — возразил молодой человек, — я достаточно влиятелен, чтоб оказать одолжение такому достойному идальго, как вы.
— Коли так, — промолвил капитан улыбаясь, — то я прибегну к вашему покровительству.
— Готов вам его оказать, — отвечал Педрильо. — Соблаговолите только сказать мне, о чем идет речь, и обещаю вам, что с моей помощью вы выжмете из министра все, что захотите.
Не успели мы изложить этому услужливому малому обстоятельства нашего дела, как он осведомился, где живет дон Анибал, а затем, посулив завтра же дать нам ответ, исчез, не сообщив ни того, что именно он собирается предпринять, ни состоит ли вообще на службе у герцога Лермы. Я полюбопытствовал узнать, кто такой Педрильо, так как он показался мне человеком весьма смышленым.
— Этот малый, — сказал капитан, — был моим слугой несколько лет тому назад, но, видя мою бедность, ушел от меня, чтоб найти более выгодное место. Я не сержусь на него за это, ибо естественно менять худшее на лучшее. Педрильо не лишен сметки и такой интриган, что заткнет за пояс любого черта. Но, несмотря на его оборотистость, я не очень рассчитываю на усердие, которое он мне только что выказал.
— Возможно, — возразил я, — что он все же окажется вам полезен. Представьте себе, например, что он состоит при ком-нибудь из приближенных герцога. Как вы знаете, у великих людей мира сего все делается с помощью происков и интриг; у них имеются любимцы, которые ими управляют, а этими, в свою очередь, управляют их лакеи.
Чудеса поражают воображение, а когда оно разыграется, то человек перестает руководствоваться разумом. Очарованный поразительным секретом и убежденный в сверхдьявольских способностях его изобретателя, я воскликнул восторженно:
— Ради бога, отче, простите меня, если я сперва принял вас за старого безумца! Отдаю вам теперь полную справедливость. Я и без дальнейших доказательств верю, что вы можете, если захотите, превратить железный брус в слиток золота. Сколь я был бы счастлив, если б постиг эту дивную науку!
— Упаси вас господь! — прервал меня старец с глубоким вздохом. — Вы не ведаете, сын мой, о чем мечтаете. Вместо того чтоб завидовать, вы лучше пожалейте меня, ибо я затратил много трудов для того, чтоб сделать самого себя несчастным. Я нахожусь в постоянной тревоге и боюсь, как бы не проведали о моей тайне и не заточили меня навеки вечные в награду за все мои страдания. Опасаясь этого, я веду бродячий образ жизни, то переряженный патером или монахом, то кавалером или крестьянином. Можно ли назвать преимуществом умение делать золото, купленное столь дорогой ценой, и не является ли оно скорее мукой для тех, кто не может пользоваться им спокойно?
— Вы рассуждаете, по-моему, весьма здраво, — сказал я тогда философу. — Ничто не может сравниться со спокойствием. Вы возбудили во мне отвращение к философскому камню, а потому я вполне удовольствуюсь, если вы не откажетесь Предсказать мне мою судьбу.
— Весьма охотно, дитя мое, — возразил он. — Я уже исследовал ваше лицо. Теперь покажите ладонь.
Я протянул ему руку с полным доверием, за что меня, наверно, осудят некоторые читатели, которые, быть может, поступили бы точно так же на моем месте. Он внимательно осмотрел ее и затем воскликнул с восторгом:
— Ого, сколько переходов от горя к радости и от радости к горю! Какая курьезная чехарда злоключений и благополучии. Но вы уже испытали большую часть превратностей фортуны. Впредь вы избавлены от всех несчастий, и один благожелательный сеньор устроит вашу судьбу, которой не будут уже грозить никакие перемены.
Заверив меня, что я могу положиться на его пророчество, он распрощался со мной и покинул трактир, оставив меня погруженным в раздумье по поводу того, что мне довелось от него услышать. Я не сомневался, что пресловутым благожелательным сеньором окажется не кто иной, как маркиз де Мариальва, а поэтому считал предсказанное вполне вероятным. Но будь оно даже совершенно несуразным, это не помешало бы мне поверить мнимому монаху, ибо он совершенно заворожил меня своим эликсиром. Желая, со своей стороны, способствовать осуществлению того счастья, которое он мне посулил, я решил служить маркизу еще с большим рачением, чем всем своим прежним господам. Приняв такое намерение, я с превеликой радостью вернулся в нашу гостиницу; никогда еще ни одна женщина не выходила от ворожеи преисполненной таким довольством.
ГЛАВА X
О поручении, которое маркиз де Мариальва дал Жиль Бласу, и о том, как выполнил поручение этот верный секретарь
Маркиз еще не изволил вернуться от своей комедиантки, и я застал в его покоях камердинеров, которые в ожидании его возвращения забавлялись игрой в приму. Я познакомился с ними, и мы скоротали время в шутках до двух часов пополуночи, пока не приехал наш барин. Он несколько удивился, увидев меня, и сказал мне добродушным тоном, свидетельствовавшим о том, что он остался весьма доволен проведенным им вечером:
— Как, Жиль Блас, вы еще не спите?
Я отвечал, что хотел сперва спросить, нет ли каких приказаний.
— Возможно, — заметил он, — что я завтра утром дам вам одно поручение, но вы еще успеете тогда узнать мои намерения. Ложитесь спать и знайте, что я освобождаю вас от обязанности дожидаться меня по вечерам: мне нужны только камердинеры.
Обрадовавшись такому распоряжению, которое избавляло меня от дежурств, иногда казавшихся мне тягостными, я покинул апартаменты маркиза и отправился на свой чердак, где улегся в постель. Но, не будучи в состоянии уснуть, я последовал совету Пифагора,
131который рекомендует вспоминать по вечерам то, что мы делали в течение дня, дабы хвалить себя за хорошие поступки и хулить за дурные.
Совесть моя была не настолько чиста, чтоб я был доволен собой. Меня мучило содействие, оказанное мной Лауриной проделке. Тщетно оправдывал я себя тем, что вежливость не позволяла мне уличить во лжи особу, ратовавшую только о моем благе, и что я некоторым образом был вынужден стать соучастником плутовства; ко, неудовлетворенный этими извинениями, я отвечал сам себе, что мне не следует продолжать эту плутню и что я буду бесстыднейшим человеком, если останусь служить у сеньора, которому так дурно заплатил за его доверие ко мне. Наконец, по строгом рассмотрении дела, я пришел к убеждению, что если я не мошенник, то во всяком случае мало чем от него отличаюсь.
Перейдя затем к последствиям, я решил, что веду опасную игру, обманывая знатного сеньора, который, в наказание за мои грехи, рано или поздно проведает о нашей проделке. Эти разумные рассуждения вселили в меня некоторый страх, но вскоре мысли об удовольствиях и наживе рассеяли его. Впрочем, одних предсказаний владельца эликсира было достаточно, чтоб меня успокоить. А потому я погрузился в приятные мечты и занялся арифметическими вычислениями, высчитывая мысленно сумму, которую я скоплю из своего оклада после десятилетней службы. Я присоединил сюда наградные, которые барин мне пожалует, и, сообразуя их с его щедрым правом или, вернее, с моими желаниями, проявил такую — с позволения сказать — необузданную фантазию, что мои богатства оказались несметными. Такое изобилие благ мало-помалу усыпило меня, и я заснул, строя воздушные замки.
На следующий день я встал около восьми часов, чтоб отправиться к патрону за приказаниями, но, открыв свою дверь, был крайне изумлен, когда увидал его перед собой в шлафроке и ночном колпаке. Он был один.
— Жиль Блас, — сказал мне маркиз, — покидая вчера вечером твою сестру, я обещал провести с ней сегодняшнее утро; но важное дело мешает мне сдержать свое слово. Пойди к ней и скажи, что я весьма раздосадован этой помехой, но Что я обязательно буду ужинать у нее вечером. Это еще не все, — промолвил он, вручая мне кошелек и маленький шагреневый футляр, усыпанный брильянтами, — отнеси ей мой портрет и возьми себе этот кошелек с пятьюдесятью пистолями, как знак расположения, которое я уже к тебе питаю.
Я взял одной рукой портрет, а другой кошелек, столь мало мною заслуженный, и не медля помчался к Лауре, говоря самому себе в порыве чрезмерной радости:
«Превосходно! Пророчество, видимо, сбывается. Какое счастье быть братцем пригожей и любвеобильной девицы. Жаль только, что это приносит больше выгоды и удовольствия, чем чести».
В противоположность особам своего ремесла, Лаура имела обыкновение вставать спозаранку. Я застал ее за уборным столиком, где она в ожидании своего португальца прибавляла к своей естественной красоте все вспомогательные чары, изобретенные искусством кокеток.
— Любезная Эстрелья, магнит чужеземцев, — сказал я входя, — отныне ничто не препятствует мне кушать за одним столом с моим господином, ибо он почтил меня поручением, которое дает мне эту привилегию и для выполнения коего я сюда пришел. Планы сеньора маркиза расстроились, и он лишен сегодня утром удовольствия беседовать с вами, но для вашего утешения он отужинает здесь вечером и посылает вам свой портрет, к коему, сдается мне, приложено нечто еще более утешительное.
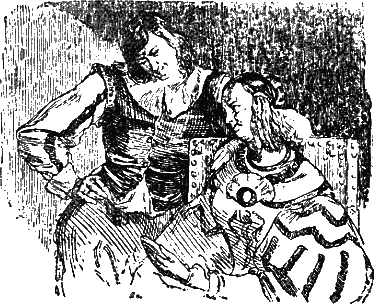
Я тут же вручил Лауре футляр, и созерцание великолепной игры брильянтов, которыми он был украшен, доставило ей немалое удовольствие. Она открыла его, потом, небрежно взглянув на живопись, захлопнула и заговорила о драгоценных камнях. Похвалив их красоту, она сказала мне с улыбкой:
— Да, такие портреты театральные дивы ценят больше оригиналов.
Затем я сообщил ей, что, передавая мне это подношение, щедрый португалец наградил меня кошельком с пятьюдесятью пистолями.
— Поздравляю тебя, — сказала она. — Этот сеньор начинает с того, чем другие даже редко кончают.
На это я ответил ей:
— Вам, моя обожаемая, обязан я этим подарком. Маркиз пожаловал мне его только благодаря нашему родству.
— Мне хотелось бы, — промолвила она, — чтоб он жаловал тебя так всякий день. Не могу тебе выразить, сколь ты мне дорог! С первой нашей встречи я привязалась к тебе такими прочными узами, что время не смогло их разрушить. После того как мы расстались в Мадриде, я не отчаялась разыскать тебя, и когда ты вчера явился, то встретилась с тобой, как с человеком, который неизбежно должен был ко мне вернуться. Словом, мой милый, небо предназначило нас друг для друга. Ты будешь моим мужем, но сперва нам следует разбогатеть. Осторожность требует, чтоб мы с этого начали. Мне нужны еще три-четыре любовных интриги, и твое благополучие будет обеспечено.
Я вежливо поблагодарил ее за хлопоты, которые она готова была предпринять ради меня, и мы незаметно проболтали до полудня. Затем я удалился, чтоб доложить своему господину, как приняла его фея присланный им гостинец. Хотя Лаура не снабдила меня в этом отношении никакими инструкциями, я не преминул сочинить по дороге изрядный комплимент, который собирался передать маркизу от ее имени. Но это был потерянный труд, ибо в гостинице мне сказали, что мой господин только что вышел, и судьбе было угодно, чтоб я больше никогда его не видал, как читатель узнает из следующей главы.
ГЛАВА XI
О том, как Жиль Блас получил известие, поразившее его подобно громовому удару
Янаправился в свой трактир, где, встретив двух приятных собеседников, пообедал и просидел с ними за столом до начала комедии. Затем мы расстались. Они пошли по своим делам, а я побрел в театр. Замечу мимоходом, что у меня были все основания для хорошего настроения: моя беседа с кавалерами носила самый веселый характер, а фортуна улыбалась мне, как никогда. Между тем меня разбирала тоска, от которой я не мог отделаться. Пусть говорят после этого, что человек не предчувствует угрожающих ему несчастий.
Как только я заглянул в артистическую, ко мне подошел Мелькиор Сапата и шепотом пригласил следовать за собой. Он отвел меня в один из уединенных уголков театра и обратился ко мне с такою речью:
— Сеньор кавальеро, считаю своим долгом сделать вам весьма важное сообщение. Вы, конечно, знаете, что маркиз де Мариальва сперва увлекся моей супругой Нарсисой; он даже назначил день, чтоб отведать моего пирога, но хитрая Эстрелья расстроила это свидание и сама пленила португальского сеньора. Вы понимаете, что комедиантка не выпустит такой добычи с легким сердцем. Моя жена не может этого простить и способна на любую месть. На ваше несчастье, ей как раз представился хороший случай. Вчера, как вы помните, наши театральные служители сбежались посмотреть на вас. Подсчикатель свеч заявил кой-кому из труппы, что он вас узнал и что вы такой же брат Эстрельи, как он сам.
Сплетня, — продолжал Мелькиор, — дошла сегодня до ушей Нарсисы, которая не преминула порасспросить ее автора, а тот подтвердил ей сказанное. По его словам, он знавал вас в то время, когда вы были лакеем у Арсении, а Эстрелья под именем Лауры служила у нее же в Мадриде. Моя жена, обрадованная этим открытием, уведомит обо всем маркиза де Мариальва, который должен сегодня вечером быть в театре. Примите это к сведению, и если вы на самом деле не брат Эстрельи, то советую вам по дружбе, а также в память нашего старинного знакомства, позаботиться о своей безопасности. Нарсиса, которая требует только одной жертвы, позволила мне уведомить вас об этом, дабы вы успели поспешным бегством предупредить могущие произойти роковые события.
Ему не к чему было распространяться далее на эту тему. Я поблагодарил за предупреждение гистриона, легко догадавшегося по моему испуганному виду, что я не стану уличать во лжи подсчикателя. И, действительно, у меня не было ни малейшего желания нагло упорствовать. Я даже не подумал зайти на прощание к Лауре из опасения, как бы она не заставила меня разыграть нахала. Не могло быть сомнений, что такая прекрасная комедиантка, как моя сестрица, сумеет выпутаться из затруднительного положения, но для себя я предвидел неминуемую кару и не испытывал такой влюбленности, чтоб презреть опасность. Все мои помыслы были направлены только на то, чтоб убежать со своими пенатами, т. е. пожитками. Я исчез из гостиницы в мгновение ока и распорядился молниеносно вынести и переправить свой чемодан к погонщику мулов, который должен был в три часа поутру отправиться в Толедо. Мне хотелось тотчас же очутиться у графа Полана, дом которого казался мне единственным надежным убежищем. Но до него было еще далеко, и я с трепетом думал о том, что мне предстоит провести немало времени в этом городе, где, быть может, меня начнут разыскивать в ту же ночь.
Тем не менее, я отправился ужинать в свой трактир, хотя испытывал не меньшее беспокойство, чем должник, знающий, что альгвасил гонится за ним по пятам. Не думаю, чтоб съеденная мной в этот вечер пища дала надлежащий питательный сок моему желудку. Став жалкой игрушкой страха, я вглядывался во всех входящих и дрожал от ужаса всякий раз, как обнаруживал какую-нибудь подозрительную физиономию, каковое не редкость в таких местах. Отужинав в непрестанной тревоге, я встал из-за стола и вернулся к погонщику, где улегся на свежей соломе в ожидании отъезда.
Смею сказать, что в эту ночь терпение мое подверглось тяжелому испытанию. Меня осаждали тысячи неприятных мыслей. Всякий раз, как мне удавалось вздремнуть, я видел взбешенного маркиза, который полосовал прекрасное лицо Лауры и производил в ее жилище полный разгром или приказывал своим челядинцам бить меня палками до смерти. Тут я просыпался, и пробуждение, обычно столь приятное после кошмара, становилось для меня мучительнее, чем самый сон.
К счастью, погонщик избавил меня от этого тягостного состояния, объявив, что мулы поданы. Я тотчас же вскочил на ноги и, благодарение богу, выехал, наконец, из города, навсегда излечившись от любви к Лауре и от хиромантии. По мере того как мы удалялись от Гренады, у меня становилось спокойнее на душе. Я вступил в беседу с погонщиком, хохотал по поводу нескольких забавных историй, которые он мне рассказал, и незаметно утерял всякий страх. В Убеде, где мы ночевали после первого перегона, я заснул мирным сном, а на четвертый день мы прибыли в Толедо.
Первым делом я спросил, где живет граф Полан, и отправился к нему в полной уверенности, что он не позволит мне остановиться нигде, кроме как у него. Но счет сей сделан был без хозяина. В палатах оказался только привратник, сообщивший мне, что его господин выехал накануне в замок Лейва, так как оттуда пришло известие об опасной болезни Серафины.
Я этого не ожидал. Отсутствие графа несколько омрачило мое пребывание в Толедо и побудило меня переменить свое намерение. До Мадрида было недалеко, а потому я решил отправиться туда. Мне казалось, что я сумею сделать карьеру при дворе, где для этого, как мне говорили, вовсе не требуется быть непременно гением. На следующий день я воспользовался лошадью, возвращавшейся порожняком, и таким способом добрался до столицы Испании. Меня влекла туда сама фортуна, предназначавшая мне более важные роли, чем те, которыми она до сих пор меня наделяла.
ГЛАВА XII
Жиль Блас останавливается в меблированных комнатах и знакомится с капитаном Чинчилья. Что за человек был сей офицер и какое дело привело его в Мадрид
По приезде своем в Мадрид, я тотчас же пристал в меблированных комнатах, где в числе прочих постояльцев жил один старый капитан, приехавший с окраин Новой Кастилии, чтоб хлопотать при дворе о пенсии, которую он, по его мнению, вполне заслужил. Его звали дон Анибал де Чинчилья. Увидав его впервые, я даже пришел в некоторое изумление. Это был человек лет шестидесяти, гигантского роста, но исключительной худобы. Он носил густые и закрученные вверх усы, которые доходили ему с обеих сторон до самых висков. У него не только не хватило руки и ноги, но, кроме того, широкая повязка из зеленой тафты прикрывала ему недостающий глаз, а лицо в нескольких местах казалось покрыто шрамами. В остальном же капитан ничем не отличался от прочих людей и мог сойти не только за рассудительного, но и за весьма серьезного человека. Он строго придерживался кодекса морали и был особенно щепетилен в вопросах чести.
После двух-трех бесед Чинчилья почтил меня своим доверием. Вскоре я был в курсе всех его дел. Он рассказал мне, при каких обстоятельствах потерял глаз в Неаполе, руку в Ломбардии и ногу в Нидерландах. Больше всего я дивился тому, что, повествуя о баталиях и осадах, он не позволял себе никакого фанфаронства, ни малейшего хвастовства, хотя, видит бог, я охотно простил бы ему, если б в возмещение за утерянную половину тела он стал восхвалять ту, которая ему осталась. Далеко не все офицеры, возвращающиеся с войны целыми и невредимыми, бывают такими скромниками.
По его словам, он особенно тяготился тем, что во время походов прожил крупное состояние и принужден был существовать на доход в сто дукатов, едва хватавший на завивку усов, оплату квартиры и на переписку челобитных.
— Ибо, сеньор кавальеро, — добавил он, пожимая плечами, — видит бог, я подаю их каждый день, но никто не обращает на них ни малейшего внимания. Можно подумать, что мы побились об заклад с первым министром, кому из нас скорее надоест: мне ли подавать или ему принимать мои челобитные. Я также имею честь зачастую вручать оные королю; но каков слуга, таков и барин, а тем временем мой замок Чинчилья превращается в развалины, так как мне не на что его чинить.
— Никогда не надо отчаиваться, — отвечал я на это капитану. — Вы знаете, что обычно приходится немного повременить, когда добиваешься высочайших милостей. Возможно однако, что недалек час, когда вам сторицей воздается за все ваши труды и старания.
— Не смею льстить себя такой надеждой, — возразил Анибал. — Не прошло еще трех дней, как я беседовал с одним из секретарей министра, и если его послушать, то мне необходимо запастись терпением.
— А что он сказал вам, сеньор капитан? — спросил я. — Неужели вы, по его мнению, недостойны награды за понесенные вами увечья?
— Рассудите сами, — отвечал Чинчилья. — Этот секретарь заявил мне без обиняков: «сеньор идальго, не старайтесь превозносить свое усердие и свою преданность; рискуя жизнью за родину, вы только исполнили свой долг. Слава, сопровождающая подвиги доблести, является сама по себе достойной наградой и должна доставлять удовлетворение, в особенности испанцу. А потому перестаньте заблуждаться и рассматривать, как чей-то долг, пенсию, о которой вы хлопочете. Если вам ее пожалуют, то вы будете обязаны этой милостью исключительно великодушию нашего короля, которому угодно почитать себя в долгу перед теми подданными, кто служил государству верой и правдой». Из сего, — добавил капитан, — можете усмотреть, что я, чего доброго, еще сам в долгу перед родиной и что мне придется уехать отсюда с тем, с чем я приехал.
Невозможно равнодушно отнестись к порядочному человеку, когда видишь, что он в нужде. Я убеждал капитана не терять бодрости и предложил ему переписывать безвозмездно его челобитные. Не довольствуясь этим, я предоставил в его распоряжение свой кошелек и заклинал его взять оттуда, сколько ему потребуется. Но он был не из тех людей, которые в таких случаях хватаются за деньги, не дожидаясь вторичного приглашения. Напротив, выказав себя крайне щепетильным в этих делах, капитан гордо поблагодарил меня за мою предупредительность. Затем он поведал мне, что, не желая ни у кого одолжаться, он постепенно приучил себя довольствоваться столь малым, что даже самого ничтожного количества пищи было достаточно, чтоб его насытить. Это оказалось правдой: он питался исключительно чесноком и луком, а потому от него осталась только кожа да кости. Желая избежать свидетелей, он обычно запирался для этих скудных трапез в своей комнате. Все же мне удалось в конце концов упросить его, чтоб мы обедали и ужинали вместе, и, пустившись из сочувствия к нему на хитрость, я обманул его гордость, заказав гораздо больше мяса и вина, чем мне самому требовалось, и усиленно уговаривая его отведать и того и другого. Сперва он церемонился, но в конце концов уступил моим настояниям, после чего, постепенно осмелев, помог мне сам очистить блюдо и опорожнить бутылку.
Выпив четыре-пять стаканов вина и ублажив свой желудок хорошей пищей, он сказал, повеселев:
— Вы великий соблазнитель, сеньор Жиль Блас, и заставляете меня делать все, что вам угодно. У вас такие обходительные манеры, что я уже больше не боюсь злоупотребить вашим великодушием.
Мой капитан, казалось, был в ту минуту настолько далек от своей щепетильности, что если б я пожелал воспользоваться моментом и снова предложить ему свой кошелек, то он, вероятно, не отказался бы. Но я не подверг его этому испытанию и удовольствовался тем, что сделал его своим сотрапезником и взялся не только переписывать, но и составлять вместе с ним его челобитные. Наловчившись в переписке проповедей, я научился гладко строить фразы, и сам стал чем-то вроде сочинителя. Старый служака, со своей стороны, мнил себя великим мастером по письменной части, так что, соревнуясь при совместной работе, мы составляли образчики витийства, достойные знаменитейших саламанкских профессоров. Но мы тщетно истощали свой дух, рассыпая по челобитным цветы красноречия: это было, как говорится, равносильно тому, чтоб сеять семя при дороге.
132Как мы ни изловчались, выставляя в должном свете заслуги дона Анибала, двор не обращал на это никакого внимания, что отнюдь не поощряло старого инвалида отзываться с похвалой об офицерах, разоряющихся на военной службе. Под влиянием дурного настроения он проклинал свою судьбу и посылал ко всем чертям Неаполь, Ломбардию и Нидерланды.
В довершение обиды случилось как-то, что поэт, представленный герцогом Альбой, прочитал в присутствии короля сонет на рождение инфанты и был пожалован, как бы на зло капитану, пенсией в пятьсот дукатов. Мой искалеченный капитан, пожалуй, сошел бы от этого с ума, если б я не постарался его успокоить.
— Что с вами? — спросил я, видя, что он вне себя. — Тут нет ничего такого, что должно было бы вас возмущать. Разве поэты не владеют с незапамятных времен даром превращать государей в данников их музы? Нет такой коронованной особы, у которой не было бы нескольких таких пенсионеров. И, между нами говоря, такого рода пенсии, редко забываемые грядущими поколениями, увековечивают щедрость монархов, тогда как другие раздаваемые ими награждения зачастую ничего не прибавляют к их славе. Сколько наград роздал Август, сколько пенсий, о которых мы ничего не знаем! Но даже самые отдаленные потомки будут помнить так же твердо, как мы, что этот император пожаловал Виргилию свыше двухсот тысяч эскудо.
Но как я ни убеждал его, плоды, пожатые стихоплетом от его сонета, легли свинцовым комом на желудок дона Анибала, и, не будучи в состоянии этого переварить, он решил бросить хлопоты. Все же ему хотелось перед отъездом сделать еще одну последнюю попытку, и он подал челобитную герцогу Лерме.
133С этой целью мы вдвоем отправились к первому министру и встретили у него молодого человека, который, поклонившись капитану, сказал ему приветливо:
— Вас ли я вижу, мой дорогой барин? Какое дело привело вас к их светлости? Если вам нужен человек, пользующийся влиянием, то, прошу вас, не стесняйтесь: я весь к вашим услугам.
— Как, Педрильо! — воскликнул офицер. — Судя по вашим словам, выходит, что вы важная шишка в этом доме?
— Во всяком случае, — возразил молодой человек, — я достаточно влиятелен, чтоб оказать одолжение такому достойному идальго, как вы.
— Коли так, — промолвил капитан улыбаясь, — то я прибегну к вашему покровительству.
— Готов вам его оказать, — отвечал Педрильо. — Соблаговолите только сказать мне, о чем идет речь, и обещаю вам, что с моей помощью вы выжмете из министра все, что захотите.
Не успели мы изложить этому услужливому малому обстоятельства нашего дела, как он осведомился, где живет дон Анибал, а затем, посулив завтра же дать нам ответ, исчез, не сообщив ни того, что именно он собирается предпринять, ни состоит ли вообще на службе у герцога Лермы. Я полюбопытствовал узнать, кто такой Педрильо, так как он показался мне человеком весьма смышленым.
— Этот малый, — сказал капитан, — был моим слугой несколько лет тому назад, но, видя мою бедность, ушел от меня, чтоб найти более выгодное место. Я не сержусь на него за это, ибо естественно менять худшее на лучшее. Педрильо не лишен сметки и такой интриган, что заткнет за пояс любого черта. Но, несмотря на его оборотистость, я не очень рассчитываю на усердие, которое он мне только что выказал.
— Возможно, — возразил я, — что он все же окажется вам полезен. Представьте себе, например, что он состоит при ком-нибудь из приближенных герцога. Как вы знаете, у великих людей мира сего все делается с помощью происков и интриг; у них имеются любимцы, которые ими управляют, а этими, в свою очередь, управляют их лакеи.
