Страница:
Расхвалив таким образом себя, хозяин принялся готовить ужин. Покуда он с этим возился, я вошел в горницу и, повалившись на стоявшую там койку, уснул от утомления, так как во всю прошлую ночь не знал ни минуты покоя. Часа через два пришел погонщик и разбудил меня.
— Сеньор кавальеро, — сказал он мне, — ваш ужин готов; пожалуйте к столу.
В горнице стоял стол, а на нем два прибора. Мы с погонщиком уселись, и нам подали рагу. Я с жадностью на него набросился и нашел его чрезвычайно вкусным, оттого ли, что голод заставлял меня судить о нем слишком благосклонно или по причине специй, употребленных кухарем. Принесли нам затем кусок жареной баранины, и, заметив, что погонщик сделал честь лишь этому последнему блюду, я спросил его, почему он не прикоснулся к первому. Он отвечал мне с усмешкой, что не любит рагу. Эта реплика или, вернее, сопровождавшая ее усмешка показалась мне подозрительной.
— Вы скрываете от меня, — сказал я ему, — истинную причину, почему вы не едите рагу; сделайте одолжение и поведайте мне ее.
— Коль скоро вы так любопытствуете ее узнать, — отвечал он, — то я вам скажу, что мне противно набивать себе желудок этого рода крошевом с тех пор как в одной харчевне по дороге из Толедо в Куэнсу меня однажды вечером угостили вместо откормленного кролика рубленой кошкой. Это внушило мне отвращение ко всяческим фрикассе.
Не успел погонщик произнести эти слова, как, несмотря на терзавший меня голод, я сразу потерял аппетит. Мне представилось, что я поел того зайца, который по крышам бегает, и я уже не мог смотреть на свое рагу без гадливой гримасы. Мой спутник не разубеждал меня, а, напротив, сообщил, что испанские гостиники, а равно и пирожники, довольно часто пускают в ход эту «игру слов». Такие речи, как видите, были весьма утешительны: и, в самом деле, у меня пропало всякое желание не только вернуться к рагу, но даже прикоснуться к жаркому из опасения, что баран окажется столь же подлинным, как и кролик. Я встал из-за стола, проклиная рагу, хозяина и харчевню, но, улегшись на койку, провел ночь спокойнее, чем ожидал. На следующее утро, расплатившись с хозяином так щедро, словно он и впрямь меня отлично угостил, я спозаранку выехал из местечка Ильескас, Преследуемый неотступными мыслями о рагу, так что принимал за котов всех встречавшихся по дороге животных.
Я засветло прибыл в Мадрид, где, рассчитавшись с погонщиком, тотчас же нанял меблированную комнату недалеко от Пуэрта дель Соль. Хотя глаза мои уже привыкли к большому свету, все же я был ослеплен при виде важных персон, обычно съезжающихся в дворцовый квартал. Я изумлялся огромному количеству карет и бесчисленному множеству дворян, пажей и слуг, составлявших свиту вельмож. Мое восхищение удвоилось, когда, посетив однажды утренний прием, я увидел короля, окруженного царедворцами. Я был очарован этим зрелищем и сказал про себя:
«Какой блеск! Какое величие! Я больше не удивляюсь разговорам о том, что надо видеть Мадрид, чтобы постигнуть его великолепие; я в восторге оттого, что сюда приехал; предчувствую, что здесь я чего-нибудь добьюсь».
Однако же я не добился ничего, кроме нескольких бесплодных знакомств. Я мало-помалу истратил все свои деньги, и был очень счастлив, когда мне при всех моих талантах удалось поступить в услужение к саламанскому педанту, с которым свел меня случай и которого привело в Мадрид, его родной город, какое-то семейное дело. Я сделался его фактотумом и доследовал за ним в саламанкский университет, когда он туда вернулся.
Новый мой хозяин прозывался дон Иньясио де Ипинья. «Дон» он прибавлял к своему имени потому, что был наставником у одного герцога, который назначил ему пожизненную пенсию; вторую пенсию он получал в качестве заслуженного профессора; а сверх того он выколачивал у публики ежегодный доход в две-три сотни пистолей при помощи книг по догматической морали, которые он повадился печатать. Способ, примененный им при составлении своих научных трудов, заслуживает почетного упоминания. Все дни прославленный дон Иньясио проводил в чтении еврейских, греческих и латинских писателей и выносил на бумажные квадратики всякое изречение или блестящую мысль, которую он у них находил. По мере заполнения бумажек, он приказывал мне нанизывать их на проволоку в виде гирлянды, и каждая такая гирлянда составляла том. Сколько скверных книжонок мы состряпали! В редкий месяц мы составляли меньше двух томов, и печатный станок жалобно скрипел, оттискивая их. Всего удивительнее было то, что эти компиляции сходили за новые сочинения, а если критики решались упрекнуть автора в том, что он грабит древних, тот с горделивой наглостью отвечал: «Furto laetamur in ipso».
197
Он был также великим комментатором и в комментариях своих проявлял такую эрудицию, что иногда составлял и примечания к вещам, ничем не примечательным. Так как на своих бумажках он часто выписывал (хотя и не всегда кстати) цитаты из Гесиода и других авторов, то я все же получил от этого ученого кое-какую пользу; было бы неблагодарностью с моей стороны не признавать этого. Я усовершенствовал свой почерк, переписывая его работы; и, кроме того, обращаясь со мною скорее как с учеником, нежели как со слугой, он заботился не только о моем образовании, но и о нравственном воспитании.
— Сипион, — говорил он мне, услыхав случайно, что кто-нибудь из прислуги попался в воровстве, — остерегись, дитя мое, следовать дурному примеру этого мошенника. Слуга должен служить своему господину с преданностью и рвением и стараться стать добродетельным с помощью собственных усилий, если уже ему выпало несчастье не быть таковым от природы.
Одним словом, дон Иньясио не пропускал ни одного случая, чтобы наставить меня на путь добродетели, и его увещания так хорошо на меня воздействовали, что за все пятнадцать месяцев, что я у него прослужил, я ни разу не испытывал искушения сыграть с ним какую-нибудь штуку.
Я уже говорил, что доктор Ипинья был уроженцем Мадрида. У него была там родственница, по имени Каталина, служившая в девушках у королевской кормилицы. Эта служанка, — та самая, чьей помощью я впоследствии воспользовался, чтоб вызволить из Сеговийской башни сеньора де Сантильяна, — желая оказать услугу дону Иньясио, уговорила свою хозяйку испросить для него бенефиции у герцога Лермы. Министр сделал его архидиаконом Гренады, где (яко на земле, отвоеванной у неприятеля) замещение духовных должностей зависит от короля.
Мы выехали в Мадрид, как только до нас дошла эта весть, так как доктор хотел выразить признательность своим благодетельницам, прежде чем отправиться в Гренаду. Мне представилось множество случаев видеть Каталину и говорить с нею. Мой веселый нрав и непринужденные манеры ей понравились. Мне же она настолько пришлась по вкусу, что я не мог не отвечать тем же на некоторые знаки расположения, которые она мне оказывала. В конце концов мы сильно привязались друг к другу. Простите мне это признание, дорогая Беатрис: я считал вас изменницей, и это заблуждение послужит мне защитой от ваших упреков.
Тем временем доктор дон Иньясио готовился отбыть в Гренаду. Мы с его родственницей, испуганные угрозой скорой разлуки, прибегли к способу, который спас нас от этой беды. Я притворился больным, жаловался на голову, жаловался на грудь и являл все признаки человека, пораженного целой кучей недугов. Хозяин мой пригласил врача, что привело меня в трепет. Я боялся, что этот Гиппократ признает меня совершенно здоровым. Но, на мое счастье, после тщательного осмотра он, точно сговорившись со мной, заявил напрямик, что моя болезнь серьезнее, чем я думаю, и что, по всей видимости, мне еще долго нельзя будет выходить. Дон Иньясио, которому не терпелось увидеть свой собор, не считал нужным отложить отъезд. Он предпочел взять в услужение другого парня и удовольствовался тем, что покинул меня на попечение сиделки, вручив ей некоторую сумму денег, чтоб похоронить меня, если я умру, или вознаградить за услуги, если выздоровею.
Едва только я узнал об отъезде дона Иньясио в Гренаду, как немедленно же излечился от всех своих недугов. Я встал, отпустил проницательного врача и отделался от сиделки, укравшей у меня половину той суммы, которую должна была мне вручить. Покамест я играл роль больного, Каталина представляла перед своей госпожой, доньей Анной де Гевара, другую комедию, уговаривая ее, что я создан для интриги, и внушая ей желание сделать меня одним из своих агентов. Королевская кормилица, которая из страсти к наживе нередко пускалась на разные предприятия и нуждалась в такого рода людях, приняла меня в число своих слуг и не замедлила испытать мою преданность. Она стала давать мне поручения, требовавшие некоторой ловкости, и, скажу без похвальбы, я недурно с ними справлялся. Поэтому она была столь же довольна мною, сколь я был справедливо недоволен ею: эта дама была так скупа, что не предоставляла мне ни малейшей доли от тех плодов, которые она пожинала благодаря моему проворству и моим трудам. Она воображала, что, аккуратно платя мне жалованье, проявляет по отношению ко мне достаточную щедрость. Эта чрезмерная скаредность пришлась мне не по нутру и я, наверное, вскоре покинул бы донью Анну, если бы меня не удерживали ласки Каталины, которая, изо дня в день все более воспламеняясь любовью, наконец, открыто предложила мне на ней жениться.
— Не торопитесь, любезная моя, — сказал я ей, — эта церемония не может так быстро состояться: сперва мне нужно узнать о смерти одной юной особы, которая вас опередила и мужем коей я стал за мои грехи.
— Как бы не так! — отвечала Каталина. — Я не такая простушка, чтоб этому поверить. Вы хотите убедить меня, что уже связаны браком. А для чего? Видимо, для того, чтоб вежливо прикрыть свое нежелание взять меня в жены.
Тщетно я заверял ее, что говорю правду; мое искреннее признание она сочла своим поражением и, почувствовав себя обиженной, переменила обращение со мною. Мы не поссорились, но наши отношения явно становились все холоднее, и мы ограничивались в общении друг с другом лишь требованиями учтивости и благопристойности.
При таких обстоятельствах я узнал, что сеньору Жиль Бласу де Сантильяна, секретарю первого министра испанской короны, требуется лакей, и эта должность тем больше меня прельщала, что мне рассказывали о ней, как о самой приятной из всех, какие я мог бы занять.
— Сеньор де Сантильяна, — говорили мне, — весьма достойный кавалер, очень ценимый герцогом Лермой, который поэтому, наверное, далеко пойдет. Кроме того, сердце у него щедрое: обделывая его дела, вы и свои отлично устроите.
Я не упустил этого случая и представился сеньору Жиль Бласу, к которому сразу же почувствовал расположение и который принял меня на службу по одному моему внешнему виду. Я без колебаний покинул ради него королевскую кормилицу, и он будет, если бог захочет, последним моим хозяином.
На этом месте Сипион закончил свой рассказ, а затем добавил, обращаясь ко мне:
— Сеньор де Сантильяна, окажите мне милость и подтвердите этим дамам, что вы всегда находили во мне слугу, столь же верного, сколь и ревностного. Мне необходимо ваше свидетельство, чтобы убедить их в том, что сын Косколины исправился и добродетельными чувствами заменил порочные наклонности.
— Да, сударыня, — сказал я тогда, — могу вам в этом поручиться. Если в детстве своем Сипион был истинным «пикаро», то с тех пор он совершенно исправился и стал образцом безупречного слуги. Не только я не могу пожаловаться на его поведение в отношении меня, но должен сознаться, что весьма многим ему обязан. В ночь, когда меня схватили и отвезли в Сеговийскую башню, он спас от разграбления и спрятал в надежное место часть моих вещей, которые безнаказанно мог бы себе присвоить. Но он не удовольствовался сохранением моего имущества: из чистой дружбы он заперся вместе со мною в тюрьме, предпочитая прелестям свободы сомнительное удовольствие разделить со мною муки заключения.


Яуже говорил, что Антония и Беатрис отлично уживались друг с другом, так как одна привыкла к подчиненному положению субретки, а другая охотно приучалась к роли хозяйки. Мы с Сипионом были мужьями столь предупредительными и столь любимыми своими супругами, что вскоре испытали счастье стать отцами. Они забеременели почти одновременно. Первой разрешилась Беатрис и произвела на свет дочку, а через несколько дней Антония преисполнила всех нас радости, подарив мне сына. Я послал своего секретаря в Валенсию, чтобы сообщить эту новость губернатору, который прибыл в Лириас с Серафиною и маркизой де Плиего, чтобы стать воспреемником наших детей, почитая за удовольствие прибавить этот знак своего расположения к прежним благодеяниям, которых я от него удостоился. Моего сына, крестным коего был этот сеньор, а крестной — маркиза, нарекли Альфонсом; а губернаторша, пожелавшая, чтобы я дважды стал ей кумом, держала вместе со мною у купели дочь Сипиона, которой мы дали имя Серафина.
Рождение моего сына обрадовало не только обитателей замка, но и лириасские поселяне ознаменовали его празднествами, показавшими, что вся деревня принимает участие в радостях своего сеньора. Увы! Веселье наше продолжалось недолго, или, вернее, оно внезапно превратилось в сетования, жалобы и причитания вследствие события, которое протекшие с тех пор двадцать лет не смогли заставить меня позабыть и которое до сих пор живет в моей памяти. Сын мой умер, и мать его, хотя роды сошли благополучно, вскоре последовала за ним: летучая лихорадка унесла любезную мою супругу после четырнадцати месяцев замужества. Пусть читатель, если возможно, представит себе горе, меня охватившее! Я впал в тупое уныние. Слишком сильно чувствуя свою утрату, я казался как бы бесчувственным. Пять или шесть дней пробыл я в таком состоянии. Я не хотел принимать никакой пищи, и, не будь Сипиона, я, вероятно, уморил бы себя голодом или помешался. Но этот искусный секретарь сумел обмануть мою скорбь, приспособившись к ней. Он заставлял меня глотать бульон, поднося мне его с таким огорченным лицом, точно он дает его не для того, чтобы сохранить мою жизнь, а чтобы растравить горе.
Тот же преданный слуга написал дону Альфонсо, чтобы известить его о происшедшем несчастье и о жалостном состоянии, в коем я обретался. Этот добрый и сострадательный сеньор, этот великодушный друг вскоре приехал в Лириас. Не могу без слез вспомнить тот момент, когда он предстал моим глазам.
— Дорогой Сантильяна, — проговорил он, обнимая меня, — я не для того приехал сюда, чтобы вас утешать; я приехал, чтобы оплакать вместе с вами Антонию, как вы оплакивали бы со мной Серафину, если бы Парки похитили ее у меня.
И, действительно, он проливал слезы и присоединил свои вздохи к моим. Сколь ни был я подавлен печалью, я не мог не чувствовать доброты дона Альфонсо.
Губернатор имел длительный разговор с Сипионом о том, что нужно сделать, чтобы сломить мое горе. Они решили, что хорошо было бы на время удалить меня из замка, где все непрестанно рисовало мне образ Антонии. После этого сын дона Сесара предложил мне отправиться в Валенсию, а мой секретарь так умело поддержал его предложение, что я согласился. Я оставил Сипиона и его жену в замке, пребывание в котором, действительно, только растравляло мою рану, и уехал с губернатором. Когда я прибыл в Валенсию, дон Сесар и его невестка ничего не пожалели, чтобы ослабить мое горе: они беспрерывно доставляли мне всевозможные развлечения, способные меня рассеять; но, несмотря на все заботы, я так и оставался погруженным в меланхолию, из которой они не могли меня извлечь. Сипион тоже не щадил сил, чтобы вернуть мне душевное спокойствие: он часто приезжал из деревни в Валенсию, чтобы справиться обо мне. Возвращался он то веселым, то печальным, в зависимости от того, насколько я поддавался или не поддавался утешениям. Эта черта мне очень понравилась; я был признателен за выказанные им дружеские чувства и радовался тому, что обладаю столь преданным слугой.
Однажды утром он вошел ко мне в комнату.
— Сеньор! — сказал он мне крайне взволнованным голосом, — в городе распространили слух, который интересует все королевство: говорят, что Филиппа III не стало и что принц-наследник вступил на престол. К этому добавляют, что кардинал герцог Лерма лишился своей должности
198и что ему запрещено даже появляться при дворе, а также, что дон Гаспар де Гусман граф Оливарес
199стал первым министром.
При этом сообщении я, неизвестно отчего, почувствовал себя несколько взволнованным. Сипион это подметил и спросил, откликаюсь ли я как-нибудь на эти крупные перемены.
— А как хочешь ты, друг мой, чтоб я на них откликнулся? — отвечал я ему. — Ведь я покинул двор: все происходящие там пертурбации должны быть для меня безразличны.
— Для человека ваших лет, — возразил мне сын Косколины, — вы уж слишком отрешились от мира сего. Знаете, какое желание мне пришло бы на вашем месте, хотя бы из любопытства?
— Какое же? — прервал я его.
— Я поехал бы в Мадрид, — отвечал он, — и показал бы свою физиономию молодому королю, чтобы проверить, узнает ли он меня. Вот какое удовольствие я бы себе доставил.
— Понимаю, — сказал я ему, — тебе хотелось бы вернуть меня ко двору, чтобы я снова попытал счастья или, вернее, снова стал корыстолюбцем и честолюбием.
— Почему вы думаете, что снова развратитесь? — возразил Сипион. — Имейте больше доверия к собственной нравственности. Я вам ручаюсь за вас самих. Здоровые взгляды на двор, которыми вы обязаны своей опале, помешают вам впредь бояться превратностей, сопряженных с придворной жизнью. Выходите смелее в море, все рифы коего вам известны.
— Умолкни, искуситель! — прервал я его с улыбкой. — Неужели тебе надоело видеть мое мирное житье? Я думал, что ты больше дорожишь моим покоем.
В этом месте нашей беседы вошли дон Сесар с доном Альфонсо. Они подтвердили известие о смерти короля и о немилости, постигшей герцога Лерму. Кроме того, они сообщили мне, что этот министр просил разрешения удалиться в Рим, но что ему было отказано с предписанием отправиться в свой маркизат, Дению. Затем, точно сговорившись с моим секретарем, они посоветовали мне съездить в Мадрид и показаться на глаза новому монарху, раз он меня знает и раз я даже оказывал ему такого рода услуги, которыми великие мира сего охотно вознаграждают.
— Я лично, — сказал дон Альфонсо, — не сомневаюсь в том, что он признает ваши заслуги. Филипп IV должен уплатить по долгам инфанта испанского.
— У меня такое же предчувствие, — сказал дон Сесар, — и я смотрю на поездку Сантильяны ко двору, как на средство, которое приведет его к высоким должностям.
— Поистине, государи мои, — воскликнул я, — вы не думаете о том, что говорите! Послушать вас, так мне стоит только Появиться в Мадриде, как я сейчас же получу золотой ключ
200или губернаторство. Но вы ошибаетесь. Я, напротив того, убежден, что король не обратит на мое лицо никакого внимания, когда я ему покажусь. Если хотите, я готов сделать опыт, чтобы вывести вас из заблуждения.
Господа де Лейва поймали меня на слове; мне пришлось уступить и пообещать им, что я немедленно выеду в Мадрид. Как только мой секретарь убедился в моем согласии совершить это путешествие, он предался неумеренной радости. Он воображал, что едва я появлюсь перед новым королем, как этот монарх отличит меня в толпе и осыплет почестями и богатством. Ввиду сего он баюкал себя самыми радужными мечтаниями, возносил меня до высших государственных должностей и строил собственную свою карьеру на моем повышении.
Итак, я решился вернуться ко двору, имея в виду не столько служить Фортуне, сколько удовлетворить дона Сесара и его сына, которым казалось, что я вскоре завоюю благосклонность монарха. По правде сказать, я сам ощущал в глубине души некоторое желание испытать, узнает ли меня юный государь. Влекомый этим любопытством, но не питая ни надежды, ни намерения извлечь какую-нибудь выгоду из нового царствования, я направился в Мадрид вместе с Сипионом, оставив свой замок на попечение Беатрис, которая стала превосходной хозяйкой.
До Мадрида мы доехали меньше чем за неделю, так как дон Альфонсо для большей скорости дал нам пару лучших своих коней. Мы пристали в меблированных комнатах, где я уже раньше останавливался, у моего прежнего хозяина Висенте Фореро, который с удовольствием меня принял.
Так как он гордился тем, что знал все происходящее как при дворе, так и в городе, то я спросил у него, есть ли какие-нибудь новости.
— Новостей немало, — ответил он. — Со времени смерти Филиппа III друзья и сторонники герцога Лермы лезли из кожи вон, чтобы удержать его на министерском посту; но усилия их оказались тщетными: граф Оливарес их одолел. Поговаривают, что Испания от этой перемены ничего не потеряла: новый министр обладает будто бы таким всеобъемлющим гением, что один мог бы управлять всем миром. Несомненно лишь то, — продолжал он, — что народ составил себе очень высокое мнение о его способностях; будущее покажет, хорошо или плохо заменил он герцога Лерму.
Усевшись на своего конька, Фореро подробно рассказал мне обо всех переменах, происшедших при дворе, с тех пор как граф Оливарес стал у кормила государственной власти.
Через два дня после моего приезда в Мадрид я в послеобеденное время отправился к королю и встал на его пути, когда он проследовал в свой кабинет; но король на меня не взглянул. На следующий день я вернулся на то же место, но и на сей раз мне также не посчастливилось. На третий раз он мимоходом окинул меня взглядом, но, казалось, не обратил никакого внимания на мою особу. После этого я принял твердое решение.
— Вот видишь, — сказал я сопровождавшему меня Сипиону, — король меня не узнает, а если и узнает, то не выражает ни малейшего желания возобновить со мной знакомство. Я думаю, что нам недурно было бы вернуться в Валенсию.
— Не будем торопиться, сеньор, — возразил мой секретарь. — Вы знаете лучше моего, что только терпением можно добиться успеха при дворе. Продолжайте показываться государю: постоянно попадаясь ему на глаза, вы заставите его внимательнее в вас вглядываться и вспомнить черты своего ходатая перед прелестной Каталиной.
Дабы Сипион ни в чем больше не мог меня упрекнуть, я из любезности к нему продолжал тот же маневр в течение трех недель; и наконец, настал день, когда монарх, остановив на мне удивленный взор, приказал позвать меня к себе. Я вошел в кабинет, испытывая некоторое волнение от свидания наедине со своим королем.
— Кто вы такой? — спросил он. — Ваше лицо мне несколько знакомо. Где я вас видел?
— Государь, — ответил я ему с дрожью в голосе, — я имел честь однажды ночью провожать ваше величество вместе с графом де Лемосом к…
— А! помню, — прервал король. — Вы были секретарем герцога Лермы, и, если не ошибаюсь, ваше имя — Сантильяна. Я не забыл, что при этом случае вы служили мне с большим рвением и довольно скверно были вознаграждены за свой труд. Ведь вы, кажется, сидели в тюрьме за это приключение?
— Так точно, ваше величество, — отвечал я. — Мне пришлось просидеть шесть месяцев в Сеговийской крепости; но вы были столь милостивы, что освободили меня.
— Я не считаю, что этим уплатил свой долг Сантильяне, — отвечал он. — Недостаточно того, что я вернул ему свободу; я еще должен вознаградить его за страдания, которые он ради меня претерпел.
При этих последних словах в кабинет вошел граф Оливарес. Фаворитам все внушает опасение: граф изумился, увидев в кабинете незнакомца, а король еще усугубил его изумление, обратившись к нему со словами:
— Граф, я передаю вам из рук в руки этого молодого человека; дайте ему занятие; я возлагаю на вас заботу о его повышении.
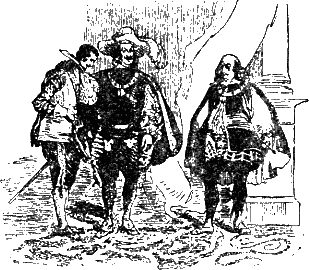
Министр принял это предложение с притворно-любезным видом, оглядев меня с головы до пят и изо всех сил стараясь догадаться, кем бы я мог быть.
— Идите, друг мой, — добавил монарх, обращаясь ко мне и подавая мне знак, что я могу удалиться. — Граф не преминет использовать вас в интересах королевской службы и в ваших собственных.
Я не медля вышел из кабинета и присоединился к сыну Косколины, который, горя нетерпением узнать, что сказал мне король, пребывал в неописуемом волнении. Заметив на моем лице выражение удовольствия, он заявил:
— Если верить моим глазам, то мы как будто не возвращаемся в Валенсию, а остаемся при дворе.
— Весьма возможно, — отвечал я и немедленно же привел его в восторг, изложив ему короткий разговор, только что происшедший между мной и монархом.
— Дорогой хозяин, — сказал мне тогда Сипион в преизбытке радости, — будете ли вы впредь верить моим гороскопам? Сознайтесь, что вы теперь на меня не в претензии за то, что я побудил вас к поездке в Мадрид. Я уже вижу вас занимающим высокий пост: вы станете Кальдероном при графе Оливаресе.
— Сеньор кавальеро, — сказал он мне, — ваш ужин готов; пожалуйте к столу.
В горнице стоял стол, а на нем два прибора. Мы с погонщиком уселись, и нам подали рагу. Я с жадностью на него набросился и нашел его чрезвычайно вкусным, оттого ли, что голод заставлял меня судить о нем слишком благосклонно или по причине специй, употребленных кухарем. Принесли нам затем кусок жареной баранины, и, заметив, что погонщик сделал честь лишь этому последнему блюду, я спросил его, почему он не прикоснулся к первому. Он отвечал мне с усмешкой, что не любит рагу. Эта реплика или, вернее, сопровождавшая ее усмешка показалась мне подозрительной.
— Вы скрываете от меня, — сказал я ему, — истинную причину, почему вы не едите рагу; сделайте одолжение и поведайте мне ее.
— Коль скоро вы так любопытствуете ее узнать, — отвечал он, — то я вам скажу, что мне противно набивать себе желудок этого рода крошевом с тех пор как в одной харчевне по дороге из Толедо в Куэнсу меня однажды вечером угостили вместо откормленного кролика рубленой кошкой. Это внушило мне отвращение ко всяческим фрикассе.
Не успел погонщик произнести эти слова, как, несмотря на терзавший меня голод, я сразу потерял аппетит. Мне представилось, что я поел того зайца, который по крышам бегает, и я уже не мог смотреть на свое рагу без гадливой гримасы. Мой спутник не разубеждал меня, а, напротив, сообщил, что испанские гостиники, а равно и пирожники, довольно часто пускают в ход эту «игру слов». Такие речи, как видите, были весьма утешительны: и, в самом деле, у меня пропало всякое желание не только вернуться к рагу, но даже прикоснуться к жаркому из опасения, что баран окажется столь же подлинным, как и кролик. Я встал из-за стола, проклиная рагу, хозяина и харчевню, но, улегшись на койку, провел ночь спокойнее, чем ожидал. На следующее утро, расплатившись с хозяином так щедро, словно он и впрямь меня отлично угостил, я спозаранку выехал из местечка Ильескас, Преследуемый неотступными мыслями о рагу, так что принимал за котов всех встречавшихся по дороге животных.
Я засветло прибыл в Мадрид, где, рассчитавшись с погонщиком, тотчас же нанял меблированную комнату недалеко от Пуэрта дель Соль. Хотя глаза мои уже привыкли к большому свету, все же я был ослеплен при виде важных персон, обычно съезжающихся в дворцовый квартал. Я изумлялся огромному количеству карет и бесчисленному множеству дворян, пажей и слуг, составлявших свиту вельмож. Мое восхищение удвоилось, когда, посетив однажды утренний прием, я увидел короля, окруженного царедворцами. Я был очарован этим зрелищем и сказал про себя:
«Какой блеск! Какое величие! Я больше не удивляюсь разговорам о том, что надо видеть Мадрид, чтобы постигнуть его великолепие; я в восторге оттого, что сюда приехал; предчувствую, что здесь я чего-нибудь добьюсь».
Однако же я не добился ничего, кроме нескольких бесплодных знакомств. Я мало-помалу истратил все свои деньги, и был очень счастлив, когда мне при всех моих талантах удалось поступить в услужение к саламанскому педанту, с которым свел меня случай и которого привело в Мадрид, его родной город, какое-то семейное дело. Я сделался его фактотумом и доследовал за ним в саламанкский университет, когда он туда вернулся.
Новый мой хозяин прозывался дон Иньясио де Ипинья. «Дон» он прибавлял к своему имени потому, что был наставником у одного герцога, который назначил ему пожизненную пенсию; вторую пенсию он получал в качестве заслуженного профессора; а сверх того он выколачивал у публики ежегодный доход в две-три сотни пистолей при помощи книг по догматической морали, которые он повадился печатать. Способ, примененный им при составлении своих научных трудов, заслуживает почетного упоминания. Все дни прославленный дон Иньясио проводил в чтении еврейских, греческих и латинских писателей и выносил на бумажные квадратики всякое изречение или блестящую мысль, которую он у них находил. По мере заполнения бумажек, он приказывал мне нанизывать их на проволоку в виде гирлянды, и каждая такая гирлянда составляла том. Сколько скверных книжонок мы состряпали! В редкий месяц мы составляли меньше двух томов, и печатный станок жалобно скрипел, оттискивая их. Всего удивительнее было то, что эти компиляции сходили за новые сочинения, а если критики решались упрекнуть автора в том, что он грабит древних, тот с горделивой наглостью отвечал: «Furto laetamur in ipso».
197
Он был также великим комментатором и в комментариях своих проявлял такую эрудицию, что иногда составлял и примечания к вещам, ничем не примечательным. Так как на своих бумажках он часто выписывал (хотя и не всегда кстати) цитаты из Гесиода и других авторов, то я все же получил от этого ученого кое-какую пользу; было бы неблагодарностью с моей стороны не признавать этого. Я усовершенствовал свой почерк, переписывая его работы; и, кроме того, обращаясь со мною скорее как с учеником, нежели как со слугой, он заботился не только о моем образовании, но и о нравственном воспитании.
— Сипион, — говорил он мне, услыхав случайно, что кто-нибудь из прислуги попался в воровстве, — остерегись, дитя мое, следовать дурному примеру этого мошенника. Слуга должен служить своему господину с преданностью и рвением и стараться стать добродетельным с помощью собственных усилий, если уже ему выпало несчастье не быть таковым от природы.
Одним словом, дон Иньясио не пропускал ни одного случая, чтобы наставить меня на путь добродетели, и его увещания так хорошо на меня воздействовали, что за все пятнадцать месяцев, что я у него прослужил, я ни разу не испытывал искушения сыграть с ним какую-нибудь штуку.
Я уже говорил, что доктор Ипинья был уроженцем Мадрида. У него была там родственница, по имени Каталина, служившая в девушках у королевской кормилицы. Эта служанка, — та самая, чьей помощью я впоследствии воспользовался, чтоб вызволить из Сеговийской башни сеньора де Сантильяна, — желая оказать услугу дону Иньясио, уговорила свою хозяйку испросить для него бенефиции у герцога Лермы. Министр сделал его архидиаконом Гренады, где (яко на земле, отвоеванной у неприятеля) замещение духовных должностей зависит от короля.
Мы выехали в Мадрид, как только до нас дошла эта весть, так как доктор хотел выразить признательность своим благодетельницам, прежде чем отправиться в Гренаду. Мне представилось множество случаев видеть Каталину и говорить с нею. Мой веселый нрав и непринужденные манеры ей понравились. Мне же она настолько пришлась по вкусу, что я не мог не отвечать тем же на некоторые знаки расположения, которые она мне оказывала. В конце концов мы сильно привязались друг к другу. Простите мне это признание, дорогая Беатрис: я считал вас изменницей, и это заблуждение послужит мне защитой от ваших упреков.
Тем временем доктор дон Иньясио готовился отбыть в Гренаду. Мы с его родственницей, испуганные угрозой скорой разлуки, прибегли к способу, который спас нас от этой беды. Я притворился больным, жаловался на голову, жаловался на грудь и являл все признаки человека, пораженного целой кучей недугов. Хозяин мой пригласил врача, что привело меня в трепет. Я боялся, что этот Гиппократ признает меня совершенно здоровым. Но, на мое счастье, после тщательного осмотра он, точно сговорившись со мной, заявил напрямик, что моя болезнь серьезнее, чем я думаю, и что, по всей видимости, мне еще долго нельзя будет выходить. Дон Иньясио, которому не терпелось увидеть свой собор, не считал нужным отложить отъезд. Он предпочел взять в услужение другого парня и удовольствовался тем, что покинул меня на попечение сиделки, вручив ей некоторую сумму денег, чтоб похоронить меня, если я умру, или вознаградить за услуги, если выздоровею.
Едва только я узнал об отъезде дона Иньясио в Гренаду, как немедленно же излечился от всех своих недугов. Я встал, отпустил проницательного врача и отделался от сиделки, укравшей у меня половину той суммы, которую должна была мне вручить. Покамест я играл роль больного, Каталина представляла перед своей госпожой, доньей Анной де Гевара, другую комедию, уговаривая ее, что я создан для интриги, и внушая ей желание сделать меня одним из своих агентов. Королевская кормилица, которая из страсти к наживе нередко пускалась на разные предприятия и нуждалась в такого рода людях, приняла меня в число своих слуг и не замедлила испытать мою преданность. Она стала давать мне поручения, требовавшие некоторой ловкости, и, скажу без похвальбы, я недурно с ними справлялся. Поэтому она была столь же довольна мною, сколь я был справедливо недоволен ею: эта дама была так скупа, что не предоставляла мне ни малейшей доли от тех плодов, которые она пожинала благодаря моему проворству и моим трудам. Она воображала, что, аккуратно платя мне жалованье, проявляет по отношению ко мне достаточную щедрость. Эта чрезмерная скаредность пришлась мне не по нутру и я, наверное, вскоре покинул бы донью Анну, если бы меня не удерживали ласки Каталины, которая, изо дня в день все более воспламеняясь любовью, наконец, открыто предложила мне на ней жениться.
— Не торопитесь, любезная моя, — сказал я ей, — эта церемония не может так быстро состояться: сперва мне нужно узнать о смерти одной юной особы, которая вас опередила и мужем коей я стал за мои грехи.
— Как бы не так! — отвечала Каталина. — Я не такая простушка, чтоб этому поверить. Вы хотите убедить меня, что уже связаны браком. А для чего? Видимо, для того, чтоб вежливо прикрыть свое нежелание взять меня в жены.
Тщетно я заверял ее, что говорю правду; мое искреннее признание она сочла своим поражением и, почувствовав себя обиженной, переменила обращение со мною. Мы не поссорились, но наши отношения явно становились все холоднее, и мы ограничивались в общении друг с другом лишь требованиями учтивости и благопристойности.
При таких обстоятельствах я узнал, что сеньору Жиль Бласу де Сантильяна, секретарю первого министра испанской короны, требуется лакей, и эта должность тем больше меня прельщала, что мне рассказывали о ней, как о самой приятной из всех, какие я мог бы занять.
— Сеньор де Сантильяна, — говорили мне, — весьма достойный кавалер, очень ценимый герцогом Лермой, который поэтому, наверное, далеко пойдет. Кроме того, сердце у него щедрое: обделывая его дела, вы и свои отлично устроите.
Я не упустил этого случая и представился сеньору Жиль Бласу, к которому сразу же почувствовал расположение и который принял меня на службу по одному моему внешнему виду. Я без колебаний покинул ради него королевскую кормилицу, и он будет, если бог захочет, последним моим хозяином.
На этом месте Сипион закончил свой рассказ, а затем добавил, обращаясь ко мне:
— Сеньор де Сантильяна, окажите мне милость и подтвердите этим дамам, что вы всегда находили во мне слугу, столь же верного, сколь и ревностного. Мне необходимо ваше свидетельство, чтобы убедить их в том, что сын Косколины исправился и добродетельными чувствами заменил порочные наклонности.
— Да, сударыня, — сказал я тогда, — могу вам в этом поручиться. Если в детстве своем Сипион был истинным «пикаро», то с тех пор он совершенно исправился и стал образцом безупречного слуги. Не только я не могу пожаловаться на его поведение в отношении меня, но должен сознаться, что весьма многим ему обязан. В ночь, когда меня схватили и отвезли в Сеговийскую башню, он спас от разграбления и спрятал в надежное место часть моих вещей, которые безнаказанно мог бы себе присвоить. Но он не удовольствовался сохранением моего имущества: из чистой дружбы он заперся вместе со мною в тюрьме, предпочитая прелестям свободы сомнительное удовольствие разделить со мною муки заключения.

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

ГЛАВА I
О величайшей радости, когда-либо испытанной Жиль Бласом, и о печальном происшествии, ее омрачившем. О переменах, наступивших при дворе и послуживших причиной того, что Жиль Блас туда возвратился
Яуже говорил, что Антония и Беатрис отлично уживались друг с другом, так как одна привыкла к подчиненному положению субретки, а другая охотно приучалась к роли хозяйки. Мы с Сипионом были мужьями столь предупредительными и столь любимыми своими супругами, что вскоре испытали счастье стать отцами. Они забеременели почти одновременно. Первой разрешилась Беатрис и произвела на свет дочку, а через несколько дней Антония преисполнила всех нас радости, подарив мне сына. Я послал своего секретаря в Валенсию, чтобы сообщить эту новость губернатору, который прибыл в Лириас с Серафиною и маркизой де Плиего, чтобы стать воспреемником наших детей, почитая за удовольствие прибавить этот знак своего расположения к прежним благодеяниям, которых я от него удостоился. Моего сына, крестным коего был этот сеньор, а крестной — маркиза, нарекли Альфонсом; а губернаторша, пожелавшая, чтобы я дважды стал ей кумом, держала вместе со мною у купели дочь Сипиона, которой мы дали имя Серафина.
Рождение моего сына обрадовало не только обитателей замка, но и лириасские поселяне ознаменовали его празднествами, показавшими, что вся деревня принимает участие в радостях своего сеньора. Увы! Веселье наше продолжалось недолго, или, вернее, оно внезапно превратилось в сетования, жалобы и причитания вследствие события, которое протекшие с тех пор двадцать лет не смогли заставить меня позабыть и которое до сих пор живет в моей памяти. Сын мой умер, и мать его, хотя роды сошли благополучно, вскоре последовала за ним: летучая лихорадка унесла любезную мою супругу после четырнадцати месяцев замужества. Пусть читатель, если возможно, представит себе горе, меня охватившее! Я впал в тупое уныние. Слишком сильно чувствуя свою утрату, я казался как бы бесчувственным. Пять или шесть дней пробыл я в таком состоянии. Я не хотел принимать никакой пищи, и, не будь Сипиона, я, вероятно, уморил бы себя голодом или помешался. Но этот искусный секретарь сумел обмануть мою скорбь, приспособившись к ней. Он заставлял меня глотать бульон, поднося мне его с таким огорченным лицом, точно он дает его не для того, чтобы сохранить мою жизнь, а чтобы растравить горе.
Тот же преданный слуга написал дону Альфонсо, чтобы известить его о происшедшем несчастье и о жалостном состоянии, в коем я обретался. Этот добрый и сострадательный сеньор, этот великодушный друг вскоре приехал в Лириас. Не могу без слез вспомнить тот момент, когда он предстал моим глазам.
— Дорогой Сантильяна, — проговорил он, обнимая меня, — я не для того приехал сюда, чтобы вас утешать; я приехал, чтобы оплакать вместе с вами Антонию, как вы оплакивали бы со мной Серафину, если бы Парки похитили ее у меня.
И, действительно, он проливал слезы и присоединил свои вздохи к моим. Сколь ни был я подавлен печалью, я не мог не чувствовать доброты дона Альфонсо.
Губернатор имел длительный разговор с Сипионом о том, что нужно сделать, чтобы сломить мое горе. Они решили, что хорошо было бы на время удалить меня из замка, где все непрестанно рисовало мне образ Антонии. После этого сын дона Сесара предложил мне отправиться в Валенсию, а мой секретарь так умело поддержал его предложение, что я согласился. Я оставил Сипиона и его жену в замке, пребывание в котором, действительно, только растравляло мою рану, и уехал с губернатором. Когда я прибыл в Валенсию, дон Сесар и его невестка ничего не пожалели, чтобы ослабить мое горе: они беспрерывно доставляли мне всевозможные развлечения, способные меня рассеять; но, несмотря на все заботы, я так и оставался погруженным в меланхолию, из которой они не могли меня извлечь. Сипион тоже не щадил сил, чтобы вернуть мне душевное спокойствие: он часто приезжал из деревни в Валенсию, чтобы справиться обо мне. Возвращался он то веселым, то печальным, в зависимости от того, насколько я поддавался или не поддавался утешениям. Эта черта мне очень понравилась; я был признателен за выказанные им дружеские чувства и радовался тому, что обладаю столь преданным слугой.
Однажды утром он вошел ко мне в комнату.
— Сеньор! — сказал он мне крайне взволнованным голосом, — в городе распространили слух, который интересует все королевство: говорят, что Филиппа III не стало и что принц-наследник вступил на престол. К этому добавляют, что кардинал герцог Лерма лишился своей должности
198и что ему запрещено даже появляться при дворе, а также, что дон Гаспар де Гусман граф Оливарес
199стал первым министром.
При этом сообщении я, неизвестно отчего, почувствовал себя несколько взволнованным. Сипион это подметил и спросил, откликаюсь ли я как-нибудь на эти крупные перемены.
— А как хочешь ты, друг мой, чтоб я на них откликнулся? — отвечал я ему. — Ведь я покинул двор: все происходящие там пертурбации должны быть для меня безразличны.
— Для человека ваших лет, — возразил мне сын Косколины, — вы уж слишком отрешились от мира сего. Знаете, какое желание мне пришло бы на вашем месте, хотя бы из любопытства?
— Какое же? — прервал я его.
— Я поехал бы в Мадрид, — отвечал он, — и показал бы свою физиономию молодому королю, чтобы проверить, узнает ли он меня. Вот какое удовольствие я бы себе доставил.
— Понимаю, — сказал я ему, — тебе хотелось бы вернуть меня ко двору, чтобы я снова попытал счастья или, вернее, снова стал корыстолюбцем и честолюбием.
— Почему вы думаете, что снова развратитесь? — возразил Сипион. — Имейте больше доверия к собственной нравственности. Я вам ручаюсь за вас самих. Здоровые взгляды на двор, которыми вы обязаны своей опале, помешают вам впредь бояться превратностей, сопряженных с придворной жизнью. Выходите смелее в море, все рифы коего вам известны.
— Умолкни, искуситель! — прервал я его с улыбкой. — Неужели тебе надоело видеть мое мирное житье? Я думал, что ты больше дорожишь моим покоем.
В этом месте нашей беседы вошли дон Сесар с доном Альфонсо. Они подтвердили известие о смерти короля и о немилости, постигшей герцога Лерму. Кроме того, они сообщили мне, что этот министр просил разрешения удалиться в Рим, но что ему было отказано с предписанием отправиться в свой маркизат, Дению. Затем, точно сговорившись с моим секретарем, они посоветовали мне съездить в Мадрид и показаться на глаза новому монарху, раз он меня знает и раз я даже оказывал ему такого рода услуги, которыми великие мира сего охотно вознаграждают.
— Я лично, — сказал дон Альфонсо, — не сомневаюсь в том, что он признает ваши заслуги. Филипп IV должен уплатить по долгам инфанта испанского.
— У меня такое же предчувствие, — сказал дон Сесар, — и я смотрю на поездку Сантильяны ко двору, как на средство, которое приведет его к высоким должностям.
— Поистине, государи мои, — воскликнул я, — вы не думаете о том, что говорите! Послушать вас, так мне стоит только Появиться в Мадриде, как я сейчас же получу золотой ключ
200или губернаторство. Но вы ошибаетесь. Я, напротив того, убежден, что король не обратит на мое лицо никакого внимания, когда я ему покажусь. Если хотите, я готов сделать опыт, чтобы вывести вас из заблуждения.
Господа де Лейва поймали меня на слове; мне пришлось уступить и пообещать им, что я немедленно выеду в Мадрид. Как только мой секретарь убедился в моем согласии совершить это путешествие, он предался неумеренной радости. Он воображал, что едва я появлюсь перед новым королем, как этот монарх отличит меня в толпе и осыплет почестями и богатством. Ввиду сего он баюкал себя самыми радужными мечтаниями, возносил меня до высших государственных должностей и строил собственную свою карьеру на моем повышении.
Итак, я решился вернуться ко двору, имея в виду не столько служить Фортуне, сколько удовлетворить дона Сесара и его сына, которым казалось, что я вскоре завоюю благосклонность монарха. По правде сказать, я сам ощущал в глубине души некоторое желание испытать, узнает ли меня юный государь. Влекомый этим любопытством, но не питая ни надежды, ни намерения извлечь какую-нибудь выгоду из нового царствования, я направился в Мадрид вместе с Сипионом, оставив свой замок на попечение Беатрис, которая стала превосходной хозяйкой.
ГЛАВА II
Жиль Блас прибывает в Мадрид. Он появляется при дворе. Король его узнает и препоручает своему первому министру. Последствия этой рекомендации
До Мадрида мы доехали меньше чем за неделю, так как дон Альфонсо для большей скорости дал нам пару лучших своих коней. Мы пристали в меблированных комнатах, где я уже раньше останавливался, у моего прежнего хозяина Висенте Фореро, который с удовольствием меня принял.
Так как он гордился тем, что знал все происходящее как при дворе, так и в городе, то я спросил у него, есть ли какие-нибудь новости.
— Новостей немало, — ответил он. — Со времени смерти Филиппа III друзья и сторонники герцога Лермы лезли из кожи вон, чтобы удержать его на министерском посту; но усилия их оказались тщетными: граф Оливарес их одолел. Поговаривают, что Испания от этой перемены ничего не потеряла: новый министр обладает будто бы таким всеобъемлющим гением, что один мог бы управлять всем миром. Несомненно лишь то, — продолжал он, — что народ составил себе очень высокое мнение о его способностях; будущее покажет, хорошо или плохо заменил он герцога Лерму.
Усевшись на своего конька, Фореро подробно рассказал мне обо всех переменах, происшедших при дворе, с тех пор как граф Оливарес стал у кормила государственной власти.
Через два дня после моего приезда в Мадрид я в послеобеденное время отправился к королю и встал на его пути, когда он проследовал в свой кабинет; но король на меня не взглянул. На следующий день я вернулся на то же место, но и на сей раз мне также не посчастливилось. На третий раз он мимоходом окинул меня взглядом, но, казалось, не обратил никакого внимания на мою особу. После этого я принял твердое решение.
— Вот видишь, — сказал я сопровождавшему меня Сипиону, — король меня не узнает, а если и узнает, то не выражает ни малейшего желания возобновить со мной знакомство. Я думаю, что нам недурно было бы вернуться в Валенсию.
— Не будем торопиться, сеньор, — возразил мой секретарь. — Вы знаете лучше моего, что только терпением можно добиться успеха при дворе. Продолжайте показываться государю: постоянно попадаясь ему на глаза, вы заставите его внимательнее в вас вглядываться и вспомнить черты своего ходатая перед прелестной Каталиной.
Дабы Сипион ни в чем больше не мог меня упрекнуть, я из любезности к нему продолжал тот же маневр в течение трех недель; и наконец, настал день, когда монарх, остановив на мне удивленный взор, приказал позвать меня к себе. Я вошел в кабинет, испытывая некоторое волнение от свидания наедине со своим королем.
— Кто вы такой? — спросил он. — Ваше лицо мне несколько знакомо. Где я вас видел?
— Государь, — ответил я ему с дрожью в голосе, — я имел честь однажды ночью провожать ваше величество вместе с графом де Лемосом к…
— А! помню, — прервал король. — Вы были секретарем герцога Лермы, и, если не ошибаюсь, ваше имя — Сантильяна. Я не забыл, что при этом случае вы служили мне с большим рвением и довольно скверно были вознаграждены за свой труд. Ведь вы, кажется, сидели в тюрьме за это приключение?
— Так точно, ваше величество, — отвечал я. — Мне пришлось просидеть шесть месяцев в Сеговийской крепости; но вы были столь милостивы, что освободили меня.
— Я не считаю, что этим уплатил свой долг Сантильяне, — отвечал он. — Недостаточно того, что я вернул ему свободу; я еще должен вознаградить его за страдания, которые он ради меня претерпел.
При этих последних словах в кабинет вошел граф Оливарес. Фаворитам все внушает опасение: граф изумился, увидев в кабинете незнакомца, а король еще усугубил его изумление, обратившись к нему со словами:
— Граф, я передаю вам из рук в руки этого молодого человека; дайте ему занятие; я возлагаю на вас заботу о его повышении.
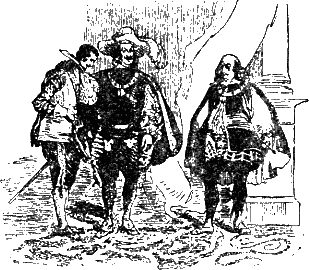
Министр принял это предложение с притворно-любезным видом, оглядев меня с головы до пят и изо всех сил стараясь догадаться, кем бы я мог быть.
— Идите, друг мой, — добавил монарх, обращаясь ко мне и подавая мне знак, что я могу удалиться. — Граф не преминет использовать вас в интересах королевской службы и в ваших собственных.
Я не медля вышел из кабинета и присоединился к сыну Косколины, который, горя нетерпением узнать, что сказал мне король, пребывал в неописуемом волнении. Заметив на моем лице выражение удовольствия, он заявил:
— Если верить моим глазам, то мы как будто не возвращаемся в Валенсию, а остаемся при дворе.
— Весьма возможно, — отвечал я и немедленно же привел его в восторг, изложив ему короткий разговор, только что происшедший между мной и монархом.
— Дорогой хозяин, — сказал мне тогда Сипион в преизбытке радости, — будете ли вы впредь верить моим гороскопам? Сознайтесь, что вы теперь на меня не в претензии за то, что я побудил вас к поездке в Мадрид. Я уже вижу вас занимающим высокий пост: вы станете Кальдероном при графе Оливаресе.
