Страница:
Слухи о происшествии на «Лючии» дошли уже до команд всех соседних кораблей. Весь порт гудел, как растревоженный улей. На «Санта Лючию» набилось много чужого народа. Только не видать было никого из команды «Святого Бенедикта»: вскоре после захода солнца огромный корабль, распустив паруса, на ночь глядя, отчалил от турецкого берега.
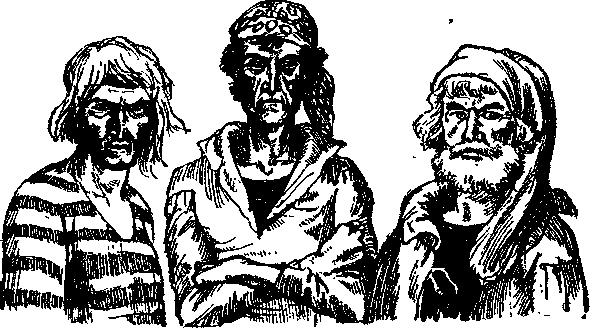 На палубе «Лючии» стоял такой шум, что трудно было услышать собственный голос, но старику Франческо удалось перекричать всех.
На палубе «Лючии» стоял такой шум, что трудно было услышать собственный голос, но старику Франческо удалось перекричать всех.
– Мы знаем, что Каспера Берната продал в рабство неверным матрос Паоло Ротта. Так ли я говорю? – обратился он к толпе.
И десятки голосов откликнулись:
– Так!
– Теперь тебе слово, Эрик, – повернулся Франческо к седобородому норвежцу.
– Предательством своим он осквернил корабль и оскорбил море, пускай же море его поглотит! – произнес тот.
– Говори ты, Санчо, – распорядился снова Франческо.
Высокий тощий барселонец в негодовании вознес руки к небу.
– Собака, предатель, ему нет места рядом с нами! Ему нет места на земле! – прохрипел он.
Якуб Конопка оглянулся. Со всех сторон на падубу сходились матросы. В середине образовавшегося полукруга стояли судьи Франческо, Санчо, Эрик. К ним подтащили позеленевшего от страха Ротту.
– Пустите меня, – бормотал он. – Вам-то я ничего дурного не сделал. Пустите меня! Пожалейте мою сестру, ей не пережить двойного горя… Неужели же из-за этого проклятого поляка…
Марио Скампиони, шагнув вперед, размахнулся. В воздухе точно кто щелкнул бичом. От пощечины Ротта еле устоял на ногах. Щека его побагровела.
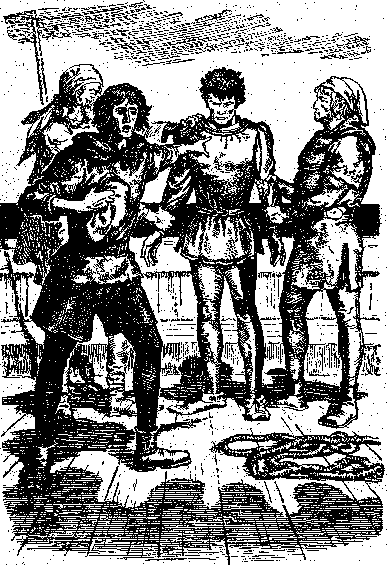 – Отойди, Марио, – сказал Франческо сурово. – У нас не расправа, а суд! Мы, матросы каравеллы «Санта Лючия», присудили этого человека к смерти за то, что он продал в рабство нашего товарища и друга матроса Каспера Берната. Я спрашиваю вас, какой смертью он должен умереть?
– Отойди, Марио, – сказал Франческо сурово. – У нас не расправа, а суд! Мы, матросы каравеллы «Санта Лючия», присудили этого человека к смерти за то, что он продал в рабство нашего товарища и друга матроса Каспера Берната. Я спрашиваю вас, какой смертью он должен умереть?
– Топором его! – крикнул кто-то. – Что долго время терять! Или вздернуть на мачте…
– Мешок ему на голову да пару ядер к ногам! – посоветовал другой.
– И прочитать отходную? Так? – спросил Франческо. – Эрик, объяви наше решение!
– Мешок ему на голову, пара ядер к ногам, прочитать отходную и предать морю! – громко произнес Эрик. – Только ядер у нас нету.
– Заковать его в цепи – и за борт! – прохрипел Санчо. – Если только море не выкинет его обратно.
– Боцман, что же ты? Веди корабль – это твое дело. А суд и казнь – это наше дело. Ты чужой здесь, не надо тебе вмешиваться, – с какой-то несвойственной ему мягкостью сказал Франческо. – А вам что, отец Лука? – повернулся он к испуганному священнику. – Отойдите в сторону и читайте молитву, если вы считаете его христианином…
Короткая схватка, и Ротта лежал уже закованный в кандалы.
«Все наверх!» – просвистел боцман через силу. Говорить он не мог. По лицу его не переставая катились слезы. «Касю, мальчик мой, – бормотал он про себя. – Ох, чуяло мое сердце… А я тебя не уберег…»
Но, пересилив себя, Якуб Конопка отер слезы и выпрямился.
– Ставь паруса! – отдал он приказ. Голос его, как и прежде, раскатился по всему кораблю. – Отдать швартовы! Поднять якоря!
Загремели якорные цепи. Со скрипом, медленно поднимались и наполнялись ветром паруса. Еще несколько минут – и «Санта Лючия» легко и плавно отвалила от стамбульского берега и понеслась, гонимая попутным ветром, на северо-запад.
Якуб Конопка стоял на капитанском мостике суровый и сосредоточенный.
Потом он подозвал Санчо, передал ему штурвал, а сам спустился к себе в каюту. Через минуту он снова появился на мостике, сжимая в руках пакет с заветным письмом. Заплаканное лицо его выражало непреклонную решимость.
– Клянусь тебе, мой мальчик, – произнес он тихо, – что бумагу эту, как ты велел, я доставлю в первую очередь. А потом, вернувшись из Вармии, я разыщу тебя и выручу из беды… Сам продамся в рабство, а тебя выкуплю!
«Лючия», разрезая волны и легко покачиваясь, уходила все дальше и дальше от Турции. Наконец берега за ее кормой слились с горизонтом.
– Пора! – сказал Франческо Эрику. – Карло, Лоренцо, – обратился он к стоявшим поблизости матросам, – приведите его!
Команда торопливо собиралась у грот-мачты.
Подвели Ротту. Он шагал с землисто-серым лицом, уставясь вперед остекленевшими глазами.
Франческо подошел к нему с флягой и стаканом.
– Пей, – сказал он, наливая ему вина. – Пей последнюю!
Боцман махнул рукой и отошёл к рубке. На каравелле стало очень тихо, тишину нарушали только мощные удары волн о борт.
Якуб Конопка услышал за своей спиной какую-то возню, а затем дрожащий старческий голос отца Луки начал читать «Pater Noster».
[43]
Что-то тяжелое с громким всплеском упало в воду.
Якуб Конопка снял шапку и перекрестился.
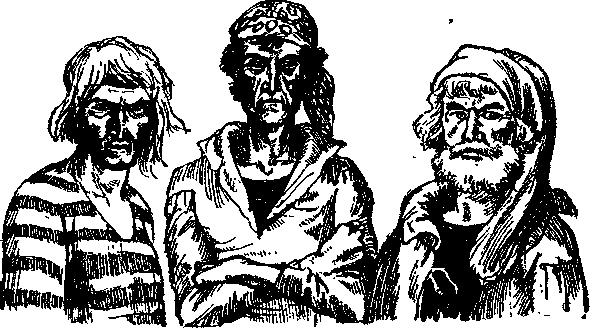
– Мы знаем, что Каспера Берната продал в рабство неверным матрос Паоло Ротта. Так ли я говорю? – обратился он к толпе.
И десятки голосов откликнулись:
– Так!
– Теперь тебе слово, Эрик, – повернулся Франческо к седобородому норвежцу.
– Предательством своим он осквернил корабль и оскорбил море, пускай же море его поглотит! – произнес тот.
– Говори ты, Санчо, – распорядился снова Франческо.
Высокий тощий барселонец в негодовании вознес руки к небу.
– Собака, предатель, ему нет места рядом с нами! Ему нет места на земле! – прохрипел он.
Якуб Конопка оглянулся. Со всех сторон на падубу сходились матросы. В середине образовавшегося полукруга стояли судьи Франческо, Санчо, Эрик. К ним подтащили позеленевшего от страха Ротту.
– Пустите меня, – бормотал он. – Вам-то я ничего дурного не сделал. Пустите меня! Пожалейте мою сестру, ей не пережить двойного горя… Неужели же из-за этого проклятого поляка…
Марио Скампиони, шагнув вперед, размахнулся. В воздухе точно кто щелкнул бичом. От пощечины Ротта еле устоял на ногах. Щека его побагровела.
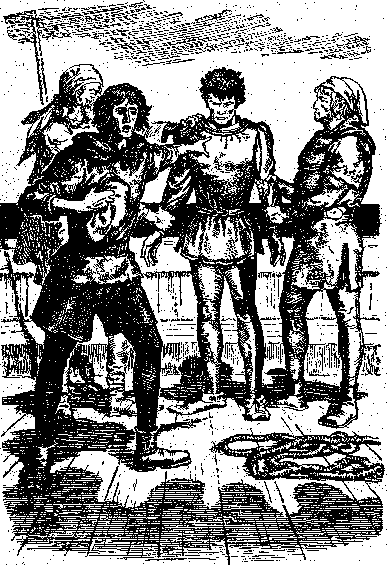
– Топором его! – крикнул кто-то. – Что долго время терять! Или вздернуть на мачте…
– Мешок ему на голову да пару ядер к ногам! – посоветовал другой.
– И прочитать отходную? Так? – спросил Франческо. – Эрик, объяви наше решение!
– Мешок ему на голову, пара ядер к ногам, прочитать отходную и предать морю! – громко произнес Эрик. – Только ядер у нас нету.
– Заковать его в цепи – и за борт! – прохрипел Санчо. – Если только море не выкинет его обратно.
– Боцман, что же ты? Веди корабль – это твое дело. А суд и казнь – это наше дело. Ты чужой здесь, не надо тебе вмешиваться, – с какой-то несвойственной ему мягкостью сказал Франческо. – А вам что, отец Лука? – повернулся он к испуганному священнику. – Отойдите в сторону и читайте молитву, если вы считаете его христианином…
Короткая схватка, и Ротта лежал уже закованный в кандалы.
«Все наверх!» – просвистел боцман через силу. Говорить он не мог. По лицу его не переставая катились слезы. «Касю, мальчик мой, – бормотал он про себя. – Ох, чуяло мое сердце… А я тебя не уберег…»
Но, пересилив себя, Якуб Конопка отер слезы и выпрямился.
– Ставь паруса! – отдал он приказ. Голос его, как и прежде, раскатился по всему кораблю. – Отдать швартовы! Поднять якоря!
Загремели якорные цепи. Со скрипом, медленно поднимались и наполнялись ветром паруса. Еще несколько минут – и «Санта Лючия» легко и плавно отвалила от стамбульского берега и понеслась, гонимая попутным ветром, на северо-запад.
Якуб Конопка стоял на капитанском мостике суровый и сосредоточенный.
Потом он подозвал Санчо, передал ему штурвал, а сам спустился к себе в каюту. Через минуту он снова появился на мостике, сжимая в руках пакет с заветным письмом. Заплаканное лицо его выражало непреклонную решимость.
– Клянусь тебе, мой мальчик, – произнес он тихо, – что бумагу эту, как ты велел, я доставлю в первую очередь. А потом, вернувшись из Вармии, я разыщу тебя и выручу из беды… Сам продамся в рабство, а тебя выкуплю!
«Лючия», разрезая волны и легко покачиваясь, уходила все дальше и дальше от Турции. Наконец берега за ее кормой слились с горизонтом.
– Пора! – сказал Франческо Эрику. – Карло, Лоренцо, – обратился он к стоявшим поблизости матросам, – приведите его!
Команда торопливо собиралась у грот-мачты.
Подвели Ротту. Он шагал с землисто-серым лицом, уставясь вперед остекленевшими глазами.
Франческо подошел к нему с флягой и стаканом.
– Пей, – сказал он, наливая ему вина. – Пей последнюю!
Боцман махнул рукой и отошёл к рубке. На каравелле стало очень тихо, тишину нарушали только мощные удары волн о борт.
Якуб Конопка услышал за своей спиной какую-то возню, а затем дрожащий старческий голос отца Луки начал читать «Pater Noster».
[43]
Что-то тяжелое с громким всплеском упало в воду.
Якуб Конопка снял шапку и перекрестился.
Глава двенадцатая
ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
В феврале месяце 1512 года по всей польской земле началась великая стужа, какой давно уже не знавали люди. Птицы замерзали на лету. По проселкам и шляхам бесновалась и выла метель. Деревни заносило снегом по самые крыши, в костелах отпевали замерзших.
И на душе у каноника Миколая было нехорошо и холодно, точно это непогода и злой мороз принесли с собой горести и заботы.
После поездки в Краков, куда Коперник сопровождал Лукаша Ваценрода на торжества, устраиваемые по поводу свадьбы короля Зыгмунта и коронации новой королевы,
[44]отец Миколай собирался отправиться с епископом на Всепольский сейм, в Петрков. Вместо этого ему пришлось поспешить во Фромборк: из капитула пришло известие о болезни его старшего брата Анджея.
Сначала ни сам Коперник, ни другие врачи не могли определить болезни Анджея, а когда распознали ее страшные приметы, стало понятно, что тут ничем помочь нельзя: Анджей был болен проказой.
Вот когда отцы каноники вармийские получили возможность свести счеты с Ваценродами и Коперниками, вот когда они могли наконец отомстить Лукашу за самоуправство, как они называли непрестанное наблюдение епископа за делами капитула. До него ни один из епископов, облеченных, правда, и светской властью, не решался власть эту осуществлять на деле с такою твердостью, как это делал Ваценрод! И племянник его идет по стопам владыки!
Милосердные отцы каноники отказали Анджею даже в лошадях – доехать до лепрозория. Много горячих споров пришлось выдержать отцу Миколаю, пока он наконец добился небольшой суммы для Анджея, выданной ему отцом казначеем на дорогу.
Наступила трудная минута расставания. Коперник понимал, что навеки теряет брата, которого даже нельзя обнять и поцеловать на прощанье. Это была тяжелая утрата: нисколько не схожие между собой, братья всю жизнь были нежно привязаны друг к другу. С непокрытой головой стоял каноник, глядя вслед удаляющемуся возку, а рядом с ним – верный друг его Тидеман Гизе. Добрый отец Тидеман с тревогой следил за тем, как замерзают слезы на щеках Миколая, как покрывается инеем меховой воротник его плаща, и осторожно тронул Коперника за локоть.
– Пойдем, брат, – сказал он тихо, – мне ли не знать, как тяжело тебе в эти минуты, но время не ждет, нам пора в Лидзбарк. Не сегодня – завтра вернется его преосвященство, нужно подготовить замок к его приезду. Да и темнеет уже, а по дорогам стаями бродят голодные волки.
Отцу Тидеману не терпелось расспросить друга о краковских новостях, о взаимоотношениях короля с Орденом, о том, нет ли вестей из Константинополя, но он понимал, что брату Миколаю сейчас не до этого.
Однако, отерев слезы, надев шапку и запахнувшись в плащ, Коперник точно преобразился. Он снова откинул назад голову, расправил плечи, только по углам его детского рта проступили морщинки, придающие ему разительное сходство с Лукашем Ваценродом, а под глазами гуще залегли синие тени. Но как ни поднимал вармийский каноник голову, как ни расправлял плечи, друг его Тидеман с грустью думал: «Старится Миколай! Старится наш орел Миколай Торуньский! Заботы, неприязнь глупых и темных людей, зависть ближайшего родственника – Филиппа Тешнера, бессонные ночи в башне, отданные наблюдениям за светилами, забота о бедном люде Вармии – все это провело неизгладимые борозды на его когда-то ясном челе…»
– Известий о Каспере до сих пор нет, – сказал Коперник, точно предугадывая расспросы Гизе. – И тебя, вероятно, тревожат вести об Ордене? Так вот, епископ пытался говорить с королем о предательстве магистра, но его величество и слушать не хочет… Кое-кто из наших нашептал ему, что владыка вармийский, руководимый личной неприязнью к магистру, что ни день находит новые причины для нападок на Орден. Маршал Ордена – краснобай фон Эйзенберг – уже открыто читает при дворе пасквиль на епископа, а король с королевой только смеются… Дошло до того, что королева сказала мне с укором: «Удержите своего могущественного дядю, не давайте ему начинать войну с Орденом! Короли тоже люди, дайте нам насладиться покоем и празднествами, перестаньте тратить деньги диацеза на оружие и припасы. Как хочется, чтобы двор наш роскошью и блеском мог соперничать с другими европейскими дворами!»
– Ты ответил что-нибудь королеве? – спросил Гизе. – Объяснил ей, что войны все равно не миновать, но что, когда бранденбуржец войдет в силу, это будет не война, а бойня, тевтоны сотрут Вармию с лица земли?
Коперник молча смотрел вперед на вихри снега, взметаемые ветром.
– Я ничего не сказал ей, – наконец отозвался он. – Не следует в такой торжественный день, как свадьба ее величества, напоминать о неприятностях… Дядя, конечно, не преминул бы воспользоваться таким предлогом, чтобы поговорить о деле, которое нас всех волнует. Но я рассудил так: если даже сам Зыгмунт верит племяннику, то как мне убедить королеву в своей правоте? Кроме того, беседуя со мной, ее величество кидала по сторонам такие беспомощные взгляды, что я понял: королева жаждет поскорее закончить разговор. Пишет же этот повеса Эйзенберг, что, кроме жалоб и наставлений, от вармийцев ничего не услышишь. А так как ни жалоб, ни наставлений с моей стороны не последовало, то ее величество, очевидно, из благодарности за молчание завела со мной любезный разговор. «Слыхали ли вы, – спросила королева, – новые стихи пана Дантышка, королевского секретаря? И добавила: – Матерь божья, у меня даже язык не поворачивается сказать о Дантышке „его преподобие“, такой это приятный и обходительный господин! Какая жалость, что он принял духовный сан!»
Возок переваливался с ухаба на ухаб, разговаривать стало трудно.
– Ну, Дантышку сан его нисколько не мешает вести светский образ жизни, – заметил Гизе с грустной усмешкой.
Но Коперник не поддержал этого разговора.
– Тидеман, Тидеман, – с болью произнес он, – как необходимо нам возможно скорее получить письмо Альбрехта! У меня и без того тяжело на сердце, а как подумаю, что с Каспером Бернатом могла стрястись какая-нибудь беда…
Друзья замолчали и до самого поворота дороги к Лидзбарку обменивались только короткими замечаниями.
Оба думали об одном и том же: жадные отцы каноники держатся за свои насиженные места, за пребенды,
[45]за власть. Они обвиняют владыку в том, что он не хочет ладить с Орденом. Рассуждают святые отцы примерно так: если действительно на границе Вармии вырастет могущественное, враждебное Польше государство, то кто его знает, может быть, для Вармии выгоднее поддерживать добрососедские отношения именно с ним, а никак не с Польшей?
Отец Тидеман вспомнил свой разговор с одним из членов капитула. «Миколай Коперник, – сказал тот каноник, – весь в дядю! Все ему нужно, во все он вмешивается! Сидел бы у себя в Лидзбарке, лечил бы своих грязных хлопов, если ему это так нравится, да любовался бы на звезды. А ему, видите ли, обязательно надо защищать Польшу от тевтонов, как будто король и без него не справится… А то ему вдруг приходится не по нраву, что города сами чеканят монету, – от этого, мол, Польше большой убыток, так как чеканщики подмешивают к серебру медь и олово… Да бог с ней, с Польшей! Правда, из-за порченой монеты товар у купцов сильно дорожает, но отцов каноников это не касается: не станут же купцы драть втридорога с духовных особ… А господа шляхтичи пускай себе раскошеливаются!»
«Что им за дело до великой Польши, этим ленивым сердцам! – с грустью думал отец Гизе. – Был бы им хороший стол, да мягкая перина, да почтительные слуги, да щедрые прихожане…»
– Говорят что-нибудь о чеканке монеты? – спросил вдруг Коперник.
Отец Тидеман даже вздрогнул, хотя он и привык к тому, что ему с братом Миколаем одновременно приходят на ум одни и те же мысли.
Да они с Миколаем, пожалуй, ближе, чем братья, и больше, чем друзья: и у того и у другого одни помыслы и одни заботы.
– Я как раз сейчас раздумывал об этом, – признался он устало. – Достаточно было тебе с владыкой уехать, как в капитуле завязались распри и споры… Все о той же чеканке монеты. А в магистратах, говорят, до рукопашной доходит…
– И все клянут меня? – спросил Коперник с невеселой улыбкой. – Ничего, когда-нибудь убедятся, как я был прав! Из-за алчных купцов страдает вся Польша!
С порченой монеты мысли Тидемана Гизе перешли на Дантышка, о котором с такой похвалой отзывались при дворе. Да, верно: не к чему было Дантышку принимать сан! Именно такие, как он, и вызывают в народе ненависть к духовенству. Шляхта и краковский двор все прощают Дантышку за его складные латинские стихи, за любезные манеры… Король с королевой особенно благоволят к нему; дипломат он отличный и доказал свое умение находить дорогу к сердцам венценосцев еще в бытность свою послом при императорском дворе… Но среди простого люда ходят слухи о его попойках, о многоженстве, о взятках, которые он берет с купцов… А король души в нем не чает… Ах, Зыгмунт, Зыгмунт, как уверить тебя, что расположением твоим пользуются недостойные люди! Как доказать тебе, что отнюдь не личная неприязнь питает ненависть епископа к Ордену, а ясное и точное предвидение политика. Будь сейчас в руках у Зыгмунта письмо магистра, можно было бы еще повернуть ход событий на пользу Польше!
Как ни торопил Тидеман Гизе отца Миколая с отъездом, ночь все же застала путников в дороге. Лошади испуганно шарахались от каждого встречного куста, возница вконец измучился, и, только завидев впереди башни Лидзбарка, бедняга осенил себя крестным знамением и прочитал благодарственную молитву.
Остановив возок у въезда в замок, он только чуть стукнул в чугунные ворота, зная, что каноника дожидаются с нетерпением. Однако ему пришлось постучать еще раз, другой и третий. Миколай Коперник сидел, сцепив руки и не обращая внимания на задержку. Наконец ворота распахнулись. Человек с фонарем отступил в тень. Приглядываясь к нему, отец Тидеман подумал: «До чего эта стужа заставляет людей ежиться! Привратник Бартек сейчас кажется вдвое ниже ростом».
– «Во имя отца, и сына, и святого духа», – произнес отец Миколай обычное приветствие и вдруг, выпрыгнув из возка, бросился к человеку с фонарем: – Пан Конопка! Давно ли? Где Каспер?
«Нет, нет, нисколько брат Миколай не постарел! – решил про себя Тидеман Гизе. – Он еще молод и телом и душой!»
– Здравствуйте, добрый пан Конопка! – обратился Тидеман, в свою очередь, к боцману.
– А где же Каспер? – повторил Коперник с улыбкой. – Небось ждал нас, ждал, да и прикорнул где-нибудь в келье. Или у моего молодого друга теперь другие привычки?
Пан Конопка не отвечал.
«Конечно, Каспер, как видно, утомился с дороги, заснул, а пан Конопка не хочет его выдавать. Это у них частенько случалось и прежде… – подумал отец Миколай и вдруг с удивлением и тревогой поднес руку к левой стороне груди. – Почему это так заколотилось сердце?»
– Да что я допытываюсь о Каспере, – улыбаясь, сказал он, стараясь перебороть волнение. – Я сам посоветовал ему остаться продолжать учение в Италии…
Пан Конопка молчал.
– Да где же Каспер?! – почти закричал Тидеман Гизе, но, глянув на помертвевшее лицо отца Миколая, принудил себя улыбнуться. – Успокойте нас, добрый пан Конопка, расскажите, что с Каспером… В каких итальянских городах привлекает он внимание прекрасных синьорин своими огненными вихрами?
Боцман громко проглотил слюну.
– Казните меня! – сказал он хрипло. – Не доглядел я нашего Каспера! Горе мне, горе! – закричал он, повалившись в снег у ног каноников. – Каспер продан в рабство на галеру! Прикован цепью к скамье наш Каспер!
На время отсутствия епископа отец Миколай распорядился обед подавать в небольшом зале, где, прислоненная к стене, красовалась золоченая арфа, а на полках были разложены и другие музыкальные инструменты. Здесь его преосвященство епископ вармийский музицировал в редкие свободные минуты.
Отопить это небольшое помещение было легче, чем огромную трапезную или библиотеку, и сюда на время отсутствия владыки переводили столовую. Это было распоряжение отца Миколая – «скупого братца, экономящего даже на дровах из соседнего леса», как выразился однажды Филипп Тешнер.
Блюда в зал вносил и выносил старый Войцех.
Никого ни о чем не расспрашивая, старик понял уже, что со студентом Каспером случилась какая-то беда: пан боцман никому не привез от него приветов и поклонов, а господа еду отсылали на кухню нетронутой, даже штоф с заповедной настойкой остался непочатым – и это после столь утомительной дороги по жестокому морозу!
Выслушав отчет пана Конопки о путешествии в Рим, Венецию и Константинополь, Миколай Коперник внимательно перечел письмо магистра. И он и отец Тидеман тут же узнали руку Альбрехта, а подлинность его подписи удостоверяли к тому же хорошо им известные печати Тевтонского ордена.
– Как порадует этот документ его преосвященство! – сказал отец Миколай, поднимая глаза на боцмана. – Он немедленно же вручит это письмо королю, никто лучше его не сможет справиться с такой задачей. Пожалуй, только у его преосвященства хватит ума и твердости открыть королю все вероломство магистра… Я знаю нрав его величества: он долго не хотел верить в предательство сына своей сестры, но, однажды убедившись в нем, он навсегда порвет с Орденом! Хорошо, что это случится нынче зимой, пока кшижаки не прикопили сил, чтобы противостоять Польше! И король, и епископ несомненно примут меры для того, чтобы освободить Каспера из неволи… Обменять… Выкупить… Нужно только точно узнать, где он находится…
– До бога высоко, до короля далеко, – возразил пан Конопка. – Пока его преосвященство и его величество будут толковать о государственных делах, да о защите границ, да о снаряжении отрядов, пройдет много времени. А хлопец может погибнуть от голода, жажды, непосильного труда, хотя и отец и я старались приучить его к лишениям, не делали из него барчука… Другого я опасаюсь: уж очень горячая кровь у нашего Каспера! Страшно подумать, но он может не стерпеть занесенной над его головой плети! И поплатится за это жизнью… Однако и без короля или епископа мы сможем… – Не докончив фразы, пан Конопка выложил на стол глухо брякнувшую холщовую сумку. – Выкуп! – сказал он коротко. – Здесь мое жалованье за службу на «Санта Лючии», все жалованье Каспера, а также деньги, полученные нами по завещанию капитана Зитто… Я ведь рассказывал вам о его смерти… Молоденькая племянница кардинала Мадзини также пожертвовала на выкуп Каспера пятьсот цехинов, но все это составило бы очень небольшую часть нужной нам суммы, если бы не его высокопреосвященство: кардинал Мадзини переслал вам три тысячи флоринов. Он велел сказать вам, что деньги эти он выхлопотал у его святейшества для нужд вармийского диацеза… Однако папа передал это золото кардиналу из рук в руки, никто об этом не знает, поэтому деньги эти, как сказал сам кардинал Мадзини, вы можете целиком употребить на выкуп Каспера.
Отец Тидеман с беспокойством посмотрел на отца Миколая. Злые языки не раз твердили, что Ваценрод и оба его племянника без зазрения совести запускают руки в денежный сундук Вармии, но он-то, Тидеман Гизе, отлично знает, что в слухах этих нет и крупицы истины.
Бедный Анджей, правда, в юности славился своей расточительностью, да и Миколай иногда проявлял легкомыслие, залезая в долги. Но долги эти в свое время до гроша были покрыты из собственных средств епископа. Случилось это много лет назад, а сейчас Миколай долгие годы ведет скромный, даже суровый образ жизни. Спит на досках, покрытых волчьей шкурой, носит убогое монашеское платье, сам изготовляет нужные для наблюдения за звездами инструменты, экономит на еде и вот – даже на топливе. А Лукаш Ваценрод если и тратит большие суммы на украшение костелов или на пышные приемы, то делает это он либо во славу господа, либо во славу Польши.
Растревоженный продолжительным молчанием обоих каноников, пан Конопка наконец решился поднять глаза на Коперника. Тот сидел неподвижно, сцепив свои длинные смуглые пальцы. Только на виске его, то вздуваясь, то опадая, напряженно билась тонкая голубая жилка.
– Эти три тысячи флоринов, – наконец сказал он тихо, но внятно, – деньги, принадлежащие вармийскому диацезу. Было решено, что они пойдут на снаряжение конных отрядов и на покупку двух бомбард. Кардинал Мадзини не знает, очевидно, об этом решении, иначе он не дал бы мне такого совета.
Боцман Конопка в отчаянии глянул в угол на огромное распятие, точно призывая господа на помощь. Потом с таким же отчаяньем перевел глаза на отца Тидемана, и тот, словно подстегнутый этим взглядом, решился вступить в пререкания со своим другом.
– Если бы не это письмо, которое, невзирая на все опасности, привез достойный пан Конопка и за которое Каспер Бернат заплатил своей свободой, не знаю, пришлось ли бы диацезу снаряжать войска и покупать бомбарды… Следовательно, надо думать, что письмо это вполне стоит трех тысяч флоринов!
– Письмо это уже обошлось Вармии в шесть тысяч флоринов, – сказал Коперник твердо, – и это не считая дорожных расходов Каспера и пана Конопки… Однако мы постараемся восполнить недостающую сумму…
Коперник вышел из комнаты, и не успели отец Тидеман и боцман обменяться недоумевающими взглядами, как он вернулся, неся в вытянутой руке нечто, завернутое в пестрый шелк.
– Возможно, это и не имеет большой ценности, – сказал он смущенно, – но в доме на улице Святой Анны в Торуни думали иначе.
Миколай Коперник имел в виду дом своего отца, бургомистра Торуньского.
Развернув пестрый шелк, пан Конопка тотчас же узнал усыпанный драгоценными камнями нагрудный крест, тот самый, который много лет назад пани Барбара Коперникова пыталась надеть ему на шею в награду за спасение сыновей из ледяных волн Вислы.
– Четырнадцать смарагдов, шесть рубинов, четыре крупные жемчужины и уж не знаю сколько мелких, – сказал Коперник.
По тому, с какою школярской старательностью перечислял он камни, Тидеман Гизе понял, как высоко ценился этот крест в семье Коперников. Понял это и пан Конопка и, подавив волнение, опустил семейную драгоценность в свою холщовую сумку.
– Золотых дел мастера в Гданьске, конечно, дадут за него большие деньги, – сказал он, вздохнув, – но жаль с ним расставаться… Там же, в Гданьске, на Рыбной улице, я знаю одного фламандца, он дает деньги в рост под залог драгоценностей. Цену он назначает ниже, чем обычный торговец, но это нам даже сподручнее: даст бог, сам бискуп захочет вознаградить Каспера за все его испытания и выкупить его из плена… Тогда мы и внесем фламандцу нужную сумму, а драгоценность останется в вашем роду…
– Род наш заканчивается на мне, – возразил Коперник с печальной улыбкой. – Я хотел крест этот отдать брату Анджею, но тот его не взял: в лепрозории эта драгоценность ни к чему. А нам сейчас важнее всего поскорее освободить Каспера. Поэтому прошу вас, пан Конопка, крест не закладывайте, а продайте! Время терять нельзя! Я сейчас напишу вам записку к моему двоюродному брату по дяде Лукашу – Миколаю Ферберу-младшему, он срочно устроит вас на любой корабль в Гданьске. Но для вручения этой записки вам придется податься немного в сторону: Миколай сейчас в Тчеве, у другого нашего двоюродного…
Видя, что боцман растерянно разводит руками, отец Миколай повторил строго:
– Время, мы решили, терять нельзя… как я понимаю, вы полагаете, что в Гданьске устроитесь на любой корабль без чьей бы то ни было помощи?.. Но кто знает, найдете ли вы на месте своих старых друзей?…
И пан Конопка должен был согласиться, что этак будет вернее.
– Да, время терять нельзя! – сказал он, поднимаясь из-за стола. – Готовьте записку. А завтра я, пока вы еще будете спать, тронусь на Тчев. Имя турецкого купца, к которому попал наш мальчик, я знаю. Кому он его сбыл, узнаю… Беда только в том, что христианину труднее выкупить христианина из неволи, чем турку, арабу или алжирцу… Узнают, что я прибыл ради этого, и заломят бог знает какую цену! Поэтому, думается мне…
«Пожалуй, мне лучше потолковать об этом с отцом Гизе наедине, – решил он про себя. – Он снисходительнее и уступчивее…»
Когда поздно вечером Якуб Конопка вышел из покоев Тидемана Гизе, вид у него был до крайности обескураженный. Как ни снисходителен был каноник, но дать боцману отпущение грехов «вперед», как тот просил, Тидеман отказался наотрез.
– У меня нет индульгенций, – сказал он с несвойственной ему резкостью, – за этим вам следует обратиться к отцам доминиканцам или к бродячим монахам, посылаемым его святейшеством…
И на душе у каноника Миколая было нехорошо и холодно, точно это непогода и злой мороз принесли с собой горести и заботы.
После поездки в Краков, куда Коперник сопровождал Лукаша Ваценрода на торжества, устраиваемые по поводу свадьбы короля Зыгмунта и коронации новой королевы,
[44]отец Миколай собирался отправиться с епископом на Всепольский сейм, в Петрков. Вместо этого ему пришлось поспешить во Фромборк: из капитула пришло известие о болезни его старшего брата Анджея.
Сначала ни сам Коперник, ни другие врачи не могли определить болезни Анджея, а когда распознали ее страшные приметы, стало понятно, что тут ничем помочь нельзя: Анджей был болен проказой.
Вот когда отцы каноники вармийские получили возможность свести счеты с Ваценродами и Коперниками, вот когда они могли наконец отомстить Лукашу за самоуправство, как они называли непрестанное наблюдение епископа за делами капитула. До него ни один из епископов, облеченных, правда, и светской властью, не решался власть эту осуществлять на деле с такою твердостью, как это делал Ваценрод! И племянник его идет по стопам владыки!
Милосердные отцы каноники отказали Анджею даже в лошадях – доехать до лепрозория. Много горячих споров пришлось выдержать отцу Миколаю, пока он наконец добился небольшой суммы для Анджея, выданной ему отцом казначеем на дорогу.
Наступила трудная минута расставания. Коперник понимал, что навеки теряет брата, которого даже нельзя обнять и поцеловать на прощанье. Это была тяжелая утрата: нисколько не схожие между собой, братья всю жизнь были нежно привязаны друг к другу. С непокрытой головой стоял каноник, глядя вслед удаляющемуся возку, а рядом с ним – верный друг его Тидеман Гизе. Добрый отец Тидеман с тревогой следил за тем, как замерзают слезы на щеках Миколая, как покрывается инеем меховой воротник его плаща, и осторожно тронул Коперника за локоть.
– Пойдем, брат, – сказал он тихо, – мне ли не знать, как тяжело тебе в эти минуты, но время не ждет, нам пора в Лидзбарк. Не сегодня – завтра вернется его преосвященство, нужно подготовить замок к его приезду. Да и темнеет уже, а по дорогам стаями бродят голодные волки.
Отцу Тидеману не терпелось расспросить друга о краковских новостях, о взаимоотношениях короля с Орденом, о том, нет ли вестей из Константинополя, но он понимал, что брату Миколаю сейчас не до этого.
Однако, отерев слезы, надев шапку и запахнувшись в плащ, Коперник точно преобразился. Он снова откинул назад голову, расправил плечи, только по углам его детского рта проступили морщинки, придающие ему разительное сходство с Лукашем Ваценродом, а под глазами гуще залегли синие тени. Но как ни поднимал вармийский каноник голову, как ни расправлял плечи, друг его Тидеман с грустью думал: «Старится Миколай! Старится наш орел Миколай Торуньский! Заботы, неприязнь глупых и темных людей, зависть ближайшего родственника – Филиппа Тешнера, бессонные ночи в башне, отданные наблюдениям за светилами, забота о бедном люде Вармии – все это провело неизгладимые борозды на его когда-то ясном челе…»
– Известий о Каспере до сих пор нет, – сказал Коперник, точно предугадывая расспросы Гизе. – И тебя, вероятно, тревожат вести об Ордене? Так вот, епископ пытался говорить с королем о предательстве магистра, но его величество и слушать не хочет… Кое-кто из наших нашептал ему, что владыка вармийский, руководимый личной неприязнью к магистру, что ни день находит новые причины для нападок на Орден. Маршал Ордена – краснобай фон Эйзенберг – уже открыто читает при дворе пасквиль на епископа, а король с королевой только смеются… Дошло до того, что королева сказала мне с укором: «Удержите своего могущественного дядю, не давайте ему начинать войну с Орденом! Короли тоже люди, дайте нам насладиться покоем и празднествами, перестаньте тратить деньги диацеза на оружие и припасы. Как хочется, чтобы двор наш роскошью и блеском мог соперничать с другими европейскими дворами!»
– Ты ответил что-нибудь королеве? – спросил Гизе. – Объяснил ей, что войны все равно не миновать, но что, когда бранденбуржец войдет в силу, это будет не война, а бойня, тевтоны сотрут Вармию с лица земли?
Коперник молча смотрел вперед на вихри снега, взметаемые ветром.
– Я ничего не сказал ей, – наконец отозвался он. – Не следует в такой торжественный день, как свадьба ее величества, напоминать о неприятностях… Дядя, конечно, не преминул бы воспользоваться таким предлогом, чтобы поговорить о деле, которое нас всех волнует. Но я рассудил так: если даже сам Зыгмунт верит племяннику, то как мне убедить королеву в своей правоте? Кроме того, беседуя со мной, ее величество кидала по сторонам такие беспомощные взгляды, что я понял: королева жаждет поскорее закончить разговор. Пишет же этот повеса Эйзенберг, что, кроме жалоб и наставлений, от вармийцев ничего не услышишь. А так как ни жалоб, ни наставлений с моей стороны не последовало, то ее величество, очевидно, из благодарности за молчание завела со мной любезный разговор. «Слыхали ли вы, – спросила королева, – новые стихи пана Дантышка, королевского секретаря? И добавила: – Матерь божья, у меня даже язык не поворачивается сказать о Дантышке „его преподобие“, такой это приятный и обходительный господин! Какая жалость, что он принял духовный сан!»
Возок переваливался с ухаба на ухаб, разговаривать стало трудно.
– Ну, Дантышку сан его нисколько не мешает вести светский образ жизни, – заметил Гизе с грустной усмешкой.
Но Коперник не поддержал этого разговора.
– Тидеман, Тидеман, – с болью произнес он, – как необходимо нам возможно скорее получить письмо Альбрехта! У меня и без того тяжело на сердце, а как подумаю, что с Каспером Бернатом могла стрястись какая-нибудь беда…
Друзья замолчали и до самого поворота дороги к Лидзбарку обменивались только короткими замечаниями.
Оба думали об одном и том же: жадные отцы каноники держатся за свои насиженные места, за пребенды,
[45]за власть. Они обвиняют владыку в том, что он не хочет ладить с Орденом. Рассуждают святые отцы примерно так: если действительно на границе Вармии вырастет могущественное, враждебное Польше государство, то кто его знает, может быть, для Вармии выгоднее поддерживать добрососедские отношения именно с ним, а никак не с Польшей?
Отец Тидеман вспомнил свой разговор с одним из членов капитула. «Миколай Коперник, – сказал тот каноник, – весь в дядю! Все ему нужно, во все он вмешивается! Сидел бы у себя в Лидзбарке, лечил бы своих грязных хлопов, если ему это так нравится, да любовался бы на звезды. А ему, видите ли, обязательно надо защищать Польшу от тевтонов, как будто король и без него не справится… А то ему вдруг приходится не по нраву, что города сами чеканят монету, – от этого, мол, Польше большой убыток, так как чеканщики подмешивают к серебру медь и олово… Да бог с ней, с Польшей! Правда, из-за порченой монеты товар у купцов сильно дорожает, но отцов каноников это не касается: не станут же купцы драть втридорога с духовных особ… А господа шляхтичи пускай себе раскошеливаются!»
«Что им за дело до великой Польши, этим ленивым сердцам! – с грустью думал отец Гизе. – Был бы им хороший стол, да мягкая перина, да почтительные слуги, да щедрые прихожане…»
– Говорят что-нибудь о чеканке монеты? – спросил вдруг Коперник.
Отец Тидеман даже вздрогнул, хотя он и привык к тому, что ему с братом Миколаем одновременно приходят на ум одни и те же мысли.
Да они с Миколаем, пожалуй, ближе, чем братья, и больше, чем друзья: и у того и у другого одни помыслы и одни заботы.
– Я как раз сейчас раздумывал об этом, – признался он устало. – Достаточно было тебе с владыкой уехать, как в капитуле завязались распри и споры… Все о той же чеканке монеты. А в магистратах, говорят, до рукопашной доходит…
– И все клянут меня? – спросил Коперник с невеселой улыбкой. – Ничего, когда-нибудь убедятся, как я был прав! Из-за алчных купцов страдает вся Польша!
С порченой монеты мысли Тидемана Гизе перешли на Дантышка, о котором с такой похвалой отзывались при дворе. Да, верно: не к чему было Дантышку принимать сан! Именно такие, как он, и вызывают в народе ненависть к духовенству. Шляхта и краковский двор все прощают Дантышку за его складные латинские стихи, за любезные манеры… Король с королевой особенно благоволят к нему; дипломат он отличный и доказал свое умение находить дорогу к сердцам венценосцев еще в бытность свою послом при императорском дворе… Но среди простого люда ходят слухи о его попойках, о многоженстве, о взятках, которые он берет с купцов… А король души в нем не чает… Ах, Зыгмунт, Зыгмунт, как уверить тебя, что расположением твоим пользуются недостойные люди! Как доказать тебе, что отнюдь не личная неприязнь питает ненависть епископа к Ордену, а ясное и точное предвидение политика. Будь сейчас в руках у Зыгмунта письмо магистра, можно было бы еще повернуть ход событий на пользу Польше!
Как ни торопил Тидеман Гизе отца Миколая с отъездом, ночь все же застала путников в дороге. Лошади испуганно шарахались от каждого встречного куста, возница вконец измучился, и, только завидев впереди башни Лидзбарка, бедняга осенил себя крестным знамением и прочитал благодарственную молитву.
Остановив возок у въезда в замок, он только чуть стукнул в чугунные ворота, зная, что каноника дожидаются с нетерпением. Однако ему пришлось постучать еще раз, другой и третий. Миколай Коперник сидел, сцепив руки и не обращая внимания на задержку. Наконец ворота распахнулись. Человек с фонарем отступил в тень. Приглядываясь к нему, отец Тидеман подумал: «До чего эта стужа заставляет людей ежиться! Привратник Бартек сейчас кажется вдвое ниже ростом».
– «Во имя отца, и сына, и святого духа», – произнес отец Миколай обычное приветствие и вдруг, выпрыгнув из возка, бросился к человеку с фонарем: – Пан Конопка! Давно ли? Где Каспер?
«Нет, нет, нисколько брат Миколай не постарел! – решил про себя Тидеман Гизе. – Он еще молод и телом и душой!»
– Здравствуйте, добрый пан Конопка! – обратился Тидеман, в свою очередь, к боцману.
– А где же Каспер? – повторил Коперник с улыбкой. – Небось ждал нас, ждал, да и прикорнул где-нибудь в келье. Или у моего молодого друга теперь другие привычки?
Пан Конопка не отвечал.
«Конечно, Каспер, как видно, утомился с дороги, заснул, а пан Конопка не хочет его выдавать. Это у них частенько случалось и прежде… – подумал отец Миколай и вдруг с удивлением и тревогой поднес руку к левой стороне груди. – Почему это так заколотилось сердце?»
– Да что я допытываюсь о Каспере, – улыбаясь, сказал он, стараясь перебороть волнение. – Я сам посоветовал ему остаться продолжать учение в Италии…
Пан Конопка молчал.
– Да где же Каспер?! – почти закричал Тидеман Гизе, но, глянув на помертвевшее лицо отца Миколая, принудил себя улыбнуться. – Успокойте нас, добрый пан Конопка, расскажите, что с Каспером… В каких итальянских городах привлекает он внимание прекрасных синьорин своими огненными вихрами?
Боцман громко проглотил слюну.
– Казните меня! – сказал он хрипло. – Не доглядел я нашего Каспера! Горе мне, горе! – закричал он, повалившись в снег у ног каноников. – Каспер продан в рабство на галеру! Прикован цепью к скамье наш Каспер!
На время отсутствия епископа отец Миколай распорядился обед подавать в небольшом зале, где, прислоненная к стене, красовалась золоченая арфа, а на полках были разложены и другие музыкальные инструменты. Здесь его преосвященство епископ вармийский музицировал в редкие свободные минуты.
Отопить это небольшое помещение было легче, чем огромную трапезную или библиотеку, и сюда на время отсутствия владыки переводили столовую. Это было распоряжение отца Миколая – «скупого братца, экономящего даже на дровах из соседнего леса», как выразился однажды Филипп Тешнер.
Блюда в зал вносил и выносил старый Войцех.
Никого ни о чем не расспрашивая, старик понял уже, что со студентом Каспером случилась какая-то беда: пан боцман никому не привез от него приветов и поклонов, а господа еду отсылали на кухню нетронутой, даже штоф с заповедной настойкой остался непочатым – и это после столь утомительной дороги по жестокому морозу!
Выслушав отчет пана Конопки о путешествии в Рим, Венецию и Константинополь, Миколай Коперник внимательно перечел письмо магистра. И он и отец Тидеман тут же узнали руку Альбрехта, а подлинность его подписи удостоверяли к тому же хорошо им известные печати Тевтонского ордена.
– Как порадует этот документ его преосвященство! – сказал отец Миколай, поднимая глаза на боцмана. – Он немедленно же вручит это письмо королю, никто лучше его не сможет справиться с такой задачей. Пожалуй, только у его преосвященства хватит ума и твердости открыть королю все вероломство магистра… Я знаю нрав его величества: он долго не хотел верить в предательство сына своей сестры, но, однажды убедившись в нем, он навсегда порвет с Орденом! Хорошо, что это случится нынче зимой, пока кшижаки не прикопили сил, чтобы противостоять Польше! И король, и епископ несомненно примут меры для того, чтобы освободить Каспера из неволи… Обменять… Выкупить… Нужно только точно узнать, где он находится…
– До бога высоко, до короля далеко, – возразил пан Конопка. – Пока его преосвященство и его величество будут толковать о государственных делах, да о защите границ, да о снаряжении отрядов, пройдет много времени. А хлопец может погибнуть от голода, жажды, непосильного труда, хотя и отец и я старались приучить его к лишениям, не делали из него барчука… Другого я опасаюсь: уж очень горячая кровь у нашего Каспера! Страшно подумать, но он может не стерпеть занесенной над его головой плети! И поплатится за это жизнью… Однако и без короля или епископа мы сможем… – Не докончив фразы, пан Конопка выложил на стол глухо брякнувшую холщовую сумку. – Выкуп! – сказал он коротко. – Здесь мое жалованье за службу на «Санта Лючии», все жалованье Каспера, а также деньги, полученные нами по завещанию капитана Зитто… Я ведь рассказывал вам о его смерти… Молоденькая племянница кардинала Мадзини также пожертвовала на выкуп Каспера пятьсот цехинов, но все это составило бы очень небольшую часть нужной нам суммы, если бы не его высокопреосвященство: кардинал Мадзини переслал вам три тысячи флоринов. Он велел сказать вам, что деньги эти он выхлопотал у его святейшества для нужд вармийского диацеза… Однако папа передал это золото кардиналу из рук в руки, никто об этом не знает, поэтому деньги эти, как сказал сам кардинал Мадзини, вы можете целиком употребить на выкуп Каспера.
Отец Тидеман с беспокойством посмотрел на отца Миколая. Злые языки не раз твердили, что Ваценрод и оба его племянника без зазрения совести запускают руки в денежный сундук Вармии, но он-то, Тидеман Гизе, отлично знает, что в слухах этих нет и крупицы истины.
Бедный Анджей, правда, в юности славился своей расточительностью, да и Миколай иногда проявлял легкомыслие, залезая в долги. Но долги эти в свое время до гроша были покрыты из собственных средств епископа. Случилось это много лет назад, а сейчас Миколай долгие годы ведет скромный, даже суровый образ жизни. Спит на досках, покрытых волчьей шкурой, носит убогое монашеское платье, сам изготовляет нужные для наблюдения за звездами инструменты, экономит на еде и вот – даже на топливе. А Лукаш Ваценрод если и тратит большие суммы на украшение костелов или на пышные приемы, то делает это он либо во славу господа, либо во славу Польши.
Растревоженный продолжительным молчанием обоих каноников, пан Конопка наконец решился поднять глаза на Коперника. Тот сидел неподвижно, сцепив свои длинные смуглые пальцы. Только на виске его, то вздуваясь, то опадая, напряженно билась тонкая голубая жилка.
– Эти три тысячи флоринов, – наконец сказал он тихо, но внятно, – деньги, принадлежащие вармийскому диацезу. Было решено, что они пойдут на снаряжение конных отрядов и на покупку двух бомбард. Кардинал Мадзини не знает, очевидно, об этом решении, иначе он не дал бы мне такого совета.
Боцман Конопка в отчаянии глянул в угол на огромное распятие, точно призывая господа на помощь. Потом с таким же отчаяньем перевел глаза на отца Тидемана, и тот, словно подстегнутый этим взглядом, решился вступить в пререкания со своим другом.
– Если бы не это письмо, которое, невзирая на все опасности, привез достойный пан Конопка и за которое Каспер Бернат заплатил своей свободой, не знаю, пришлось ли бы диацезу снаряжать войска и покупать бомбарды… Следовательно, надо думать, что письмо это вполне стоит трех тысяч флоринов!
– Письмо это уже обошлось Вармии в шесть тысяч флоринов, – сказал Коперник твердо, – и это не считая дорожных расходов Каспера и пана Конопки… Однако мы постараемся восполнить недостающую сумму…
Коперник вышел из комнаты, и не успели отец Тидеман и боцман обменяться недоумевающими взглядами, как он вернулся, неся в вытянутой руке нечто, завернутое в пестрый шелк.
– Возможно, это и не имеет большой ценности, – сказал он смущенно, – но в доме на улице Святой Анны в Торуни думали иначе.
Миколай Коперник имел в виду дом своего отца, бургомистра Торуньского.
Развернув пестрый шелк, пан Конопка тотчас же узнал усыпанный драгоценными камнями нагрудный крест, тот самый, который много лет назад пани Барбара Коперникова пыталась надеть ему на шею в награду за спасение сыновей из ледяных волн Вислы.
– Четырнадцать смарагдов, шесть рубинов, четыре крупные жемчужины и уж не знаю сколько мелких, – сказал Коперник.
По тому, с какою школярской старательностью перечислял он камни, Тидеман Гизе понял, как высоко ценился этот крест в семье Коперников. Понял это и пан Конопка и, подавив волнение, опустил семейную драгоценность в свою холщовую сумку.
– Золотых дел мастера в Гданьске, конечно, дадут за него большие деньги, – сказал он, вздохнув, – но жаль с ним расставаться… Там же, в Гданьске, на Рыбной улице, я знаю одного фламандца, он дает деньги в рост под залог драгоценностей. Цену он назначает ниже, чем обычный торговец, но это нам даже сподручнее: даст бог, сам бискуп захочет вознаградить Каспера за все его испытания и выкупить его из плена… Тогда мы и внесем фламандцу нужную сумму, а драгоценность останется в вашем роду…
– Род наш заканчивается на мне, – возразил Коперник с печальной улыбкой. – Я хотел крест этот отдать брату Анджею, но тот его не взял: в лепрозории эта драгоценность ни к чему. А нам сейчас важнее всего поскорее освободить Каспера. Поэтому прошу вас, пан Конопка, крест не закладывайте, а продайте! Время терять нельзя! Я сейчас напишу вам записку к моему двоюродному брату по дяде Лукашу – Миколаю Ферберу-младшему, он срочно устроит вас на любой корабль в Гданьске. Но для вручения этой записки вам придется податься немного в сторону: Миколай сейчас в Тчеве, у другого нашего двоюродного…
Видя, что боцман растерянно разводит руками, отец Миколай повторил строго:
– Время, мы решили, терять нельзя… как я понимаю, вы полагаете, что в Гданьске устроитесь на любой корабль без чьей бы то ни было помощи?.. Но кто знает, найдете ли вы на месте своих старых друзей?…
И пан Конопка должен был согласиться, что этак будет вернее.
– Да, время терять нельзя! – сказал он, поднимаясь из-за стола. – Готовьте записку. А завтра я, пока вы еще будете спать, тронусь на Тчев. Имя турецкого купца, к которому попал наш мальчик, я знаю. Кому он его сбыл, узнаю… Беда только в том, что христианину труднее выкупить христианина из неволи, чем турку, арабу или алжирцу… Узнают, что я прибыл ради этого, и заломят бог знает какую цену! Поэтому, думается мне…
«Пожалуй, мне лучше потолковать об этом с отцом Гизе наедине, – решил он про себя. – Он снисходительнее и уступчивее…»
Когда поздно вечером Якуб Конопка вышел из покоев Тидемана Гизе, вид у него был до крайности обескураженный. Как ни снисходителен был каноник, но дать боцману отпущение грехов «вперед», как тот просил, Тидеман отказался наотрез.
– У меня нет индульгенций, – сказал он с несвойственной ему резкостью, – за этим вам следует обратиться к отцам доминиканцам или к бродячим монахам, посылаемым его святейшеством…
