Страница:
– Да, и я попросил бы вас называть ее полным именем, – сказал купец, виноватой улыбкой прося прощения за высказанную просьбу. – Знаете, детская дружба… игры… все это со временем отходит далеко…
– Да у нас с панной Вандой и дружбы особой никогда не было. Она была совсем ребенком, когда я ее знавал… Я больше дразнил ее, – успокоил Каспер Куглера. – Мне просто любопытно было бы сейчас поглядеть на нее… Какая она? Значит, вы завоевали все-таки ее сердце? – повторил он.
– Стучусь, стучусь в это гордое сердечко, – пояснил Куглер, – и, надо думать, в самом непродолжительном времени достучусь… Пан Вацлав принял мое предложение, панна Ванда дала свое согласие, пани Ангелина говорит, что о лучшем зяте и мечтать не приходится… Правда, сама нареченная еще ни словом не обмолвилась мне о любви, – добавил Куглер, беспомощно разводя руками.
– Ну что вы, пан Куглер, какая же паненка будет говорить своему жениху о любви! Да это понятно само собой!
– А повидать панну Ванду вы сможете в самом непродолжительном времени, – заметил купец, наливая гостю стакан вина. – Я потому и попросил вас только перекусить, что вскорости намереваюсь угостить вас неплохим обедом: часа через два я жду к себе все семейство Суходольских… Будет и Збышек со своей невестой – дочерью покойного профессора Ланге…
Каспер вскочил с места.
– Прошу простить меня, – сказал он взволнованно, – я не могу показаться им в столь растерзанном дорожном виде. Я, конечно, навещу семью своего друга, но несколько позже… А пока очень прошу вас, не сообщайте им о моем прибытии в Гданьск… В скором времени мы непременно с вами встретимся в доме панов Суходольских…
– Понимаю, понимаю, – ответил купец, хотя понимал одно: пускай этот несчастный сбросит с себя дорожный костюм, пускай разрядится в шелка и бархат, но этих страшных шрамов с физиономии ему не стереть.
А вслух он сказал:
– Я, помнится, давно уже дал вам возможность убедиться, что отношусь к вам с огромным расположением. – О том, что он высадил Каспера из своего дорожного возка в Торуни, купец, очевидно, забыл. – Прошу вас заходить ко мне почаще… Я рад услышать вашу одиссею… Могу свести пана Каспера со многими видными, влиятельными людьми Гданьска… Пан Каспер, если не ошибаюсь, сын славного капитана Берната, а я как раз веду сейчас дела Гданьской судовладельческой компании, где в зале, на видном месте, висит писанный маслом портрет вашего достойного батюшки…
«Ага, вот в чем дело, – сказал сам себе Каспер и поторопился попрощаться с хозяином. – До обеда еще два часа… Даст бог, мы с ними разминемся», – решил он, сбегая по широкой лестнице. Дойдя до соседней ограды, Каспер, оглянувшись на резное крыльцо Куглера, вздохнул было с облегчением. И вдруг из-за угла навстречу ему показалась целая процессия, направляющаяся к дому, который он только что покинул.
Впереди, поддерживаемая под руки двумя служанками или приживалками, медленно выступала невысокая полная пожилая дама, а справа от нее, чуть отступя, чтобы не задеть ее шлейф, – представительный усач.
«Паны Суходольские… Как мало они изменились!» – подумал Каспер.
Но, матка бозка, какими судьбами?! Слева от пани Ангелины, тоже отступая на шаг и изредка перекидываясь с ней и с ее супругом фразами, шагал… доктор Миколай Коперник! Не замечая прижавшегося к стене Каспера, каноник прошел мимо.
«Как же это Учитель и словом не обмолвился о том, что собирается к Суходольским или Куглеру?!» Однако задумываться об этом Касперу было некогда, глаза его перебегали с одного лица на другое и остановились на последней паре. Две девушки, точно для того, чтобы подчеркнуть разительное несходство свое, шли, замыкая растянувшуюся процессию. Одна, высокая, тонкая, темноглазая, была несомненно красива и прелестна, но взгляд Каспера был прикован к другой – золотоволосой.
Шла она, склонив голову, и слушала, опустив ресницы, что говорила ее спутница.
Глаза! Глаза Митты! Как хотелось Касперу поглядеть в них!
Подходя к дому Куглера, пани Ангелина обратилась с каким-то вопросом к девушкам. Митта подняла наконец свои голубые, обведенные темными кругами глаза, и молодой человек должен был опереться на резную решетку.
Это была и Митта и не Митта… Это, конечно, была не та Митта, которая когда-то в морозное зимнее утро рыдала у него на груди в заснеженном переулке Краковского предместья. Это была новая Митта, как бы старшая сестра прежней: те же черты лица, те же голубые глаза, но выражение этих глаз – о боже! – совсем иное… Ведь тогда – ранним утром, когда Митта рыдала, прощаясь с ним, на лице ее сквозь слезы, точно солнышко сквозь тучи, нет-нет да проступала детская простодушная улыбка… Недаром профессор Ланге частенько пенял дочери, что не подобает немецкой степенной девушке держаться этаким шаловливым котенком.
Черты лица Митты остались, понятно, те же, но сделались как-то суше, строже… Сейчас перед Каспером была взрослая печальная прекрасная женщина с несколько изможденным лицом и горькой складкой у рта. Заточение в монастыре могло изменить ее характер, но – кто знает? – может быть, и разлука с любимым? Может быть, отец Миколай неправ…
Ведь поется же в песнях, да и философы всех стран и эпох твердят о том, что истинная любовь не считается с разлукой и не тускнеет от времени… «Узнает она меня или нет? Если, несмотря на эти страшные шрамы, узнает, значит – любит, значит – будет любить… А тогда…»
Каспер и сам не знал, что будет тогда… Белый, как мел, с неистово колотящимся сердцем, стоял он, дожидаясь, что Митта вот-вот встретится
сним взглядом. Когда девушка подошла поближе, рука его невольно потянулась к ней, а сердце замерло в ожидании ее слов, ее голоса. Он даже закрыл глаза в ожидании чуда.
Первой, однако, отозвалась кареглазая девушка:
– Смотри, Митта! Бедняжка – такой молодой, статный и так изранен! Стыд нам и грех, что люди, сражавшиеся за родину, должны протягивать руку за подаянием!
Замедлив шаги, Митта в упор взглянула на Каспера. Губы ее горько сжались, что-то в лице дрогнуло от сострадания.
 Дрожащими пальцами нащупала она у пояса кошелек, а нежный, нисколько не изменившийся за эти долгие годы голос произнес:
Дрожащими пальцами нащупала она у пояса кошелек, а нежный, нисколько не изменившийся за эти долгие годы голос произнес:
– Помолись, убогонький, за упокой души воина Каспера!
В ладонь молодого человека легла холодная монета.
Каспер открыл глаза и несколько мгновений, точно окаменев, не мог двинуться с места. Потом он весь как-то сжался, сгорбился и опрометью кинулся прочь.
И вдруг все члены семьи Суходольских, доктор Миколай Коперник и сам вышедший навстречу гостям Адольф Куглер увидели, как Збигнев Суходольский, который стал было уже подниматься по ступенькам, круто повернул назад и с криком «Каспер! Каспер!» бросился вслед за странным человеком в дорожной одежде.
– Да у нас с панной Вандой и дружбы особой никогда не было. Она была совсем ребенком, когда я ее знавал… Я больше дразнил ее, – успокоил Каспер Куглера. – Мне просто любопытно было бы сейчас поглядеть на нее… Какая она? Значит, вы завоевали все-таки ее сердце? – повторил он.
– Стучусь, стучусь в это гордое сердечко, – пояснил Куглер, – и, надо думать, в самом непродолжительном времени достучусь… Пан Вацлав принял мое предложение, панна Ванда дала свое согласие, пани Ангелина говорит, что о лучшем зяте и мечтать не приходится… Правда, сама нареченная еще ни словом не обмолвилась мне о любви, – добавил Куглер, беспомощно разводя руками.
– Ну что вы, пан Куглер, какая же паненка будет говорить своему жениху о любви! Да это понятно само собой!
– А повидать панну Ванду вы сможете в самом непродолжительном времени, – заметил купец, наливая гостю стакан вина. – Я потому и попросил вас только перекусить, что вскорости намереваюсь угостить вас неплохим обедом: часа через два я жду к себе все семейство Суходольских… Будет и Збышек со своей невестой – дочерью покойного профессора Ланге…
Каспер вскочил с места.
– Прошу простить меня, – сказал он взволнованно, – я не могу показаться им в столь растерзанном дорожном виде. Я, конечно, навещу семью своего друга, но несколько позже… А пока очень прошу вас, не сообщайте им о моем прибытии в Гданьск… В скором времени мы непременно с вами встретимся в доме панов Суходольских…
– Понимаю, понимаю, – ответил купец, хотя понимал одно: пускай этот несчастный сбросит с себя дорожный костюм, пускай разрядится в шелка и бархат, но этих страшных шрамов с физиономии ему не стереть.
А вслух он сказал:
– Я, помнится, давно уже дал вам возможность убедиться, что отношусь к вам с огромным расположением. – О том, что он высадил Каспера из своего дорожного возка в Торуни, купец, очевидно, забыл. – Прошу вас заходить ко мне почаще… Я рад услышать вашу одиссею… Могу свести пана Каспера со многими видными, влиятельными людьми Гданьска… Пан Каспер, если не ошибаюсь, сын славного капитана Берната, а я как раз веду сейчас дела Гданьской судовладельческой компании, где в зале, на видном месте, висит писанный маслом портрет вашего достойного батюшки…
«Ага, вот в чем дело, – сказал сам себе Каспер и поторопился попрощаться с хозяином. – До обеда еще два часа… Даст бог, мы с ними разминемся», – решил он, сбегая по широкой лестнице. Дойдя до соседней ограды, Каспер, оглянувшись на резное крыльцо Куглера, вздохнул было с облегчением. И вдруг из-за угла навстречу ему показалась целая процессия, направляющаяся к дому, который он только что покинул.
Впереди, поддерживаемая под руки двумя служанками или приживалками, медленно выступала невысокая полная пожилая дама, а справа от нее, чуть отступя, чтобы не задеть ее шлейф, – представительный усач.
«Паны Суходольские… Как мало они изменились!» – подумал Каспер.
Но, матка бозка, какими судьбами?! Слева от пани Ангелины, тоже отступая на шаг и изредка перекидываясь с ней и с ее супругом фразами, шагал… доктор Миколай Коперник! Не замечая прижавшегося к стене Каспера, каноник прошел мимо.
«Как же это Учитель и словом не обмолвился о том, что собирается к Суходольским или Куглеру?!» Однако задумываться об этом Касперу было некогда, глаза его перебегали с одного лица на другое и остановились на последней паре. Две девушки, точно для того, чтобы подчеркнуть разительное несходство свое, шли, замыкая растянувшуюся процессию. Одна, высокая, тонкая, темноглазая, была несомненно красива и прелестна, но взгляд Каспера был прикован к другой – золотоволосой.
Шла она, склонив голову, и слушала, опустив ресницы, что говорила ее спутница.
Глаза! Глаза Митты! Как хотелось Касперу поглядеть в них!
Подходя к дому Куглера, пани Ангелина обратилась с каким-то вопросом к девушкам. Митта подняла наконец свои голубые, обведенные темными кругами глаза, и молодой человек должен был опереться на резную решетку.
Это была и Митта и не Митта… Это, конечно, была не та Митта, которая когда-то в морозное зимнее утро рыдала у него на груди в заснеженном переулке Краковского предместья. Это была новая Митта, как бы старшая сестра прежней: те же черты лица, те же голубые глаза, но выражение этих глаз – о боже! – совсем иное… Ведь тогда – ранним утром, когда Митта рыдала, прощаясь с ним, на лице ее сквозь слезы, точно солнышко сквозь тучи, нет-нет да проступала детская простодушная улыбка… Недаром профессор Ланге частенько пенял дочери, что не подобает немецкой степенной девушке держаться этаким шаловливым котенком.
Черты лица Митты остались, понятно, те же, но сделались как-то суше, строже… Сейчас перед Каспером была взрослая печальная прекрасная женщина с несколько изможденным лицом и горькой складкой у рта. Заточение в монастыре могло изменить ее характер, но – кто знает? – может быть, и разлука с любимым? Может быть, отец Миколай неправ…
Ведь поется же в песнях, да и философы всех стран и эпох твердят о том, что истинная любовь не считается с разлукой и не тускнеет от времени… «Узнает она меня или нет? Если, несмотря на эти страшные шрамы, узнает, значит – любит, значит – будет любить… А тогда…»
Каспер и сам не знал, что будет тогда… Белый, как мел, с неистово колотящимся сердцем, стоял он, дожидаясь, что Митта вот-вот встретится
сним взглядом. Когда девушка подошла поближе, рука его невольно потянулась к ней, а сердце замерло в ожидании ее слов, ее голоса. Он даже закрыл глаза в ожидании чуда.
Первой, однако, отозвалась кареглазая девушка:
– Смотри, Митта! Бедняжка – такой молодой, статный и так изранен! Стыд нам и грех, что люди, сражавшиеся за родину, должны протягивать руку за подаянием!
Замедлив шаги, Митта в упор взглянула на Каспера. Губы ее горько сжались, что-то в лице дрогнуло от сострадания.

– Помолись, убогонький, за упокой души воина Каспера!
В ладонь молодого человека легла холодная монета.
Каспер открыл глаза и несколько мгновений, точно окаменев, не мог двинуться с места. Потом он весь как-то сжался, сгорбился и опрометью кинулся прочь.
И вдруг все члены семьи Суходольских, доктор Миколай Коперник и сам вышедший навстречу гостям Адольф Куглер увидели, как Збигнев Суходольский, который стал было уже подниматься по ступенькам, круто повернул назад и с криком «Каспер! Каспер!» бросился вслед за странным человеком в дорожной одежде.
Глава десятая
ПРИЗНАНИЕ ПАНИ АНЕЛЬКИ САНАТОРОВОЙ
Не для веселой застольной беседы, не отведать вкусные, отлично приготовленные поваром пана Куглера бигосы, паштеты и вертуты направлялся шляхтич Суходольский в дом своего будущего зятя.
Дело в том, что сегодня утром, спозаранку, в дверь к пану Вацлаву постучалась испуганная, не снявшая даже папильоток и ночного чепца супруга его, пани Ангелина.
– Вацек, – сказала она жалобно, – тут пришла ко мне какая-то женщина… Говорит, что она жена доктора, но этому трудно поверить. Знаешь, вид у нее… Поговори с ней и дай немного денег… Она такая растрепанная, что просто страшно. Болтает бог знает что… Про инквизицию, про какого-то раненого хлопа… Я не поняла и половины…
И тут же, следом за пани Суходольской, в кабинет хозяина ворвалась маленькая, худая и действительно очень растрепанная женщина.
– Ой, Езус-Мария, горе мне, горе! – кричала она, тревожа утренний сон еще не поднявшихся с постелей молодых обитателей дома. – Я сама погубила его своим языком! И молодого шляхтича, и эту странную больную паненку!
Не слушая ее дальше, пан Вацлав осторожно выдворил из кабинета свою супругу и плотно прикрыл за ней дверь.
– О чем вы говорите? – спросил он строго, поворачиваясь к ранней посетительнице.
Но та уже судорожно рыдала перед распятием, ломая худые и не очень чистые руки.
Слово за слово пану Вацлаву удалось выпытать у гостьи следующее: Иоанн Санатор, он же Иоганн Вальдманн, муж этой женщины, человек общительный, не отказывающийся в компании пропустить лишнюю кружку пива. Заработки у него неплохие, и жили бы они неплохо, если бы не эта его пагубная страсть и не его щедрый и расточительный характер.
– Вот недавно, пусть пан Суходольский не обижается, ее Ганс бесплатно перевязал и смазал целебной мазью руку хлопа пана Суходольского… И бинты и мазь стоят денег, а Ганс не взял с больного ни гроша…
Пан Вацлав удивленно поднял брови, припоминая, какой же это его хлоп обращался за помощью к доктору Санатору. Так и не вспомнив такого случая, он учтиво пододвинул посетительнице кресло.
– Потом он был приглашен в этот прекрасный дом и лечил молодую паненку… Ясновельможный пан, правда, хорошо ему заплатил, но Ганс тут же отнес золотой в трактир и угощал всех пропойц города Гданьска. Мало того: когда она, жена его, как он говорит, его «обожаемая Анелька», напомнила, что ему следует повторно навестить больную паненку, Ганс ответил, чтобы она не мешалась не в свои дела, что к Суходольским он больше не пойдет, потому что паненку пользует теперь прославленный медик – отец Миколай Коперник, которому он, доктор Санатор, не достоин даже развязать ремень сандалий! Но ясновельможный пан знает ведь, – продолжала она, поднимая на пана Вацлава заплаканные глаза, – что в медицинской практике не положено, чтобы один врач отбивал у другого пациентов! Отец мой тоже был лекарем, не столь прославленным, как доктор Санатор, но и он никогда не пошел бы на такое нехорошее дело, как каноник Коперник!
Гостья замолчала, размазывая по лицу слезы и грязь.
– Я внимательно слушал вас, пани, – сказал пан Вацлав терпеливо, – но до сих пор не понял еще, в чем дело. Что касается доктора Коперника, то он не взял с меня ни гроша, а так как я все равно собирался уплатить доктору Санатору, если бы вместо него не пришел каноник Коперник, то пожалуйста… рад буду… – И пан Суходольский потянулся к шкатулке с деньгами.
К его удивлению, гостья, зарыдав, ухватилась за его руку.
– Не надо, не надо! – закричала она… – Вы спрашиваете, в чем дело? – Анелька Санаторова, тяжело вздохнув, вытерла слезы. – Я только чуть-чуть, совсем легонько ударила его, – призналась она, – ну, и накричала на него, что он, мол, не дорожит своим домом и детьми, лечит бог знает кого! Я ведь не медик, и не костоправ, и не цирюльник, но я тут же поняла, что рана, которую Ганс перевязывал слуге пана Суходольского, нанесена никак не топором! Господи, это самая обыкновенная колотая рана! Такие раны отец мой вылечивал десятками, если не сотнями… Когда мы в повозке ездили за полком…
«Ага, вот где разыскал бедный Санатор эту особу! – подумал пан Вацлав с соболезнованием. – Дочка полкового лекаря! – Делая вид, что слушает, пан Суходольский подрёмывал, прикрыв глаза рукой. – Денег она не берет, придется пригласить ее к завтраку, пусть пани Ангелина меня простит, но я обязан это сделать!» И вдруг одна случайно достигшая его слуха фраза пани Санаторовой заставила его встрепенуться.
– И девушка эта – гостья панов Суходольских – имеет такой вид, точно она полжизни просидела в тюрьме или подземелье. Самая ясновельможная паненка может, конечно, заболеть огневицей или даже – пусть бог милует – оспой или холерой, но Санатор достаточно опытный медик, чтобы понять, от чего страдала эта странная девица, а если это уж такая страшная тайна, не надо было со мной всем этим делиться! Он шикал, шикал на меня и даже попытался зажать мне рот рукою, но не тут-то было: я взяла и выложила ему все как полагается!
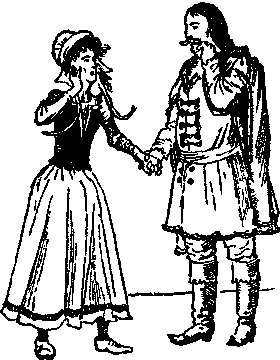 Проверив, плотно ли заперта дверь, пан Вацлав прикрыл также и окно.
Проверив, плотно ли заперта дверь, пан Вацлав прикрыл также и окно.
– Все это пани высказала супругу, конечно, потихоньку, как и принято при супружеских ссорах, чтобы не навлечь на себя злословия соседей? – спросил он, поворачиваясь к своей посетительнице.
– Горе мне, горе! – закричала та, запуская пальцы в свои и без того всклокоченные волосы. – В том-то и дело, что, после того как я Ганса ударила, он, хлопнув дверью, выскочил на улицу, а я бежала за ним по улице и кричала все, что только приходило мне в голову! Я даже не могу припомнить, что именно я кричала… Пусть простит меня ясновельможный пан, но я напустилась и на слугу пана, и на доктора Коперника…
– Итак, пани пришла ко мне повиниться в том, что заодно со своим супругом пани обругала и моего слугу, и доктора Коперника, а может быть, и наш дом? – спросил пан Вацлав, несколько успокаиваясь. – Так вот, пускай пани не тревожится: мало ли что можно наговорить со зла… Вернувшись домой, пани, конечно, примирится со своим супругом. То, что он, имея жену и детей, пропивает последние деньги в трактире, конечно, достойно порицания… Но пани столь привлекательна, – тут галантный пан Вацлав приложил руку к сердцу, – что, если бы пани не была так сурова к своему супругу, он безусловно больше времени проводил бы дома, а не искал утешения в кабаках! Прошу пани к столу, у нас сейчас подадут завтрак. Пани поест, успокоится и, вернувшись домой, как ни в чем не бывало, ласково и нежно заговорит со своим супругом…
За приглашением пана Вацлава последовал новый взрыв рыданий.
– А где он, мой Гансик? Я пришла к ясновельможному пану, чтобы он помог мне его разыскать… Ведь все это произошло из-за того, что он лечил эту странную молодую паненку! Когда пришли эти трое людей, я была уверена, что это городские стражники. Я ждала их со дня на день. Но они оказались очень любезными… Один из них даже взял на руки нашего маленького и сказал, что у него красивое личико…
– Позвольте, позвольте, – сказал пан Вацлав, довольно невежливо останавливая жестом свою гостью, – при чем здесь, не пойму, молодая паненка, и что за трое людей, и почему пани ожидала к себе в дом городских стражников?
– Да, святые муки Христовы, разве я не сказала, что Ганс, когда напивается, превращается в дикого зверя? Вот он на днях, напившись, так ударил по голове писаря из магистрата пивной кружкой, что того вынесли из трактира на руках… Ганс, протрезвившись, сказал, что дело плохо, что его посадят за это в тюрьму. А паненка… Ну, я расскажу все по порядку. – Вытерев слезы и высморкавшись в подол юбки, пани Санаторова продолжала: – Эти трое людей приходили не из-за писаря… Они стали меня расспрашивать о раненом хлопе пана Суходольского, о больной паненке…
Пан Вацлав кашлянул в усы. У него пропала охота приглашать эту женщину к столу.
– Это было позавчера… А вчера пришли уже другие люди и увели моего Гансика! – закончила пани Анелька, ломая руки. – Я решила, что это стражники, но соседи говорят, что это фискалы святой инквизиции. Соседи уверяют, что моего Ганса будут пытать и выпытают у него всю правду о паненке, что была в заточении, и о раненом хлопе… А если Гансик будет молчать, его сожгут на костре!
– А откуда соседям известно о больной паненке и об этом чертовом раненом хлопе – понять не могу, что это за хлоп? – спросил пан Вацлав, еле сдерживаясь, чтобы не стукнуть кулаком по столу.
– Да, матка бозка, пан Езус и святые апостолы, как я могла молчать, когда на меня свалилась такая беда! – ответила Анелька Санаторова, рыдая. Однако, разглядев гневный, кирпичного цвета румянец, проступивший на щеках старого шляхтича, она тут же испуганно добавила: – Пусть пан простит меня, но у меня в голове все так перемешалось, что я уже и сама не знаю, что было на самом деле, а что только вообразилось моей бедной голове… Но за что бы ни забрали моего доброго Ганса, очень прошу ясновельможного пана помочь мне его разыскать!
Пан Суходольский пообещал женщине помощь и поддержку. В сердцах выпроваживая гостью, он все-таки сунул ей золотой. Не заходя в столовую, он заглянул в комнату Збигнева.
После разговора с сыном он несколько успокоился. Оба они со Збигневом решили, что мало ли о чем могут болтать соседи. Пьяницу лекаря, по всей видимости, арестовали за драку в трактире, а поскольку в пылу ссоры с мужем пани Санаторова во всеуслышание выкрикивала все, что приходило ей в голову, то, понятно, соседи могли сделать свои выводы. Особенно, однако, это тревожить не должно: люд, живущий рядом с Санаторами, все больше мелкий, ремесленный и мастеровой – такие с доносом в святую инквизицию не побегут. Потолкуют, потолкуют, да и забудут…
Единственное, что тревожило пана Суходольского, – это то, что жену Санатора расспрашивали о Митте. Однако Збигневу он ничего об этом не сказал. Эта неряха и соврет – недорого возьмет. Может быть, она всю историю с инквизицией приплела для красного словца, то ли для того, чтобы припугнуть «ясновельможного пана», то ли, чтобы его разжалобить, а главное – чтобы заставить его принять участие в судьбе доктора.
Збигнев должен был от начала до конца рассказать о похищении Митты. Ну что ж, и этот рассказ только содействовал успокоению пана Суходольского. Ни Збышка, ни Генриха Адлера, ни беглого хлопа казненного браневского бургомистра, оказывается, никто в тех местах в лицо не знал, а уж об именах их – нечего и говорить! А что Франц – этот самый беглый хлоп – был ранен, а доктор Санатор перевязывал ему рану – тоже ни о чем подозрительном не говорит. Мало ли кто мог его подколоть, ну, хотя бы та же городская стража!
Пан Вацлав до того рад был выяснить наконец, какого это его хлопа перевязывал доктор Санатор, что даже не очень рассердился как на то, что Франц обратился за помощью к мало знакомому лекарю (а по нынешним временам это большая неосторожность!), так и на то, что беглый хлоп назвался слугой из столь добропорядочного дома… Но вообще-то говоря, хорошо, что Франц съехал от них со своей хорошенькой Уршулой!
Плотно и вкусно затем позавтракав и запив еду ароматной домашней сливянкой, пан Вацлав и вовсе успокоился. И в таком благодушном настроении он пребывал до тех самых пор, пока старый Юзеф, обойдя стол, не шепнул ему тихонько, что к ним пожаловал каноник доктор Миколай Коперник, просит никому, кроме хозяина, о нем не докладывать и сейчас дожидается пана Вацлава в его кабинете.
«Опять что-нибудь по поводу Збигнева и Митты!» – вздохнул старый шляхтич, поднимаясь из-за стола.
Откровенно говоря, как ни мила была ему эта злосчастная профессорская дочка, он, как отец, предпочел бы, чтобы Збышек добывал себе невесту более обычным путем. Однако, если бы сейчас кто-нибудь заикнулся, что не одобряет выбора молодого Суходольского, пан Вацлав почел бы это за жесточайшую обиду.
Не тратя много времени на обязательное вступление, Миколай Коперник передал хозяину дома все тревожные новости, услышанные от Тидемана Гизе, головой ручаясь за их достоверность.
Весть о том, что святая коллегия начала расследование по делу о святотатстве, ограблении монастыря и похищении двух монахинь, а главное, что в качестве обвиняемых привлекаются Збигнев Суходольский, Генрих Адлер и беглый хлоп Франц Фогель, поразила бедного старого шляхтича, как громом. Он, с трудом дослушав утешения каноника, молча сидел в кресле, сжимая побелевшие руки.
– Отчаиваться, однако, не следует, – говорил Коперник, – вы обязаны собрать все свои силы, мужество и настойчивость, чтобы не дать своим близким попасть в цепкие руки святой коллегии.
– Что же я могу сделать? – спросил пан Вацлав, с надеждой поднимая на него глаза. – Что нужно для того, чтобы спасти моего мальчика, ну… и его товарищей?
– Повторяю: настойчивость, мужество и… конечно… деньги, – ответил Коперник. – Деньги на разъезды, на подарки всяким писарям, секретарям и, да простит меня господь, если я клевещу на этих людей, деньги судьям… К сожалению, у нас так заведено… Простите меня – мною руководит не простое любопытство, – в каком положении находятся сейчас ваши денежные дела?
– Как вам сказать… – ответил пан Суходольский смущенно. – Хлопы мои разорены войною, а драть с них шкуру, как это делают некоторые, я не могу… Из своего Сухого дола я уже несколько месяцев ничего не получаю. Эти затруднения, понятно, временные, и к тому же здесь, в Гданьске, есть близкий мне человек, который охотно выручает меня при случае. Это жених моей дочери, – добавил пан Вацлав смущенно, – состоятельный купец… Кстати, он и посоветовал Збышку обратиться за помощью к вам, когда болела панна Митта… Так вот, не окажете ли вы моему будущему зятю, негоцианту Куглеру, честь и не пожалуете ли вместе с нами к нему на семейный обед? Адольф будет польщен визитом столь высокого гостя…
– Семейный обед? – переспросил Коперник в раздумье. – Не члены семьи в таких случаях могут оказаться лишними…
– Пане Коперник, – сказал шляхтич проникновенно, – мне трудно обращаться к вам с такой просьбой, но должен признаться… Мой будущий зять – человек умный и просвещенный, он к тому же еще и человек великодушный… но ваше присутствие, отец Миколай, заставит его…
– …заставит его быть еще великодушнее, не так ли? – закончил Коперник мысль пана Вацлава.
Все, что он слыхал о Куглере, мало оправдывало сложившееся о нем мнение его будущего тестя. Может быть, это и было одним из обстоятельств, побудивших вармийского каноника исполнить просьбу старого пана Суходольского. Необходимо было прийти на помощь не столько этому доброму, но до крайности легкомысленному человеку, сколько Збигневу Суходольскому и Митте Ланге. Бедные влюбленные и без того достаточно настрадались!
Вот потому-то и увидел пораженный Каспер Бернат в семейной группе шествующих к дому Куглера Суходольских и своего милого Учителя.
Когда запыхавшийся Збигнев с некоторым запозданием присоединился к обедающим, две девичьи головки разом повернулись к нему.
– Не догнал! – ответил молодой человек на обращенный к нему безмолвный вопрос. – Но это, конечно, не был Каспер!
Ванда заметила, с каким облегчением вздохнула ее подруга Митта.
Адольф Куглер расслышал фразы, которыми перекидывались его гости.
– Был ли это Каспер или не был, – сказал он бодро, – давайте-ка выпьем за здоровье этого человека! Как-никак раны свои он получил в сражениях, а не в драке под трактиром! Давай свой стакан, Збышек!
Збигнев опорожнил стакан. Куглер налил ему второй. Потом молодой Суходольский сам наполнил себе третий.
Никто из присутствующих за обильным столом Адольфа Куглера и не подозревал, что двое из гостей крайне обеспокоены полученными из Ольштына новостями. Так умело скрывали отец Миколай и пан Вацлав свои чувства.
Третий из гостей, молодой Суходольский, нисколько не принуждая себя к веселью, просидел весь обед, опустив голову и не притрагиваясь к еде. На это тоже не было обращено внимание, разве что Ванда несколько раз с тревогой оглянулась на брата.
– Матка бозка! До чего же походкой, статью, рыжими хоть и с проседью волосами он походит на Каспера! – вдруг сам себе сказал молодой человек.
Пан Вацлав не успел сообщить сыну о своем разговоре с каноником Коперником, Збышек и без того был чем-то расстроен. Свое же волнение старый шляхтич старался не выдавать. То и дело он поглядывал на отца Миколая и, чуть заметив на губах каноника подобие улыбки, оглушительно хохотал в ответ на грубоватые шутки хозяина дома. Галантно передавая соседям по столу солонки, хлебницы, соусники, он не отрываясь следил за выражением лица каноника. С облегчением вздохнул пан Вацлав только тогда, когда дамам были поданы сласти, а мужчины перешли в кабинет хозяина потолковать о делах.
Шляхтич подивился спокойному тону отца Миколая, когда тот сообщал Адольфу Куглеру о нависшей над домом его будущих родственников беде.
– Будь сейчас другое время, ничего не стоило бы отвести обвинение и от Збигнева, и от Генриха, и даже от Франца, – сказал каноник. – Но как раз сейчас святой престол обеспокоен распространением ереси в Вармии и Поморье, а уж отцы инквизиторы всегда рады доказать свою преданность Риму. Но дело это и выеденного яйца не стоит. Вот я советую пану Суходольскому немедленно же отправиться в Краков и подать его величеству королю Зыгмунту жалобу на незаконные действия монахини Целестины и ее брата, покушавшегося на жизнь досточтимого профессора Ланге. Чтобы скрыть это злое деяние, они заточили в монастырь свидетельниц совершенного братом аббатисы преступления – девиц Митту-Амалию и Уршулу. К заявлению пана Суходольского я, как врач, пользовавший отца и дочь, прилагаю два свидетельства. Первое о том, что нанесенные профессору рыцарем Мандельштаммом побои привели к потере памяти и речи человека. Во втором свидетельстве я даю заключение о том, что девица Ланге находилась в здравом уме и содержание ее в монастыре под видом умалишенной незаконно. Я решил снабдить пана Суходольского письмом к Бернарду Ваповскому, старому моему другу и однокашнику…
Последняя фраза отца Миколая была выслушана хозяином дома с почтительным вниманием: каноник Бернард Ваповский был влиятельным лицом при краковском дворе. Озабоченное выражение исчезло с лица Куглера.
– Если Бернард Ваповский действительно захочет помочь пану Вацлаву, дело наше выиграно! – сказал он, облегченно вздыхая.
– Бернард Ваповский действительно захочет помочь пану Вацлаву, – сказал отец Миколай так холодно, что румяное лицо Адольфа Куглера еще больше зарумянилось. А потом как ни в чем не бывало каноник продолжал: – Теперь дело за пустяками… Пан Суходольский сообщил мне, что испытывает временные финансовые затруднения. А поездка в Краков и хлопоты по всяким духовным и светским канцеляриям требуют больших денег… Однако, насколько я знаю, пан Суходольский так широко и охотно платит огромные проценты, что ростовщики наперебой станут предлагать ему свои услуги…
Дело в том, что сегодня утром, спозаранку, в дверь к пану Вацлаву постучалась испуганная, не снявшая даже папильоток и ночного чепца супруга его, пани Ангелина.
– Вацек, – сказала она жалобно, – тут пришла ко мне какая-то женщина… Говорит, что она жена доктора, но этому трудно поверить. Знаешь, вид у нее… Поговори с ней и дай немного денег… Она такая растрепанная, что просто страшно. Болтает бог знает что… Про инквизицию, про какого-то раненого хлопа… Я не поняла и половины…
И тут же, следом за пани Суходольской, в кабинет хозяина ворвалась маленькая, худая и действительно очень растрепанная женщина.
– Ой, Езус-Мария, горе мне, горе! – кричала она, тревожа утренний сон еще не поднявшихся с постелей молодых обитателей дома. – Я сама погубила его своим языком! И молодого шляхтича, и эту странную больную паненку!
Не слушая ее дальше, пан Вацлав осторожно выдворил из кабинета свою супругу и плотно прикрыл за ней дверь.
– О чем вы говорите? – спросил он строго, поворачиваясь к ранней посетительнице.
Но та уже судорожно рыдала перед распятием, ломая худые и не очень чистые руки.
Слово за слово пану Вацлаву удалось выпытать у гостьи следующее: Иоанн Санатор, он же Иоганн Вальдманн, муж этой женщины, человек общительный, не отказывающийся в компании пропустить лишнюю кружку пива. Заработки у него неплохие, и жили бы они неплохо, если бы не эта его пагубная страсть и не его щедрый и расточительный характер.
– Вот недавно, пусть пан Суходольский не обижается, ее Ганс бесплатно перевязал и смазал целебной мазью руку хлопа пана Суходольского… И бинты и мазь стоят денег, а Ганс не взял с больного ни гроша…
Пан Вацлав удивленно поднял брови, припоминая, какой же это его хлоп обращался за помощью к доктору Санатору. Так и не вспомнив такого случая, он учтиво пододвинул посетительнице кресло.
– Потом он был приглашен в этот прекрасный дом и лечил молодую паненку… Ясновельможный пан, правда, хорошо ему заплатил, но Ганс тут же отнес золотой в трактир и угощал всех пропойц города Гданьска. Мало того: когда она, жена его, как он говорит, его «обожаемая Анелька», напомнила, что ему следует повторно навестить больную паненку, Ганс ответил, чтобы она не мешалась не в свои дела, что к Суходольским он больше не пойдет, потому что паненку пользует теперь прославленный медик – отец Миколай Коперник, которому он, доктор Санатор, не достоин даже развязать ремень сандалий! Но ясновельможный пан знает ведь, – продолжала она, поднимая на пана Вацлава заплаканные глаза, – что в медицинской практике не положено, чтобы один врач отбивал у другого пациентов! Отец мой тоже был лекарем, не столь прославленным, как доктор Санатор, но и он никогда не пошел бы на такое нехорошее дело, как каноник Коперник!
Гостья замолчала, размазывая по лицу слезы и грязь.
– Я внимательно слушал вас, пани, – сказал пан Вацлав терпеливо, – но до сих пор не понял еще, в чем дело. Что касается доктора Коперника, то он не взял с меня ни гроша, а так как я все равно собирался уплатить доктору Санатору, если бы вместо него не пришел каноник Коперник, то пожалуйста… рад буду… – И пан Суходольский потянулся к шкатулке с деньгами.
К его удивлению, гостья, зарыдав, ухватилась за его руку.
– Не надо, не надо! – закричала она… – Вы спрашиваете, в чем дело? – Анелька Санаторова, тяжело вздохнув, вытерла слезы. – Я только чуть-чуть, совсем легонько ударила его, – призналась она, – ну, и накричала на него, что он, мол, не дорожит своим домом и детьми, лечит бог знает кого! Я ведь не медик, и не костоправ, и не цирюльник, но я тут же поняла, что рана, которую Ганс перевязывал слуге пана Суходольского, нанесена никак не топором! Господи, это самая обыкновенная колотая рана! Такие раны отец мой вылечивал десятками, если не сотнями… Когда мы в повозке ездили за полком…
«Ага, вот где разыскал бедный Санатор эту особу! – подумал пан Вацлав с соболезнованием. – Дочка полкового лекаря! – Делая вид, что слушает, пан Суходольский подрёмывал, прикрыв глаза рукой. – Денег она не берет, придется пригласить ее к завтраку, пусть пани Ангелина меня простит, но я обязан это сделать!» И вдруг одна случайно достигшая его слуха фраза пани Санаторовой заставила его встрепенуться.
– И девушка эта – гостья панов Суходольских – имеет такой вид, точно она полжизни просидела в тюрьме или подземелье. Самая ясновельможная паненка может, конечно, заболеть огневицей или даже – пусть бог милует – оспой или холерой, но Санатор достаточно опытный медик, чтобы понять, от чего страдала эта странная девица, а если это уж такая страшная тайна, не надо было со мной всем этим делиться! Он шикал, шикал на меня и даже попытался зажать мне рот рукою, но не тут-то было: я взяла и выложила ему все как полагается!
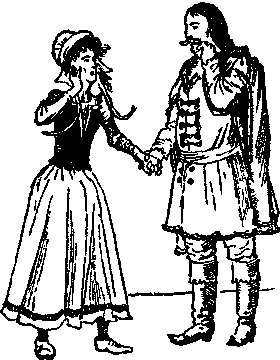
– Все это пани высказала супругу, конечно, потихоньку, как и принято при супружеских ссорах, чтобы не навлечь на себя злословия соседей? – спросил он, поворачиваясь к своей посетительнице.
– Горе мне, горе! – закричала та, запуская пальцы в свои и без того всклокоченные волосы. – В том-то и дело, что, после того как я Ганса ударила, он, хлопнув дверью, выскочил на улицу, а я бежала за ним по улице и кричала все, что только приходило мне в голову! Я даже не могу припомнить, что именно я кричала… Пусть простит меня ясновельможный пан, но я напустилась и на слугу пана, и на доктора Коперника…
– Итак, пани пришла ко мне повиниться в том, что заодно со своим супругом пани обругала и моего слугу, и доктора Коперника, а может быть, и наш дом? – спросил пан Вацлав, несколько успокаиваясь. – Так вот, пускай пани не тревожится: мало ли что можно наговорить со зла… Вернувшись домой, пани, конечно, примирится со своим супругом. То, что он, имея жену и детей, пропивает последние деньги в трактире, конечно, достойно порицания… Но пани столь привлекательна, – тут галантный пан Вацлав приложил руку к сердцу, – что, если бы пани не была так сурова к своему супругу, он безусловно больше времени проводил бы дома, а не искал утешения в кабаках! Прошу пани к столу, у нас сейчас подадут завтрак. Пани поест, успокоится и, вернувшись домой, как ни в чем не бывало, ласково и нежно заговорит со своим супругом…
За приглашением пана Вацлава последовал новый взрыв рыданий.
– А где он, мой Гансик? Я пришла к ясновельможному пану, чтобы он помог мне его разыскать… Ведь все это произошло из-за того, что он лечил эту странную молодую паненку! Когда пришли эти трое людей, я была уверена, что это городские стражники. Я ждала их со дня на день. Но они оказались очень любезными… Один из них даже взял на руки нашего маленького и сказал, что у него красивое личико…
– Позвольте, позвольте, – сказал пан Вацлав, довольно невежливо останавливая жестом свою гостью, – при чем здесь, не пойму, молодая паненка, и что за трое людей, и почему пани ожидала к себе в дом городских стражников?
– Да, святые муки Христовы, разве я не сказала, что Ганс, когда напивается, превращается в дикого зверя? Вот он на днях, напившись, так ударил по голове писаря из магистрата пивной кружкой, что того вынесли из трактира на руках… Ганс, протрезвившись, сказал, что дело плохо, что его посадят за это в тюрьму. А паненка… Ну, я расскажу все по порядку. – Вытерев слезы и высморкавшись в подол юбки, пани Санаторова продолжала: – Эти трое людей приходили не из-за писаря… Они стали меня расспрашивать о раненом хлопе пана Суходольского, о больной паненке…
Пан Вацлав кашлянул в усы. У него пропала охота приглашать эту женщину к столу.
– Это было позавчера… А вчера пришли уже другие люди и увели моего Гансика! – закончила пани Анелька, ломая руки. – Я решила, что это стражники, но соседи говорят, что это фискалы святой инквизиции. Соседи уверяют, что моего Ганса будут пытать и выпытают у него всю правду о паненке, что была в заточении, и о раненом хлопе… А если Гансик будет молчать, его сожгут на костре!
– А откуда соседям известно о больной паненке и об этом чертовом раненом хлопе – понять не могу, что это за хлоп? – спросил пан Вацлав, еле сдерживаясь, чтобы не стукнуть кулаком по столу.
– Да, матка бозка, пан Езус и святые апостолы, как я могла молчать, когда на меня свалилась такая беда! – ответила Анелька Санаторова, рыдая. Однако, разглядев гневный, кирпичного цвета румянец, проступивший на щеках старого шляхтича, она тут же испуганно добавила: – Пусть пан простит меня, но у меня в голове все так перемешалось, что я уже и сама не знаю, что было на самом деле, а что только вообразилось моей бедной голове… Но за что бы ни забрали моего доброго Ганса, очень прошу ясновельможного пана помочь мне его разыскать!
Пан Суходольский пообещал женщине помощь и поддержку. В сердцах выпроваживая гостью, он все-таки сунул ей золотой. Не заходя в столовую, он заглянул в комнату Збигнева.
После разговора с сыном он несколько успокоился. Оба они со Збигневом решили, что мало ли о чем могут болтать соседи. Пьяницу лекаря, по всей видимости, арестовали за драку в трактире, а поскольку в пылу ссоры с мужем пани Санаторова во всеуслышание выкрикивала все, что приходило ей в голову, то, понятно, соседи могли сделать свои выводы. Особенно, однако, это тревожить не должно: люд, живущий рядом с Санаторами, все больше мелкий, ремесленный и мастеровой – такие с доносом в святую инквизицию не побегут. Потолкуют, потолкуют, да и забудут…
Единственное, что тревожило пана Суходольского, – это то, что жену Санатора расспрашивали о Митте. Однако Збигневу он ничего об этом не сказал. Эта неряха и соврет – недорого возьмет. Может быть, она всю историю с инквизицией приплела для красного словца, то ли для того, чтобы припугнуть «ясновельможного пана», то ли, чтобы его разжалобить, а главное – чтобы заставить его принять участие в судьбе доктора.
Збигнев должен был от начала до конца рассказать о похищении Митты. Ну что ж, и этот рассказ только содействовал успокоению пана Суходольского. Ни Збышка, ни Генриха Адлера, ни беглого хлопа казненного браневского бургомистра, оказывается, никто в тех местах в лицо не знал, а уж об именах их – нечего и говорить! А что Франц – этот самый беглый хлоп – был ранен, а доктор Санатор перевязывал ему рану – тоже ни о чем подозрительном не говорит. Мало ли кто мог его подколоть, ну, хотя бы та же городская стража!
Пан Вацлав до того рад был выяснить наконец, какого это его хлопа перевязывал доктор Санатор, что даже не очень рассердился как на то, что Франц обратился за помощью к мало знакомому лекарю (а по нынешним временам это большая неосторожность!), так и на то, что беглый хлоп назвался слугой из столь добропорядочного дома… Но вообще-то говоря, хорошо, что Франц съехал от них со своей хорошенькой Уршулой!
Плотно и вкусно затем позавтракав и запив еду ароматной домашней сливянкой, пан Вацлав и вовсе успокоился. И в таком благодушном настроении он пребывал до тех самых пор, пока старый Юзеф, обойдя стол, не шепнул ему тихонько, что к ним пожаловал каноник доктор Миколай Коперник, просит никому, кроме хозяина, о нем не докладывать и сейчас дожидается пана Вацлава в его кабинете.
«Опять что-нибудь по поводу Збигнева и Митты!» – вздохнул старый шляхтич, поднимаясь из-за стола.
Откровенно говоря, как ни мила была ему эта злосчастная профессорская дочка, он, как отец, предпочел бы, чтобы Збышек добывал себе невесту более обычным путем. Однако, если бы сейчас кто-нибудь заикнулся, что не одобряет выбора молодого Суходольского, пан Вацлав почел бы это за жесточайшую обиду.
Не тратя много времени на обязательное вступление, Миколай Коперник передал хозяину дома все тревожные новости, услышанные от Тидемана Гизе, головой ручаясь за их достоверность.
Весть о том, что святая коллегия начала расследование по делу о святотатстве, ограблении монастыря и похищении двух монахинь, а главное, что в качестве обвиняемых привлекаются Збигнев Суходольский, Генрих Адлер и беглый хлоп Франц Фогель, поразила бедного старого шляхтича, как громом. Он, с трудом дослушав утешения каноника, молча сидел в кресле, сжимая побелевшие руки.
– Отчаиваться, однако, не следует, – говорил Коперник, – вы обязаны собрать все свои силы, мужество и настойчивость, чтобы не дать своим близким попасть в цепкие руки святой коллегии.
– Что же я могу сделать? – спросил пан Вацлав, с надеждой поднимая на него глаза. – Что нужно для того, чтобы спасти моего мальчика, ну… и его товарищей?
– Повторяю: настойчивость, мужество и… конечно… деньги, – ответил Коперник. – Деньги на разъезды, на подарки всяким писарям, секретарям и, да простит меня господь, если я клевещу на этих людей, деньги судьям… К сожалению, у нас так заведено… Простите меня – мною руководит не простое любопытство, – в каком положении находятся сейчас ваши денежные дела?
– Как вам сказать… – ответил пан Суходольский смущенно. – Хлопы мои разорены войною, а драть с них шкуру, как это делают некоторые, я не могу… Из своего Сухого дола я уже несколько месяцев ничего не получаю. Эти затруднения, понятно, временные, и к тому же здесь, в Гданьске, есть близкий мне человек, который охотно выручает меня при случае. Это жених моей дочери, – добавил пан Вацлав смущенно, – состоятельный купец… Кстати, он и посоветовал Збышку обратиться за помощью к вам, когда болела панна Митта… Так вот, не окажете ли вы моему будущему зятю, негоцианту Куглеру, честь и не пожалуете ли вместе с нами к нему на семейный обед? Адольф будет польщен визитом столь высокого гостя…
– Семейный обед? – переспросил Коперник в раздумье. – Не члены семьи в таких случаях могут оказаться лишними…
– Пане Коперник, – сказал шляхтич проникновенно, – мне трудно обращаться к вам с такой просьбой, но должен признаться… Мой будущий зять – человек умный и просвещенный, он к тому же еще и человек великодушный… но ваше присутствие, отец Миколай, заставит его…
– …заставит его быть еще великодушнее, не так ли? – закончил Коперник мысль пана Вацлава.
Все, что он слыхал о Куглере, мало оправдывало сложившееся о нем мнение его будущего тестя. Может быть, это и было одним из обстоятельств, побудивших вармийского каноника исполнить просьбу старого пана Суходольского. Необходимо было прийти на помощь не столько этому доброму, но до крайности легкомысленному человеку, сколько Збигневу Суходольскому и Митте Ланге. Бедные влюбленные и без того достаточно настрадались!
Вот потому-то и увидел пораженный Каспер Бернат в семейной группе шествующих к дому Куглера Суходольских и своего милого Учителя.
Когда запыхавшийся Збигнев с некоторым запозданием присоединился к обедающим, две девичьи головки разом повернулись к нему.
– Не догнал! – ответил молодой человек на обращенный к нему безмолвный вопрос. – Но это, конечно, не был Каспер!
Ванда заметила, с каким облегчением вздохнула ее подруга Митта.
Адольф Куглер расслышал фразы, которыми перекидывались его гости.
– Был ли это Каспер или не был, – сказал он бодро, – давайте-ка выпьем за здоровье этого человека! Как-никак раны свои он получил в сражениях, а не в драке под трактиром! Давай свой стакан, Збышек!
Збигнев опорожнил стакан. Куглер налил ему второй. Потом молодой Суходольский сам наполнил себе третий.
Никто из присутствующих за обильным столом Адольфа Куглера и не подозревал, что двое из гостей крайне обеспокоены полученными из Ольштына новостями. Так умело скрывали отец Миколай и пан Вацлав свои чувства.
Третий из гостей, молодой Суходольский, нисколько не принуждая себя к веселью, просидел весь обед, опустив голову и не притрагиваясь к еде. На это тоже не было обращено внимание, разве что Ванда несколько раз с тревогой оглянулась на брата.
– Матка бозка! До чего же походкой, статью, рыжими хоть и с проседью волосами он походит на Каспера! – вдруг сам себе сказал молодой человек.
Пан Вацлав не успел сообщить сыну о своем разговоре с каноником Коперником, Збышек и без того был чем-то расстроен. Свое же волнение старый шляхтич старался не выдавать. То и дело он поглядывал на отца Миколая и, чуть заметив на губах каноника подобие улыбки, оглушительно хохотал в ответ на грубоватые шутки хозяина дома. Галантно передавая соседям по столу солонки, хлебницы, соусники, он не отрываясь следил за выражением лица каноника. С облегчением вздохнул пан Вацлав только тогда, когда дамам были поданы сласти, а мужчины перешли в кабинет хозяина потолковать о делах.
Шляхтич подивился спокойному тону отца Миколая, когда тот сообщал Адольфу Куглеру о нависшей над домом его будущих родственников беде.
– Будь сейчас другое время, ничего не стоило бы отвести обвинение и от Збигнева, и от Генриха, и даже от Франца, – сказал каноник. – Но как раз сейчас святой престол обеспокоен распространением ереси в Вармии и Поморье, а уж отцы инквизиторы всегда рады доказать свою преданность Риму. Но дело это и выеденного яйца не стоит. Вот я советую пану Суходольскому немедленно же отправиться в Краков и подать его величеству королю Зыгмунту жалобу на незаконные действия монахини Целестины и ее брата, покушавшегося на жизнь досточтимого профессора Ланге. Чтобы скрыть это злое деяние, они заточили в монастырь свидетельниц совершенного братом аббатисы преступления – девиц Митту-Амалию и Уршулу. К заявлению пана Суходольского я, как врач, пользовавший отца и дочь, прилагаю два свидетельства. Первое о том, что нанесенные профессору рыцарем Мандельштаммом побои привели к потере памяти и речи человека. Во втором свидетельстве я даю заключение о том, что девица Ланге находилась в здравом уме и содержание ее в монастыре под видом умалишенной незаконно. Я решил снабдить пана Суходольского письмом к Бернарду Ваповскому, старому моему другу и однокашнику…
Последняя фраза отца Миколая была выслушана хозяином дома с почтительным вниманием: каноник Бернард Ваповский был влиятельным лицом при краковском дворе. Озабоченное выражение исчезло с лица Куглера.
– Если Бернард Ваповский действительно захочет помочь пану Вацлаву, дело наше выиграно! – сказал он, облегченно вздыхая.
– Бернард Ваповский действительно захочет помочь пану Вацлаву, – сказал отец Миколай так холодно, что румяное лицо Адольфа Куглера еще больше зарумянилось. А потом как ни в чем не бывало каноник продолжал: – Теперь дело за пустяками… Пан Суходольский сообщил мне, что испытывает временные финансовые затруднения. А поездка в Краков и хлопоты по всяким духовным и светским канцеляриям требуют больших денег… Однако, насколько я знаю, пан Суходольский так широко и охотно платит огромные проценты, что ростовщики наперебой станут предлагать ему свои услуги…
