Страница:
Это он же, Тидеман, настоял, чтобы имя его было поставлено не до, а после имени кардинала!
И, как ни жалко было отцу Миколаю оставить в безвестности имя человека, так много сделавшего для распространения его учения, Тидеман вычеркнул из предисловия также и упоминание об ученом виттенбержце Иоахиме де Лаухене, прозванном Ретиком.
«Несмотря на все свои заслуги перед наукой, Ретик для Рима продолжает оставаться еретиком, лютерцем… – сказал епископ хелмский, – поэтому не следует упоминанием о нем заведомо навлекать на свой труд гнев и нарекания отцов церкви».
Итак, вместо перечисления заслуг и достоинств Ретика в обращении к папе осталось только начало фразы: «Настаивало на издании труда моего и немало других выдающихся и ученых людей».
Может быть, отец Тидеман был и прав. Что же касается самого Ретика, то он, всецело преданный наукам, мало заботится о славе и с пренебрежением относится к признанию людей, уважения коих он не тщится снискать.
Но все же, сколько бы раз отец Миколай ни просматривал это место предисловия, отсутствие здесь имени Ретика тяжелым укором ложилось на его совесть.
Эту старую, истрепанную тетрадку придется бросить в огонь, она свое отслужила… Только надо будет разыскать еще записи «О природе сна»… Записи давние, сохранились ли они еще?
Год 1507… Матерь божья, какая старина! Наброски письма-трактата, адресованного друзьям… Впоследствии трактат этот получил название «Малого комментария»…
А это что? Год 1514 – черновик письма Коперника – ответа на приглашение епископа римского Павла Миддельбурга принять участие в работах по подготовке реформы юлианского календаря…
«Более совершенное летосчисление, – разобрал больной в своем сплошь перемаранном черновике, – возможно будет тогда, когда станут известны законы движения Солнца и Луны. Я такими данными сейчас не располагаю».
Отец Миколай устало откинулся на подушки. Это давно забытое письмо и есть ключ, разгадка оттягивания выхода в свет его астрономических трудов. Папе Павлу Третьему он пишет о своей робости ученого, но это не совсем верно. Не трусость, как думают враги, не медлительность, как думают друзья, руководили им, а только желание как можно тщательнее проверить и подтвердить многочисленными опытами свои положения!
Отдохнув немного, больной стал дальше листать тетрадку. Вот год 1520 – черновик трактата «Об истинных и справедливых ценах на хлеб». Чем только не приходилось заниматься, отрываясь от любимой астрономии, чтобы хоть немного облегчить участь голодных!
Год 1522 – другой экономический трактат, «О порче монеты». Да, жарким, жарким было заседание городской рады, на котором отец Миколай зачитал свой трактат! Все были согласны с тем, что нужно запретить каждому городу чеканить собственную монету. Все понимали, что, подмешивая к серебру медь и свинец, магистраты городов поступают не лучше, чем враги Польши тевтоны, которые когда-то выпуском порченой монеты обесценивали польские деньги и повышали цены на товары. Однако никто не хотел, чтобы именно его город был лишен права чеканить деньги.
Поговорили, поговорили, поспорили… и разъехались, не придя ни к какому решению.
Дальше идут год 1526, за ним 1527, 1528… Сплошь накрест перечеркнутые страницы со столбиками цифр… В то время он безуспешно пытался вычислить отклонение Меркурия. Одна из самых огорчительных его неудач!..
Ага, вот и запись, которую он искал: «Мысли и наблюдения Миколая Коперника о природе сна».
Самая природа сна интересовала Коперника, как врача, давно. Однако раньше, занятый наблюдением за небом, врачебной практикой, заботами, налагаемыми на него обязанностями по диацезу, отец Миколай мало мог отдавать ей внимания. Сейчас же, предоставленный мучительному ничегонеделанию, он может заняться этим на свободе.
Сегодня он уже вправе записать: «Судя по тому, что человек встает после сна освеженный и преисполненный сил, следует заключить, что сон приносит человеческой натуре отдохновение. Но как сочетать это с тем непрестанным током впечатлений, переживаний, чувств, которые молниеносно пробегают в нашем мозгу во время сна? Вот и нынче во сне, длившемся восемь минут, я прожил большой участок жизни, объехал Польшу, перевалил через Альпы, посетил Рим и Болонью, снова очутился в Польше, присутствовал на придворном балу и играл с королевой Боной в шахматы. Не вырабатывает ли наш мозг какой-то волшебный эликсир, устраняющий усталость мозга же? Нельзя ли каким-нибудь путем извлечь его и применить для поддержания раненых, а также ослабевших после болезни, голода, тюремного заключения?…» Отец Миколай написал было еще и «к старости», но тут же это слово зачеркнул. Старость – естественное завершение всей работы организма, мало заметный и поэтому не пугающий переход от бытия к небытию…
Вот, хвала святой деве, день почти на исходе. Гонца из Нюрнберга не было, но сегодня он ни разу не осведомился о нем!
Входя в опочивальню отца Миколая, Збигнев с опаской оглянулся на Каспера и его сына.
Ни деревянной скамьи, застланной волчьей шкурой, ни самодельных табуретов здесь не было и в помине.
Давно не было их и на вышке в «башне Коперника», как прозвали в народе фромборкскую башню, в которой отец Миколай вел наблюдения над небом.
Анна Шиллинг, единственное утешение старого ученого, много лет назад привела в порядок его суровую обитель. Вот и привычка ее ставить у постели живые цветы сохранилась у отца Миколая до сих пор. И сейчас в итальянской стеклянной вазочке (это тоже подарок Анны) у изголовья Коперника стоят засохшие прошлогодние ландыши.
Отец Миколай дремлет. Его седые кудри разметались по подушке. В полумраке и волосы и мертвенно бледное лицо почти не выделяются на фоне полотна.
«Какое горькое разочарование испытает сейчас Вацек! – думает Збигнев сердито. – Нехорошо, что отец своими рассказами о Копернике, которого он помнит совсем иным, создал в воображении Вацка образ, ничего общего с настоящим Коперником не имеющий! Не к чему заставлять мальчика переживать потрясения, подобные тому, что ожидает его сейчас! Конец великого астронома близок. Вот умер бы он, а в представлении Вацка он так и остался бы темноволосым, быстрым в движениях, со своими действительно незабываемыми глазами. А теперь… Бедный Вацек!»
Опасения Збигнева были, как видно, напрасны: держа шапку в руках, побледневший от волнения, мальчик перешагнул через заветный порог. Не снимая руки с его плеча, вошел в опочивальню и его отец. Как ни осторожно они двигались, больной все-таки открыл глаза.
– Сны… Юность… – прошептал он еле слышно и снова опустил свои все еще темные и густые ресницы. – Придержи Яся за ножку, чтобы он не свалился в воду…
– Вот так его преподобие бредит уже шестой день, – пояснил сопровождавший гостей каноник Ежи Доннер.
– Отцу Тидеману сообщили? – осведомился Каспер.
– Посланный гонец уже не застал его преосвященства, вызванного в Краков на обручение королевского сына. О том, что больной в таком тяжелом состоянии, епископ хелмский не знает.
– Тидеман знает, – вдруг громко и внятно произнес отец Миколай. – Только поэтому он и отпустил меня из Любавы умирать во Фромборк… Боже мой, Каспер здесь! Подойди сюда, мой мальчик! – И он притянул к себе изнемогающего от счастья и волнения Вацка.
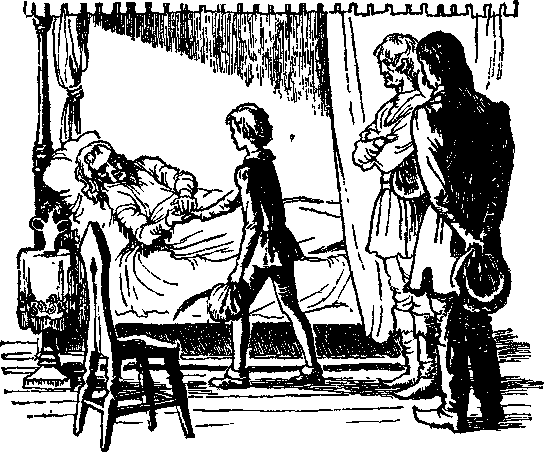 И, пока каноник держал его руку в своих горячих, мягких руках, мальчик стоял молча и, как показалось Збигневу, благоговейно.
И, пока каноник держал его руку в своих горячих, мягких руках, мальчик стоял молча и, как показалось Збигневу, благоговейно.
Скрипнула дверь. На пороге показался старенький, почти вдвое согнувшийся Войцех Шибульский.
– Пора давать лекарство, – шепнул он, подходя с подносом к отцу Доннеру.
С помощью слуги и медика Коперник терпеливо выпил снадобья из всех четырех стаканчиков разной формы.
– Во имя отца и сына и святого духа! – произнес, осеняя его крестным знамением, отец Доннер.
– Его преподобие соборный викарий, медик – отец Эмерих, приготовил для больного эти четыре новых средства, – сказал он, повернувшись к гостям.
– Это сын мой, отец Миколай, – произнес, выступая вперед, Каспер Бернат. – Я привез, чтобы вы благословили его…
– А-а-а… «Геометр звезд»? Покажи-ка мне свои глаза, геометр… – И, приподняв за подбородок лицо мальчика, Коперник долго и пристально в него вглядывался. – Честные глаза… Чистые… Как у отца… Трудно тебе будет жить!
Помолчав, каноник снова притянул к себе мальчика.
– Признайся, не такого ожидал ты увидеть человека?..
– Такого, – сказал Вацек хрипло. – Только я не знал, что вы в постели.
– И это тебя не пугает? – Здоровой рукой отец Миколай поднял неподвижную руку, и она безжизненно упала на одеяло. – И это? – Он коснулся пальцами отеков под глазами.
Вацек отрицательно покачал головою. Смотрел на больного он с каким-то самозабвенным восторгом… Такое Збигневу довелось видеть в Свентожицском монастыре перед образом святого Пантелеймона. Так, ожидая исцеления сына, смотрела на икону бедная мужицкая женщина.
– Таким ли описывал меня твой отец? Он ведь всегда, по любви своей и снисходительности, наделяет меня несуществующими достоинствами…
– Таким, – коротко сказал Вацек. – И вы такой!
Слабая улыбка скользнула по губам больного. Он хотел что-то сказать, но только погладил мальчика по его густым волосам.
А Збигнев, наблюдая эту сцену, думал: «Правду говорят, что любовь слепа… А может быть, любовь именно не слепа и любящий человек видит то, что недоступно зрению людей холодных и равнодушных?..»
– Эге, да и Збигнев тут? – сказал отец Миколай, с трудом переводя на него взгляд. – Заметь, домине Доннер, подвижность глазного яблока значительно ослабела. Это наблюдение важно для отца Эмериха… Подойди-ка поближе, Збышек, карту Вармии я для тебя приготовил.
И, так как Ежи Доннер решительно распростер руки, остановившись между больным и его гостями, Коперник добавил мягко:
– Не волнуйся, Ежи, старый мой соратник! Отцу Эмериху я тебя отчитывать не дам! – И, повернувшись к гостям, сказал со своей мимолетной улыбкой: – Ну мог ли кто подумать, что такие два старика, как Ежи и я, стояли когда-то на стене осажденного Ольштына и целились в наиболее завзятых кшижаков! Гости наши, Ежи, – очень близкие мне люди, можешь им довериться! А ты пока ступай отдохни…
И, не удержавшись, добавил:
– Если прибудет гонец из Нюрнберга, приведите его ко мне хотя бы среди ночи!
Дождавшись, пока отец Доннер выйдет, Коперник заметил удрученно:
– Замучились они со мной… Пока я владею собою – стараюсь поменьше им надоедать… Но это случается так редко… Славный у тебя сынок, Каспер! Все лучшее у вас с Вандой взял…
Збигнев почти с испугом заметил, что глаза отца Миколая засияли каким-то необычайным светом и свет этот внезапно померк.
– Больно, – прошептал каноник и, с трудом сунув руку под подушку, нащупал тряпицу. Но до того, как он поднес ее к лицу, из носа его хлынула густая, темная кровь. – Ганна… Ганнуся! – позвал он жалобно.
– Вот опять он много говорил! – укоризненно сказал, появляясь в дверях, Ежи Доннер. На безмолвный вопрос Збигнева он только недоуменно развел руками. – С минуты на минуту это может произойти… Викарий Эмерих более опытный медик, чем я, однако и он просчитался… Вычислил, что отец Миколай отойдет в лучший мир ко дню своего семидесятилетия, а он после девятнадцатого февраля, хвала господу, живет уже более трех месяцев. На прошлой неделе в его здоровье даже произошло улучшение.
Все это Ежи Доннер говорил, то поднося к лицу больного таз, то осторожно утирая его подбородок. Коперник уже ничего не видел и не слышал.
– Простите, панове, но сегодня я вас больше к нему не допущу! – сказал старик решительно.
Как ни плохо чувствовал себя отец Миколай, но, зная, что к нему из Гданьска будут гости (об эту пору его обязательно навещал Каспер, или Збигнев, или оба они вместе), каноник загодя распорядился, чтобы Збигневу для снятия копии выдали карту Вармии.
Передал ее молодому учителю скорбный старый Войцех.
– Это все, что осталось нам на память от отца Александра Скультетти, – сказал старик. – А ведь какой географ был! А историк!..Да на месте короля Зыгмунта я зубами держался бы за него… Написать историю нашей Пруссии!..Да, пусто, пусто становится вокруг отца Миколая…
– Почему вы говорите о Скультетти «был»? – спросил Збигнев встревоженно. – Разве с отцом Александром что-нибудь стряслось? А я еще пообещал привезти к нему своих лучших учеников…
– Далеко пришлось бы везти… В Рим… Дантышек… (пусть господь простит меня, но даже бискупом называть его не хочется!) Дантышек этот решил оставить отца Миколая и без этого утешения… А как мечтал пан доктор о карте Польши! Об истории Польши! А вот Дантышек вкупе с проклятым Гозиусом взвели на отца Александра какой-то поклеп, бог знает какие обвинения… Хорошо, что у того брат в Риме при папском дворе, удалось оправдаться кое-как… Но в Вармии отцу Александру уже не бывать… Да, пусто, пусто стало вокруг… Радовался отец Миколай на ученика своего Ретика (тот ведь около года у нас прожил), но куда там! Больше лютерцы Ретика сюда не пустят! Они ведь думали, что он, все здесь высмотрев да вычитав, хулу на отца Миколая взведет, а Ретик – ну и храбрый же он человек! – возвеличил в своем писании нашего доктора… Вот и лишили его кафедры в Виттемберге, пришлось ему в Лейпциг перебираться. – Горестно вздохнув, старик замолчал. – Вот тогда-то, как узнал отец Миколай, каким гонениям из-за него подвергли Ретика, и пошла у него во второй раз кровь, – добавил Войцех. – В первый раз, когда это случилось, нам и на ум не могло прийти, что лекарь наш дорогой сам может заболеть… В первый раз у него кровь носом шла без остановки четыре дня подряд, он в лежку тогда слег… Это когда проклятый Дантышек Анну Шиллинг из Фромборка выслал… Да…
Взгляд Войцеха упал на Вацка, и, пожевав губами, старик замолчал.
– Вот еще отец Гизе к нам когда-никогда приезжает, – снова начал он через минуту. – Да ведь недосуг ему – епископство много времени отнимает… Хорошо, что хоть вы собрались навестить отца Миколая… Он ведь нет-нет, да и скажет: «Что же это мальчики мои давно не были?» А мальчикам-то небось самим лет по сорок стукнуло?
– По пятьдесят скоро стукнет, – отозвался Збигнев.
– А что же, Каспер, у тебя сыночек такой молодой? Или постарше есть?
– Была девочка… умерла… – ответил Каспер и, обхватив Вацка за плечи, вышел из каморки старого слуги.
Первая девочка до того походила на Ванду, что он до сих пор не может успокоиться после этой утраты.
С трудом протащив сверток карты в низенькую дверь, за ними следом двинулся и Збигнев.
В коридоре Вацек остановился.
– Отец, – начал он смущенно, – кто это… Отец, Анна Шиллинг – это Ганнуся и есть?
Збигнев укоризненно покачал головой и приложил палец к губам.
Возможно, Каспер не заметил этого жеста, а возможно – и заметил, только он сказал:
– Почему-то считается, что детям или вот таким отрокам не следует говорить о любви. А слышат они постоянно от близких, от учителей, от наставников о войнах, об осадах крепостей, об открывателях новых земель, об уничтожении диких племен, о великих людях древности… Эх, не умею я красно говорить, ты бы, Збышек, изложил все это лучше, чем я… Но ведь у этих самых великих людей древности, у этих военачальников и мореплавателей были матери, сестры, жены, невесты. Они-то и помогали им жить, творить, воевать…
– Ну, воевать они, наверно, мешали, – заметил Збигнев с улыбкой.
Но Каспер продолжал, не обратив внимания на его слова:
– Вот полюбит в первый раз такой вот Вацек, или Анджей, или Генюсь чистой, светлой любовью, а из книг да из песен он уже знает, что такой-то рыцарь в честь своей возлюбленной убил столько-то людей на турнире, а такой-то с ее именем на устах раскроил голову врагу, а еще третий, захватив дикий остров и уничтожив всё его население, назвал остров именем своей дамы… А еще какой-то, взобравшись по веревочной лестнице в светелку к своей даме, выкрал ее насильно, перекинул, как дикий татарин, через седло, так что золотые ее волосы мели дорожную пыль… А Вацку или Генюсю хочется только с обожанием смотреть на свою любимую да разве что подол ее платья целовать… И решает он, начитавшись этих романов, что любовь его детская и смешная и что сам он человек нестоящий… А ведь это настоящая любовь и есть… Надо, надо юношам нашим рассказывать о настоящей любви!.. Учить их настоящей любви!
Вацек как завороженный смотрел на отца. Таким красивым он никогда еще его не видел…
– Ты спросил, сынок: «Анна Шиллинг – это и есть Ганнуся»? Да, так называл ее Учитель. А все слуги во Фромборке и окрестные хлопы прозвали ее божьим ангелом.
Заботу о больном поделили между собой Ежи Доннер, старый Войцех, отец Фабиан Эмерих и свояк отца Миколая – Левше, которого Коперник, не в силах справляться с делами, уже давно попросил себе в помощники. Левше и предстояло наследовать по нем каноникат.
Напрасно Збигнева беспокоило, что у постели тяжелобольного суетится слишком много народу: гостям из Гданьска тоже нашлось дело. И отец Ежи, и Войцех, и отец Эмерих были люди в возрасте, они с трудом могли приподнимать тяжелого, тучного отца Миколая, когда тому нужно было оправить постель. «Молодой Левше» тоже не был уже таким молодым, но все же лет на десять моложе гданьщан. Но, как человек кабинетный, всю жизнь свою проведший в четырех стенах, он по слабости здоровья был плохим помощником.
Збигнев же и Каспер легко и ловко приподнимали больного, а когда отцу Миколаю становилось немного лучше, сделав из рук скамеечку, подносили его к окну и давали полюбоваться на звезды.
Правда, застав как-то вечером всех троих у окна, отец Эмерих строго отчитал моряка и Учителя за то, что они, не знающие законов медицины, тревожат отца Миколая, перенося его с места на место, и не дают якобы зажить небольшому, лопнувшему у него в мозгу кровеносному сосуду, а это может задержать окончательное выздоровление.
Опытный медик, доктор Коперник только грустной улыбкой ответил на слова собрата.
Приходя время от времени в себя, отец Миколай просил Каспера рассказывать ему о тех чудесных дальних странах, в которых тому довелось побывать. Збигнев же делился с больным планами своего будущего труда – истории Польши.
Вацек дни и ночи проводил у постели больного. Он лучше, чем отец и дядя, лучше врачей и родственников научился по одному взгляду отца Миколая угадывать, что тому нужно. А иногда, сидя у его изголовья, мальчик повторял ему историю похищения тети Митты и Уршулы, которую сам знал уже наизусть.
И всегда в одном и том же месте рассказа по мертвеющим губам Коперника пробегала слабая улыбка.
Поэтому Вацек, чтобы не утомлять больного, часто начинал свой рассказ именно с этого места:
– «И вот начальник рейтаров говорит дяде Франеку: „Послушай, а нельзя ли к возку какие-нибудь запоры приделать, а? Солдаты мои волнуются: погибнуть на войне – другое дело, а вот если тебе горло перегрызут“… Вы слышите меня, ваше преподобие?
Коперник молча опускал ресницы.
– «А дядя Франек отвечает: „Забьем гвоздями дверцу возка, монахини выскочить оттуда и не смогут“…
И Вацек, как солнышка из-за туч, дожидался появления на губах отца Миколая улыбки.
Коперник говорил уже с большим трудом. И, как это ни странно, Вацек за несколько дней научился понимать его нечленораздельную речь лучше, чем специально приставленные к больному люди.
И когда – трижды или четырежды на день – отец Ми-колай, мучительно прислушиваясь к шуму во дворе замка (слух до сих пор служил ему хорошо), с надеждой вопросительно поднимал на мальчика глаза, тот, еле сдерживая слезы, молча отрицательно качал головой.
Это означало, что отец Миколай справляется, не прибыл ли нарочный из Нюрнберга.
Гонец из Нюрнберга прибыл в ночь на 24 мая.
Услышав за окном конский топот, говор, а затем шаги в коридоре, Вацек с опаской глянул на отца Миколая: тот только что забылся после мучительной рвоты.
Ничто не шевельнулось на этом бледном лице, даже не дрогнули ресницы.
Осторожно выскользнув за дверь, мальчик в коридоре столкнулся с отцом Доннером. Сияя от радости, старик с трудом тащил в руках объемистый пакет.
– Вот! – сказал он задыхаясь. – Прислали из Нюрнберга книгу отца Миколая! – И прислонился к стене, не в силах больше выговорить ни слова.
Тревожить ночью уснувшего больного никто не решился.
Уже отзвонили к ранней обедне, когда отец Миколай пришел в себя. Чтобы отпраздновать торжественное событие, Каспер, Збигнев и Левше хотели собраться у его постели, но отец Доннер категорически запротестовал.
– Принесу ему его труд, пусть хоть на ощупь его узнает, глаза-то уже плоховаты. А лишних людей в опочивальне в эту минуту не надо! Помоги-ка мне, Вацюсь!
И Вацек, шагая через две и три ступеньки, взлетел наверх с тяжелым фолиантом в руках.
– Вот, брат Миколай, твои «Обращения», – чуть не плача от радости, сказал отец Ежи, входя к больному. – Прибыл наконец нарочный из Нюрнберга! – И положил на колени Коперника огромный, еще пахнущий типографской краской том.
Вацек не отрываясь смотрел на дорогое, внезапно просиявшее лицо.
С трудом выпростав из-под одеяла руку, отец Миколай попытался раскрыть тяжелый переплет. Вацек помог ему.
Потом больной устало закрыл глаза. Рука его упала на книгу и замерла без движения.
– Брат Миколай, ты слышишь меня? – окликнул его Доннер.
Обеспокоенный медик попытался было нащупать пульс больного. Потом, опустившись на колени у ложа Коперника, заставил стать на колени испуганного мальчика.
– Не верю, не верю! – бормотал старик, задыхаясь от слез. – Не верю – в такой-то день! Боже милосердный, дожить до получения своего труда – и вдруг…
Вацек оглянулся на скрип открывшейся двери.
В комнату вошли Каспер, Збигнев и Левше. Не дождавшись Вацка, они обеспокоились.
Немедленно послали за отцом Фабианом Эмерихом. С ним вместе поднялся наверх и Войцех.
Старый слуга не плакал. Господин его и друг приучил его спокойно дождаться этого дня.
– Ну, господи, теперь и меня ты уже не задерживай больше на земле! – произнес он, осеняя себя крестом.
Отец Эмерих подошел к больному, взял его за руку, потом приложил ухо к его груди. Торопливо шагнув к окну, он отдернул занавес. Затем поднес к губам отца Миколая зеркало. Поверхность стекла оставалась ясной, незамутненной.
– Nicolaus Copernicus mortus est!
[65]– громким голосом возвестил он то, что и до его прихода было понятно всем собравшимся у ложа отца Миколая. – Помолимся же, дети мои!
Не прошло и получаса, как по черепичной крыше замка загрохотали чьи-то тяжелые шаги: отец Эмерих велел приспустить на фромборкской башне флаг.
А еще через несколько минут в весеннем воздухе поплыл печальный и торжественный звон.
Известие о кончине милого друга и собрата, Миколая Коперника, застало епископа хелмского еще в Кракове.
«Ваше преосвященство, – писал ему Каспер Бернат, – нет на земле уже Миколая Коперника!»
Ни присутствовать при отходе друга в лучший мир, ни дать ему последнее причастие, ни проводить его в последний путь отцу Тидеману не довелось.
Его спешный нарочный, скакавший несколько дней и ночей подряд и загнавший четырех лошадей, сообщил гданьским гостям просьбу бискупа дожидаться во Фромборке его приезда. Отец Тидеман знал, с какою взаимною любовью относились друг к другу капитан Бернат и каноник Коперник, ему хотелось услышать о кончине Миколая из уст близкого человека.
Похороны пана доктора Коперника надолго запомнились окрестным мужикам. Такой длинной погребальной процессии им еще не доводилось видеть. Огромный кафедральный собор не мог вместить всех желающих проститься с покойным.
Однако из членов вармийского капитула на отпевание отца Миколая явилось только четыре человека, остальные находились в разъездах по диацезу. А уж из Кракова, от королевского двора, почтить своим присутствием похороны никто не собрался.
Погребальная процессия растянулась от городских ворот до замка Фромборк и до самой катедры,
[66]да и по обочинам дороги толпами стояли люди. К хлопам из близлежащих сел, желающим проводить своего дорогого наставника, врача и заступника, то и дело присоединялись мужики из Бранева, Мальборка, Лидзбарка и Ольштына… Приплелись даже запыленные, усталые хлопы из орденского Квидзыня. Добравшись до Фромборка только через неделю после похорон, они тесной толпой заполнили храм, чтобы помолиться над усыпальницей, где их любимый отец Миколай покоился рядом с бискупом Лукашем Ваценродом.
У каждого из провожавших было чем вспомнить отца Миколая, помянуть его добрым словом… Тому он спас от смерти ребенка, у того вылечил жену, этой женщине купил корову, тех троих парней освободил из тюрьмы.
Слезы, рассказы о милосердии каноника, о его врачебным искусстве сопровождали усопшего до могилы.
Вацек лежал, уткнувшись лицом в траву, когда колокольный звон возвестил прихожанам, что во Фромборк пожаловал его преосвященство хелмский епископ Тидеман Гизе.
О том, что наступила уже настоящая весна, что на деревьях распустились веселые, сверкающие на солнце листочки, мальчик до сегодняшнего дня и не подозревал. Пребывая свыше десяти дней в полутемной опочивальне отца Миколая, он редко выглядывал в окна. С раскаянием Вацек вдруг осознал, что его уже не тянет домой, что уже ни Вандуся, ни маленькие братья, ни мама Ванда сейчас не смогут ему заменить человека, встречи с которым он дожидался два года и прах которого проводил во фромборкский собор.
И, как ни жалко было отцу Миколаю оставить в безвестности имя человека, так много сделавшего для распространения его учения, Тидеман вычеркнул из предисловия также и упоминание об ученом виттенбержце Иоахиме де Лаухене, прозванном Ретиком.
«Несмотря на все свои заслуги перед наукой, Ретик для Рима продолжает оставаться еретиком, лютерцем… – сказал епископ хелмский, – поэтому не следует упоминанием о нем заведомо навлекать на свой труд гнев и нарекания отцов церкви».
Итак, вместо перечисления заслуг и достоинств Ретика в обращении к папе осталось только начало фразы: «Настаивало на издании труда моего и немало других выдающихся и ученых людей».
Может быть, отец Тидеман был и прав. Что же касается самого Ретика, то он, всецело преданный наукам, мало заботится о славе и с пренебрежением относится к признанию людей, уважения коих он не тщится снискать.
Но все же, сколько бы раз отец Миколай ни просматривал это место предисловия, отсутствие здесь имени Ретика тяжелым укором ложилось на его совесть.
Эту старую, истрепанную тетрадку придется бросить в огонь, она свое отслужила… Только надо будет разыскать еще записи «О природе сна»… Записи давние, сохранились ли они еще?
Год 1507… Матерь божья, какая старина! Наброски письма-трактата, адресованного друзьям… Впоследствии трактат этот получил название «Малого комментария»…
А это что? Год 1514 – черновик письма Коперника – ответа на приглашение епископа римского Павла Миддельбурга принять участие в работах по подготовке реформы юлианского календаря…
«Более совершенное летосчисление, – разобрал больной в своем сплошь перемаранном черновике, – возможно будет тогда, когда станут известны законы движения Солнца и Луны. Я такими данными сейчас не располагаю».
Отец Миколай устало откинулся на подушки. Это давно забытое письмо и есть ключ, разгадка оттягивания выхода в свет его астрономических трудов. Папе Павлу Третьему он пишет о своей робости ученого, но это не совсем верно. Не трусость, как думают враги, не медлительность, как думают друзья, руководили им, а только желание как можно тщательнее проверить и подтвердить многочисленными опытами свои положения!
Отдохнув немного, больной стал дальше листать тетрадку. Вот год 1520 – черновик трактата «Об истинных и справедливых ценах на хлеб». Чем только не приходилось заниматься, отрываясь от любимой астрономии, чтобы хоть немного облегчить участь голодных!
Год 1522 – другой экономический трактат, «О порче монеты». Да, жарким, жарким было заседание городской рады, на котором отец Миколай зачитал свой трактат! Все были согласны с тем, что нужно запретить каждому городу чеканить собственную монету. Все понимали, что, подмешивая к серебру медь и свинец, магистраты городов поступают не лучше, чем враги Польши тевтоны, которые когда-то выпуском порченой монеты обесценивали польские деньги и повышали цены на товары. Однако никто не хотел, чтобы именно его город был лишен права чеканить деньги.
Поговорили, поговорили, поспорили… и разъехались, не придя ни к какому решению.
Дальше идут год 1526, за ним 1527, 1528… Сплошь накрест перечеркнутые страницы со столбиками цифр… В то время он безуспешно пытался вычислить отклонение Меркурия. Одна из самых огорчительных его неудач!..
Ага, вот и запись, которую он искал: «Мысли и наблюдения Миколая Коперника о природе сна».
Самая природа сна интересовала Коперника, как врача, давно. Однако раньше, занятый наблюдением за небом, врачебной практикой, заботами, налагаемыми на него обязанностями по диацезу, отец Миколай мало мог отдавать ей внимания. Сейчас же, предоставленный мучительному ничегонеделанию, он может заняться этим на свободе.
Сегодня он уже вправе записать: «Судя по тому, что человек встает после сна освеженный и преисполненный сил, следует заключить, что сон приносит человеческой натуре отдохновение. Но как сочетать это с тем непрестанным током впечатлений, переживаний, чувств, которые молниеносно пробегают в нашем мозгу во время сна? Вот и нынче во сне, длившемся восемь минут, я прожил большой участок жизни, объехал Польшу, перевалил через Альпы, посетил Рим и Болонью, снова очутился в Польше, присутствовал на придворном балу и играл с королевой Боной в шахматы. Не вырабатывает ли наш мозг какой-то волшебный эликсир, устраняющий усталость мозга же? Нельзя ли каким-нибудь путем извлечь его и применить для поддержания раненых, а также ослабевших после болезни, голода, тюремного заключения?…» Отец Миколай написал было еще и «к старости», но тут же это слово зачеркнул. Старость – естественное завершение всей работы организма, мало заметный и поэтому не пугающий переход от бытия к небытию…
Вот, хвала святой деве, день почти на исходе. Гонца из Нюрнберга не было, но сегодня он ни разу не осведомился о нем!
Входя в опочивальню отца Миколая, Збигнев с опаской оглянулся на Каспера и его сына.
Ни деревянной скамьи, застланной волчьей шкурой, ни самодельных табуретов здесь не было и в помине.
Давно не было их и на вышке в «башне Коперника», как прозвали в народе фромборкскую башню, в которой отец Миколай вел наблюдения над небом.
Анна Шиллинг, единственное утешение старого ученого, много лет назад привела в порядок его суровую обитель. Вот и привычка ее ставить у постели живые цветы сохранилась у отца Миколая до сих пор. И сейчас в итальянской стеклянной вазочке (это тоже подарок Анны) у изголовья Коперника стоят засохшие прошлогодние ландыши.
Отец Миколай дремлет. Его седые кудри разметались по подушке. В полумраке и волосы и мертвенно бледное лицо почти не выделяются на фоне полотна.
«Какое горькое разочарование испытает сейчас Вацек! – думает Збигнев сердито. – Нехорошо, что отец своими рассказами о Копернике, которого он помнит совсем иным, создал в воображении Вацка образ, ничего общего с настоящим Коперником не имеющий! Не к чему заставлять мальчика переживать потрясения, подобные тому, что ожидает его сейчас! Конец великого астронома близок. Вот умер бы он, а в представлении Вацка он так и остался бы темноволосым, быстрым в движениях, со своими действительно незабываемыми глазами. А теперь… Бедный Вацек!»
Опасения Збигнева были, как видно, напрасны: держа шапку в руках, побледневший от волнения, мальчик перешагнул через заветный порог. Не снимая руки с его плеча, вошел в опочивальню и его отец. Как ни осторожно они двигались, больной все-таки открыл глаза.
– Сны… Юность… – прошептал он еле слышно и снова опустил свои все еще темные и густые ресницы. – Придержи Яся за ножку, чтобы он не свалился в воду…
– Вот так его преподобие бредит уже шестой день, – пояснил сопровождавший гостей каноник Ежи Доннер.
– Отцу Тидеману сообщили? – осведомился Каспер.
– Посланный гонец уже не застал его преосвященства, вызванного в Краков на обручение королевского сына. О том, что больной в таком тяжелом состоянии, епископ хелмский не знает.
– Тидеман знает, – вдруг громко и внятно произнес отец Миколай. – Только поэтому он и отпустил меня из Любавы умирать во Фромборк… Боже мой, Каспер здесь! Подойди сюда, мой мальчик! – И он притянул к себе изнемогающего от счастья и волнения Вацка.
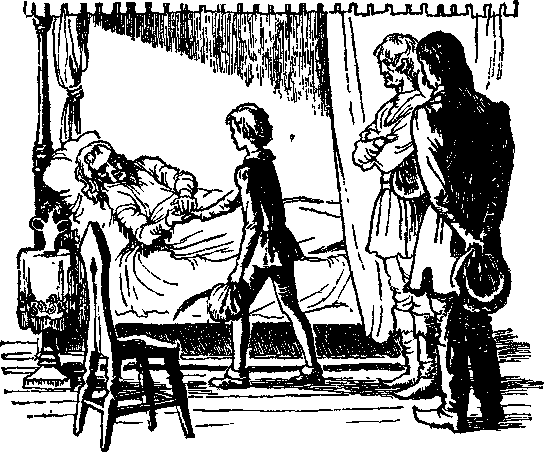
Скрипнула дверь. На пороге показался старенький, почти вдвое согнувшийся Войцех Шибульский.
– Пора давать лекарство, – шепнул он, подходя с подносом к отцу Доннеру.
С помощью слуги и медика Коперник терпеливо выпил снадобья из всех четырех стаканчиков разной формы.
– Во имя отца и сына и святого духа! – произнес, осеняя его крестным знамением, отец Доннер.
– Его преподобие соборный викарий, медик – отец Эмерих, приготовил для больного эти четыре новых средства, – сказал он, повернувшись к гостям.
– Это сын мой, отец Миколай, – произнес, выступая вперед, Каспер Бернат. – Я привез, чтобы вы благословили его…
– А-а-а… «Геометр звезд»? Покажи-ка мне свои глаза, геометр… – И, приподняв за подбородок лицо мальчика, Коперник долго и пристально в него вглядывался. – Честные глаза… Чистые… Как у отца… Трудно тебе будет жить!
Помолчав, каноник снова притянул к себе мальчика.
– Признайся, не такого ожидал ты увидеть человека?..
– Такого, – сказал Вацек хрипло. – Только я не знал, что вы в постели.
– И это тебя не пугает? – Здоровой рукой отец Миколай поднял неподвижную руку, и она безжизненно упала на одеяло. – И это? – Он коснулся пальцами отеков под глазами.
Вацек отрицательно покачал головою. Смотрел на больного он с каким-то самозабвенным восторгом… Такое Збигневу довелось видеть в Свентожицском монастыре перед образом святого Пантелеймона. Так, ожидая исцеления сына, смотрела на икону бедная мужицкая женщина.
– Таким ли описывал меня твой отец? Он ведь всегда, по любви своей и снисходительности, наделяет меня несуществующими достоинствами…
– Таким, – коротко сказал Вацек. – И вы такой!
Слабая улыбка скользнула по губам больного. Он хотел что-то сказать, но только погладил мальчика по его густым волосам.
А Збигнев, наблюдая эту сцену, думал: «Правду говорят, что любовь слепа… А может быть, любовь именно не слепа и любящий человек видит то, что недоступно зрению людей холодных и равнодушных?..»
– Эге, да и Збигнев тут? – сказал отец Миколай, с трудом переводя на него взгляд. – Заметь, домине Доннер, подвижность глазного яблока значительно ослабела. Это наблюдение важно для отца Эмериха… Подойди-ка поближе, Збышек, карту Вармии я для тебя приготовил.
И, так как Ежи Доннер решительно распростер руки, остановившись между больным и его гостями, Коперник добавил мягко:
– Не волнуйся, Ежи, старый мой соратник! Отцу Эмериху я тебя отчитывать не дам! – И, повернувшись к гостям, сказал со своей мимолетной улыбкой: – Ну мог ли кто подумать, что такие два старика, как Ежи и я, стояли когда-то на стене осажденного Ольштына и целились в наиболее завзятых кшижаков! Гости наши, Ежи, – очень близкие мне люди, можешь им довериться! А ты пока ступай отдохни…
И, не удержавшись, добавил:
– Если прибудет гонец из Нюрнберга, приведите его ко мне хотя бы среди ночи!
Дождавшись, пока отец Доннер выйдет, Коперник заметил удрученно:
– Замучились они со мной… Пока я владею собою – стараюсь поменьше им надоедать… Но это случается так редко… Славный у тебя сынок, Каспер! Все лучшее у вас с Вандой взял…
Збигнев почти с испугом заметил, что глаза отца Миколая засияли каким-то необычайным светом и свет этот внезапно померк.
– Больно, – прошептал каноник и, с трудом сунув руку под подушку, нащупал тряпицу. Но до того, как он поднес ее к лицу, из носа его хлынула густая, темная кровь. – Ганна… Ганнуся! – позвал он жалобно.
– Вот опять он много говорил! – укоризненно сказал, появляясь в дверях, Ежи Доннер. На безмолвный вопрос Збигнева он только недоуменно развел руками. – С минуты на минуту это может произойти… Викарий Эмерих более опытный медик, чем я, однако и он просчитался… Вычислил, что отец Миколай отойдет в лучший мир ко дню своего семидесятилетия, а он после девятнадцатого февраля, хвала господу, живет уже более трех месяцев. На прошлой неделе в его здоровье даже произошло улучшение.
Все это Ежи Доннер говорил, то поднося к лицу больного таз, то осторожно утирая его подбородок. Коперник уже ничего не видел и не слышал.
– Простите, панове, но сегодня я вас больше к нему не допущу! – сказал старик решительно.
Как ни плохо чувствовал себя отец Миколай, но, зная, что к нему из Гданьска будут гости (об эту пору его обязательно навещал Каспер, или Збигнев, или оба они вместе), каноник загодя распорядился, чтобы Збигневу для снятия копии выдали карту Вармии.
Передал ее молодому учителю скорбный старый Войцех.
– Это все, что осталось нам на память от отца Александра Скультетти, – сказал старик. – А ведь какой географ был! А историк!..Да на месте короля Зыгмунта я зубами держался бы за него… Написать историю нашей Пруссии!..Да, пусто, пусто становится вокруг отца Миколая…
– Почему вы говорите о Скультетти «был»? – спросил Збигнев встревоженно. – Разве с отцом Александром что-нибудь стряслось? А я еще пообещал привезти к нему своих лучших учеников…
– Далеко пришлось бы везти… В Рим… Дантышек… (пусть господь простит меня, но даже бискупом называть его не хочется!) Дантышек этот решил оставить отца Миколая и без этого утешения… А как мечтал пан доктор о карте Польши! Об истории Польши! А вот Дантышек вкупе с проклятым Гозиусом взвели на отца Александра какой-то поклеп, бог знает какие обвинения… Хорошо, что у того брат в Риме при папском дворе, удалось оправдаться кое-как… Но в Вармии отцу Александру уже не бывать… Да, пусто, пусто стало вокруг… Радовался отец Миколай на ученика своего Ретика (тот ведь около года у нас прожил), но куда там! Больше лютерцы Ретика сюда не пустят! Они ведь думали, что он, все здесь высмотрев да вычитав, хулу на отца Миколая взведет, а Ретик – ну и храбрый же он человек! – возвеличил в своем писании нашего доктора… Вот и лишили его кафедры в Виттемберге, пришлось ему в Лейпциг перебираться. – Горестно вздохнув, старик замолчал. – Вот тогда-то, как узнал отец Миколай, каким гонениям из-за него подвергли Ретика, и пошла у него во второй раз кровь, – добавил Войцех. – В первый раз, когда это случилось, нам и на ум не могло прийти, что лекарь наш дорогой сам может заболеть… В первый раз у него кровь носом шла без остановки четыре дня подряд, он в лежку тогда слег… Это когда проклятый Дантышек Анну Шиллинг из Фромборка выслал… Да…
Взгляд Войцеха упал на Вацка, и, пожевав губами, старик замолчал.
– Вот еще отец Гизе к нам когда-никогда приезжает, – снова начал он через минуту. – Да ведь недосуг ему – епископство много времени отнимает… Хорошо, что хоть вы собрались навестить отца Миколая… Он ведь нет-нет, да и скажет: «Что же это мальчики мои давно не были?» А мальчикам-то небось самим лет по сорок стукнуло?
– По пятьдесят скоро стукнет, – отозвался Збигнев.
– А что же, Каспер, у тебя сыночек такой молодой? Или постарше есть?
– Была девочка… умерла… – ответил Каспер и, обхватив Вацка за плечи, вышел из каморки старого слуги.
Первая девочка до того походила на Ванду, что он до сих пор не может успокоиться после этой утраты.
С трудом протащив сверток карты в низенькую дверь, за ними следом двинулся и Збигнев.
В коридоре Вацек остановился.
– Отец, – начал он смущенно, – кто это… Отец, Анна Шиллинг – это Ганнуся и есть?
Збигнев укоризненно покачал головой и приложил палец к губам.
Возможно, Каспер не заметил этого жеста, а возможно – и заметил, только он сказал:
– Почему-то считается, что детям или вот таким отрокам не следует говорить о любви. А слышат они постоянно от близких, от учителей, от наставников о войнах, об осадах крепостей, об открывателях новых земель, об уничтожении диких племен, о великих людях древности… Эх, не умею я красно говорить, ты бы, Збышек, изложил все это лучше, чем я… Но ведь у этих самых великих людей древности, у этих военачальников и мореплавателей были матери, сестры, жены, невесты. Они-то и помогали им жить, творить, воевать…
– Ну, воевать они, наверно, мешали, – заметил Збигнев с улыбкой.
Но Каспер продолжал, не обратив внимания на его слова:
– Вот полюбит в первый раз такой вот Вацек, или Анджей, или Генюсь чистой, светлой любовью, а из книг да из песен он уже знает, что такой-то рыцарь в честь своей возлюбленной убил столько-то людей на турнире, а такой-то с ее именем на устах раскроил голову врагу, а еще третий, захватив дикий остров и уничтожив всё его население, назвал остров именем своей дамы… А еще какой-то, взобравшись по веревочной лестнице в светелку к своей даме, выкрал ее насильно, перекинул, как дикий татарин, через седло, так что золотые ее волосы мели дорожную пыль… А Вацку или Генюсю хочется только с обожанием смотреть на свою любимую да разве что подол ее платья целовать… И решает он, начитавшись этих романов, что любовь его детская и смешная и что сам он человек нестоящий… А ведь это настоящая любовь и есть… Надо, надо юношам нашим рассказывать о настоящей любви!.. Учить их настоящей любви!
Вацек как завороженный смотрел на отца. Таким красивым он никогда еще его не видел…
– Ты спросил, сынок: «Анна Шиллинг – это и есть Ганнуся»? Да, так называл ее Учитель. А все слуги во Фромборке и окрестные хлопы прозвали ее божьим ангелом.
Заботу о больном поделили между собой Ежи Доннер, старый Войцех, отец Фабиан Эмерих и свояк отца Миколая – Левше, которого Коперник, не в силах справляться с делами, уже давно попросил себе в помощники. Левше и предстояло наследовать по нем каноникат.
Напрасно Збигнева беспокоило, что у постели тяжелобольного суетится слишком много народу: гостям из Гданьска тоже нашлось дело. И отец Ежи, и Войцех, и отец Эмерих были люди в возрасте, они с трудом могли приподнимать тяжелого, тучного отца Миколая, когда тому нужно было оправить постель. «Молодой Левше» тоже не был уже таким молодым, но все же лет на десять моложе гданьщан. Но, как человек кабинетный, всю жизнь свою проведший в четырех стенах, он по слабости здоровья был плохим помощником.
Збигнев же и Каспер легко и ловко приподнимали больного, а когда отцу Миколаю становилось немного лучше, сделав из рук скамеечку, подносили его к окну и давали полюбоваться на звезды.
Правда, застав как-то вечером всех троих у окна, отец Эмерих строго отчитал моряка и Учителя за то, что они, не знающие законов медицины, тревожат отца Миколая, перенося его с места на место, и не дают якобы зажить небольшому, лопнувшему у него в мозгу кровеносному сосуду, а это может задержать окончательное выздоровление.
Опытный медик, доктор Коперник только грустной улыбкой ответил на слова собрата.
Приходя время от времени в себя, отец Миколай просил Каспера рассказывать ему о тех чудесных дальних странах, в которых тому довелось побывать. Збигнев же делился с больным планами своего будущего труда – истории Польши.
Вацек дни и ночи проводил у постели больного. Он лучше, чем отец и дядя, лучше врачей и родственников научился по одному взгляду отца Миколая угадывать, что тому нужно. А иногда, сидя у его изголовья, мальчик повторял ему историю похищения тети Митты и Уршулы, которую сам знал уже наизусть.
И всегда в одном и том же месте рассказа по мертвеющим губам Коперника пробегала слабая улыбка.
Поэтому Вацек, чтобы не утомлять больного, часто начинал свой рассказ именно с этого места:
– «И вот начальник рейтаров говорит дяде Франеку: „Послушай, а нельзя ли к возку какие-нибудь запоры приделать, а? Солдаты мои волнуются: погибнуть на войне – другое дело, а вот если тебе горло перегрызут“… Вы слышите меня, ваше преподобие?
Коперник молча опускал ресницы.
– «А дядя Франек отвечает: „Забьем гвоздями дверцу возка, монахини выскочить оттуда и не смогут“…
И Вацек, как солнышка из-за туч, дожидался появления на губах отца Миколая улыбки.
Коперник говорил уже с большим трудом. И, как это ни странно, Вацек за несколько дней научился понимать его нечленораздельную речь лучше, чем специально приставленные к больному люди.
И когда – трижды или четырежды на день – отец Ми-колай, мучительно прислушиваясь к шуму во дворе замка (слух до сих пор служил ему хорошо), с надеждой вопросительно поднимал на мальчика глаза, тот, еле сдерживая слезы, молча отрицательно качал головой.
Это означало, что отец Миколай справляется, не прибыл ли нарочный из Нюрнберга.
Гонец из Нюрнберга прибыл в ночь на 24 мая.
Услышав за окном конский топот, говор, а затем шаги в коридоре, Вацек с опаской глянул на отца Миколая: тот только что забылся после мучительной рвоты.
Ничто не шевельнулось на этом бледном лице, даже не дрогнули ресницы.
Осторожно выскользнув за дверь, мальчик в коридоре столкнулся с отцом Доннером. Сияя от радости, старик с трудом тащил в руках объемистый пакет.
– Вот! – сказал он задыхаясь. – Прислали из Нюрнберга книгу отца Миколая! – И прислонился к стене, не в силах больше выговорить ни слова.
Тревожить ночью уснувшего больного никто не решился.
Уже отзвонили к ранней обедне, когда отец Миколай пришел в себя. Чтобы отпраздновать торжественное событие, Каспер, Збигнев и Левше хотели собраться у его постели, но отец Доннер категорически запротестовал.
– Принесу ему его труд, пусть хоть на ощупь его узнает, глаза-то уже плоховаты. А лишних людей в опочивальне в эту минуту не надо! Помоги-ка мне, Вацюсь!
И Вацек, шагая через две и три ступеньки, взлетел наверх с тяжелым фолиантом в руках.
– Вот, брат Миколай, твои «Обращения», – чуть не плача от радости, сказал отец Ежи, входя к больному. – Прибыл наконец нарочный из Нюрнберга! – И положил на колени Коперника огромный, еще пахнущий типографской краской том.
Вацек не отрываясь смотрел на дорогое, внезапно просиявшее лицо.
С трудом выпростав из-под одеяла руку, отец Миколай попытался раскрыть тяжелый переплет. Вацек помог ему.
Потом больной устало закрыл глаза. Рука его упала на книгу и замерла без движения.
– Брат Миколай, ты слышишь меня? – окликнул его Доннер.
Обеспокоенный медик попытался было нащупать пульс больного. Потом, опустившись на колени у ложа Коперника, заставил стать на колени испуганного мальчика.
– Не верю, не верю! – бормотал старик, задыхаясь от слез. – Не верю – в такой-то день! Боже милосердный, дожить до получения своего труда – и вдруг…
Вацек оглянулся на скрип открывшейся двери.
В комнату вошли Каспер, Збигнев и Левше. Не дождавшись Вацка, они обеспокоились.
Немедленно послали за отцом Фабианом Эмерихом. С ним вместе поднялся наверх и Войцех.
Старый слуга не плакал. Господин его и друг приучил его спокойно дождаться этого дня.
– Ну, господи, теперь и меня ты уже не задерживай больше на земле! – произнес он, осеняя себя крестом.
Отец Эмерих подошел к больному, взял его за руку, потом приложил ухо к его груди. Торопливо шагнув к окну, он отдернул занавес. Затем поднес к губам отца Миколая зеркало. Поверхность стекла оставалась ясной, незамутненной.
– Nicolaus Copernicus mortus est!
[65]– громким голосом возвестил он то, что и до его прихода было понятно всем собравшимся у ложа отца Миколая. – Помолимся же, дети мои!
Не прошло и получаса, как по черепичной крыше замка загрохотали чьи-то тяжелые шаги: отец Эмерих велел приспустить на фромборкской башне флаг.
А еще через несколько минут в весеннем воздухе поплыл печальный и торжественный звон.
Известие о кончине милого друга и собрата, Миколая Коперника, застало епископа хелмского еще в Кракове.
«Ваше преосвященство, – писал ему Каспер Бернат, – нет на земле уже Миколая Коперника!»
Ни присутствовать при отходе друга в лучший мир, ни дать ему последнее причастие, ни проводить его в последний путь отцу Тидеману не довелось.
Его спешный нарочный, скакавший несколько дней и ночей подряд и загнавший четырех лошадей, сообщил гданьским гостям просьбу бискупа дожидаться во Фромборке его приезда. Отец Тидеман знал, с какою взаимною любовью относились друг к другу капитан Бернат и каноник Коперник, ему хотелось услышать о кончине Миколая из уст близкого человека.
Похороны пана доктора Коперника надолго запомнились окрестным мужикам. Такой длинной погребальной процессии им еще не доводилось видеть. Огромный кафедральный собор не мог вместить всех желающих проститься с покойным.
Однако из членов вармийского капитула на отпевание отца Миколая явилось только четыре человека, остальные находились в разъездах по диацезу. А уж из Кракова, от королевского двора, почтить своим присутствием похороны никто не собрался.
Погребальная процессия растянулась от городских ворот до замка Фромборк и до самой катедры,
[66]да и по обочинам дороги толпами стояли люди. К хлопам из близлежащих сел, желающим проводить своего дорогого наставника, врача и заступника, то и дело присоединялись мужики из Бранева, Мальборка, Лидзбарка и Ольштына… Приплелись даже запыленные, усталые хлопы из орденского Квидзыня. Добравшись до Фромборка только через неделю после похорон, они тесной толпой заполнили храм, чтобы помолиться над усыпальницей, где их любимый отец Миколай покоился рядом с бискупом Лукашем Ваценродом.
У каждого из провожавших было чем вспомнить отца Миколая, помянуть его добрым словом… Тому он спас от смерти ребенка, у того вылечил жену, этой женщине купил корову, тех троих парней освободил из тюрьмы.
Слезы, рассказы о милосердии каноника, о его врачебным искусстве сопровождали усопшего до могилы.
Вацек лежал, уткнувшись лицом в траву, когда колокольный звон возвестил прихожанам, что во Фромборк пожаловал его преосвященство хелмский епископ Тидеман Гизе.
О том, что наступила уже настоящая весна, что на деревьях распустились веселые, сверкающие на солнце листочки, мальчик до сегодняшнего дня и не подозревал. Пребывая свыше десяти дней в полутемной опочивальне отца Миколая, он редко выглядывал в окна. С раскаянием Вацек вдруг осознал, что его уже не тянет домой, что уже ни Вандуся, ни маленькие братья, ни мама Ванда сейчас не смогут ему заменить человека, встречи с которым он дожидался два года и прах которого проводил во фромборкский собор.
