Страница:
Подошла бабка София.
– Сказал? – спросила она Вуйка тихо.
И юноша понял, что речь идет о нем.
– Сказал, бабинька София, – произнес Каспер, поднимая голову. – И правы вы все: я должен заплатить славному атаману свой долг. А заплакал я… – Каспер хотел было объяснить, что не от милого, доброго Вуйка ждал он этих слов, но как это выразишь?
– Поплачь, сынок, поплачь, тебе легче станет, – сказала старуха ласково. – Уж на что железный народ наши казаки, да и то иной, очнувшись да поняв, что у него нет руки или ноги, плачет, как дитя малое…
Ничего не понимая, Каспер пошевелил пальцами рук, потом топнул о землю одной ногой, другой…
– Значит, и повязки твои поснимаем, надоели они тебе бог знает как!
Каспер с ужасом увидел, как Вуек, до этого пластом лежавший на траве, приподнявшись, ухватил бабку Софию за руку. Он попытался что-то сказать, но изо рта его хлынула кровь, и он снова рухнул в траву.
Бабка София занялась Вуйком, а Каспер остался сидеть подле них, раздумывая над тем, что произошло.
– Вот и порешили мы, сынок, что нужно тебе оставаться здесь, с нами, – сказала жена атамана, подсаживаясь наконец к нему. – Здесь и невесту хорошую тебе подыщем… Наши девушки ко всему привычные, силу и храбрость в казаке ценят, и чем больше шрамов на теле да на лице он носит, тем больше ему любовь и почет! Положи-ка голову мне на колени, я размотаю твои тряпицы.
Так в это утро Каспер узнал о своей беде: крест-накрест рассек ему лицо саблей проклятый Керим-эффенди. Каспер часто ощущал боль и жжение на местах затянувшихся уже ран, но он никогда и не подозревал, что так изуродован.
Когда бабка София поднесла ему большой турецкий медный поднос, юноша, увидев в нем свое отражение, только из гордости и еще из-за какого-то непонятного ему чувства не закричал от ужаса.
Раны зарубцевались отлично, подорожник оказал свое целебное действие, но сейчас никто в этом покореженном и на человека не похожем человеке не признал бы Каспера Берната. Даже его тонкие прямые брови и синие глаза с длинными ресницами на этом лице выглядели чужими и ненужными.
Бывшего студента Каспера Берната атаман Шкурко не принял в свой отряд.
– Другая у меня думка, – сказал он. – Ты, я слышал, хорошо знаешь морское дело… С чайками хлопцы мои ладно справляются, а вот с кораблями нам дело иметь не приходилось: захватим какой – рабов тут же на свободу, с извергов – головы прочь, товар – в Сороки или куда поближе на ярмарку, а корабль ко дну пускаем. Но сейчас вот какая у меня думка: хочу я трехмачтовик захватить, обучить хлопцев морскому делу – и-и-и, пойдет гулять наша бражка по Черному морю, по Адриатике, по Средиземному… Может, даже до Геркулесовых столбов
[58]доберутся! Слыхал, моряк, про такие столбы?
Каспер про Геркулесовы столбы слыхал, но Шкурко-то откуда про них знает?
Однако атаман на его вопрос только подморгнул ему из-под седых бровей веселым карим глазом и промолчал.
– И про Антиллию мы слыхали, – сказал он много времени спустя. – Да что ж, «ухо слышит, да зуб неймет», – переиначил он старую пословицу.
Тогда же было решено, что Каспер начнет обучать молодых казаков морскому делу – умению обращаться с компасом, секстантом, астролябией, по звездам находить дорогу ночами, а также – математике, астрономии, – словом, всему, что знал сам.
– Инструменты эти, про которые ты говоришь, – пообещал атаман, – мы тебе раз-два и добудем… И не думай, что тут только ты один ученый. У нас есть люди, что в семинариях да школах монастырских скамьи протирали, не одни ксендзы ваши в науках сведущи… Только не вытерпело казацкое сердце, бросили они свои школы и семинарии и ушли ко мне в курень! У меня и беглых монахов не меньше десятка наберется, – похвалился старый Шкурко.
И Каспер порешил, что он так и останется здесь на всю жизнь: куда ему, несчастному, больше деваться? Права бабка София – только здесь, быть может, не посмотрят девушки на его уродство… А впрочем, и не до девушек было ему сейчас.
Порешил было так Каспер и остался бы, возможно, на всю жизнь у старого атамана Шкурко, если бы не последний разговор с Вуйком.
Старик лежал, вытянув вдоль тела белые-белые руки.
Да, это про бравого боцмана Каспер думает «старик»! Черные усы и брови сейчас точно прибавляют ему лет.
– Обучать морскому делу думаешь хлопцев? – говорил Вуек тихо и медленно. – Это хорошо. Отработать хочешь свое спасение? Тоже хорошо! Только на всю жизнь оставаться здесь – это ты, Касю, выкинь из головы! Здесь ихняя казачья страна, ихняя родина, а твоя родина там, – Вуек хотел было показать рукою, но она бессильно упала. – А думал ли ты когда-нибудь, Касю, что такое родина?
Юноша сидел молча. Вуек вот уже несколько часов подряд рассуждает сам с собою, вслух. Задает вопросы и сам же на них отвечает.
– Что такое родина? – продолжал пан Конопка. – О-о-о, исходил я эту самую родину, да не на коне, а пешочком, с торбою… Хорошо теперь я ее знаю! Краков – что ж, ничего не скажешь, красавец город, мало есть таких городов на свете. А ведь я его, свет этот, тоже повидал! А в Кракове, возьми один дворец королевский или академию вашу… Что ж, и это родина… И Гданьск, и верфи его, и гавань с кораблями нашими и заморскими – тоже родина. Тоже Польша! И богатые костелы, и замки великолепные, и всё как есть наше богатое Поморье, и Королевская Пруссия, и Польша Малая и Великая, и Шлёнзк за рекой Одрой – все это, Касю, Польша! И я, простой боцман, тоже поляк, и ты, студент Бернат, поляк, и король наш Зыгмунт поляк, а кто из нас важнее, судить не сейчас. Суд над нами потом будет…
Каспер решил, что боцман говорит о том, о страшном суде, но Вуек думал о другом.
– Вот спросят короля Зыгмунта: «А что ты, твое величество, для Польши своей сделал? Хлопов обирал? Свадьбы да балы справлял, а?» Но если сумеет оправдаться Зыгмунт, если скажет он: «И свадьбы справлял и хлопов обирал, но за Польшу свою голову сложил, себя не пожалел», – тогда хорошо…
Мысли Вуйка явно путались, и Каспер умоляюще глянул на бабку Софию: она одна умела уговорить боцмана. Но бабка София сидела, молча покачивая головой, точно подтверждая: «Правду говоришь, истинную правду!»
– «А ты, боцман Конопка, как Польше своей помог?» – спросят меня… И я что ж, я все выложу! – продолжал Вуек. – Как холера была – не побоялся, еще мальчишкой ходил по домам, известью заливал гноища, мертвых вытаскивал, живых от мертвых спасал… Линьком, скажу, стегал своих матросов, да вот из этих моих матросов четверо капитанами наши польские корабли водят, славу нашей Польше добывают. И тебя, Каспер Бернат, спросят, что же ты, сын славного капитана, сделал для Польши. Вот ты и скажешь: «На каторгу, в цепи, пошел, чтобы спасти Польшу, чтобы не рвали ее на части жадные кшижаки»!
(Милый Вуек, а о себе, о том, что он ради Польши тоже за тридевять земель поехал, он забыл, видно…)
– А потом, Каспер Бернат, спросят: «Что же ты еще для Польши сделал?» А ты и молчок… «Личико, – скажешь, – мое белое враг изуродовал, так я из-за личика этого и про Польшу забыл… Забыл, что я и морскому и военному делу учен, что могу еще родине сгодиться…» Может, паненка какая, Касю, – теперь Вуек смотрел Касперу прямо в лицо, – и шарахнется от тебя, но Польша от тебя не шарахнется… И не бойся, мальчик мой рыженький, разгладятся шрамы твои, дай только срок… Вот побудешь здесь – надо же казаков за добро их отблагодарить, – но оставаться здесь навсегда ты и не подумай!
А бабка София сидела, покачивая головой, точно приговаривая: «Верно, правильно ты говоришь!», как будто это не она несколько дней назад утешала Каспера, что полюбит его какая-нибудь казачка…
– Дело ты говоришь, старый, – сказала она, вытирая слезы. – Не о плате речь, не платы ради положили головы наши казаки, а вызволили-таки этих несчастных из неволи… Побудет Рудый у нас, научит морскому делу казаков наших – бог ему за это воздаст… И утешать его нечего: храбрый человек все в себе перенесет. Может, и поплачет он какой день, но все выдюжит… Это только попервоначалу надо было хлопца поддержать, знаешь, как дитяти малому руку подать, а потом оно само по земле потопает… И в Польшу свою надо ему возвращаться, стыд и срам родину свою забывать!
Не «какой день», а много дней подряд плакал Каспер о своей горькой судьбе, но пришло новое горе – и Каспер просто задохнулся от слез, провожая пана Конопку в последний путь, а потом – на его свежей могилке.
И, занимаясь всякими науками с молодыми беглыми бурсаками и монахами, Каспер иной раз прикрывал глаза рукой, а ученики его, понимающе переглянувшись, складывали свои пожитки, вешали чернильницы к поясу и оставляли своего «пана профессора» в покое. Вот грубый какой с виду народ, а все понимают!
Потом, как сказала старая София, мало-помалу перекипела у Каспера боль в сердце, и начал он выходить на улицу, на гулянки, только ни к одной девушке он не подошел, ни на одну не поглядел.
Раздобыли ему ученики мандолину (небось с какого-нибудь итальянского корабля), и Каспар вечерами отводил душу, играя краковяки да обереки или старые, хватающие за душу песни.
И под звуки этих обереков Польша Великая и Малая, и Поморье, и Шлёнзк вставали перед его глазами, и Каспер от души радовался успехам своих разумных хлопцев, потому что каждый день, каждый час приближал его возвращение на родину.
– А что, Рудый, может, снарядим корабль, – сказал как-то Шкурко, – да поплывешь ты с моими казаками в Польшу свою морем, а? По дороге хлопцы еще того-сего раздобудут…
Увидев, однако, сразу же омрачившееся лицо Каспера, атаман добавил:
 – Э, нет, долго это и далеко. Лучше Украиной домой доберешься. Вон Юрко (а Юрко был самым смышленым учеником Каспера), вон, говорю, Юрко, спасибо тебе, на том турецком галеасе уже ладно с парусами справляется и инструментов этих всяких дай боже сколько к себе натаскал!
– Э, нет, долго это и далеко. Лучше Украиной домой доберешься. Вон Юрко (а Юрко был самым смышленым учеником Каспера), вон, говорю, Юрко, спасибо тебе, на том турецком галеасе уже ладно с парусами справляется и инструментов этих всяких дай боже сколько к себе натаскал!
Галеас казаки недавно отбили в бою у турок, однако надежды на трехмачтовую каравеллу атаман Шкурко все еще не оставлял.
Хотел от души храбрый атаман, чтобы Каспер, мирно обучая разумных хлопцев морской науке, забыл про свое горе, про постылое рабство. Была также у Шкурко надежда, что затянутся шрамы Каспера и тогда он, бог даст, в полном порядке отправится на родину. Однако не такое это было время, чтобы предаваться мирным надеждам.
Как-то ночью казаки были разбужены воющим, как смертельно раненное животное, сигнальным рожком. Напали татары!
Недолго пришлось Касперу ходить в «профессорах», стал он в ряды своих новых товарищей, сражался бок о бок с ними, пока, наконец, не умолила бабка София отпустить хлопчика до дому.
И вот настал этот (счастливый или несчастный – Каспер так и не мог этого решить) день!
Попрощались с ним атаман Шкурко и бабка София, попрощались с ним его бывшие ученики (немного после кровопролитных боев осталось их в живых!). Дали поляку в дорогу хлеба, чесноку и сала и показали, как пробираться к польской границе.
Ночуя в лесу, или в поле, или на бурлацком возу, Каспер часто не мог уснуть, представляя себе свое возвращение.
…Куда он денется? Надо бы сразу разыскать в немецкой земле матушку… Вот уж кто его уродства не погнушается! Только что же ей сердце надрывать?
Нет, прежде всего Каспер обязан явиться в Вармию, в замок Лидзбарк, отдать отчет Учителю и его преосвященству… Интересно, как принял король Зыгмунт известие о черной измене своего племянника? О войне между Польшей и Орденом пока что ничего не слышно, а ведь сюда быстро долетают вести обо всем, что творится в мире.
Потом надо будет Сташка и Генриха разыскать…
О Митте Каспер старался не думать… Столько лет уже прошло, она, конечно, замужем… Детки, наверно, у нее…
И нежная она, и добрая, и красивая, а вот как ножом одно ее имя сердце ему режет!
Был еще у Каспера милый друг, закадычный друг, Збышек, но его сейчас, видно, и рукой не достать. Еще тогда, в Кракове, понятно было, что разойдутся их пути. Уж больно прикипел Збигнев к своим отцам доминиканцам, а те у святого престола на виду! Да Збышек и у отца ректора, и у отца декана на виду, и профессор Ланге нахвалиться им не может. Збигнев быстро в гору пойдет… А может, уже пошел? Не захочет, может, со старым однокашником знаться? Может, он уже у профессора Ланге в помощниках?
И опять как ножом по сердцу – Митта!
«Митта, а ты ведь клялась, что до самой смерти будешь меня любить!»
И не мог даже вообразить себе Каспер, что в эту самую пору Збигнев Суходольский в плохонькой хлопской сермяжке, но на отличном вороном коне пробирается лесами и лугами в отдаленное кашубское село, чтобы повидаться с местным ксендзом – и все это для того, чтобы выручить из горького – пожалуй, еще худшего, чем доля галерников, – рабства Митту Ланге.
Проехав улочку в два десятка покосившихся убогих халуп, крытых почерневшей соломой, Збигнев очутился на небольшой площади. Посреди нее возвышался деревянный костел.
– Эй, послушай-ка, где здесь живет ксендз ваш – отец Станислав? – окликнул он первого попавшегося мужика, и по тому, как тот удивленно глянул на него, Збигнев сообразил, как не подходит этот повелительный тон к его нынешнему одеянию. Хорошо, что он не все свое платье отдал бедняге Франеку. Сейчас же нужно будет умыться с дороги и переодеться!
Еще раз удивленно оглянув чужака, мужик сдернул все же с головы рваную шапку и указал на халупу побольше других. Крыша на ней была не соломенная, а тесовая.
– Спасибо тебе, – сказал Збигнев крестьянину и бросил ему мелкую монетку, что уже окончательно сбило хлопа с толку. Он так и застыл на месте с открытым ртом.
Еле сдерживая улыбку, молодой бакалавр постучался в некрашеную дверь.
– Да прославится имя Езуса Христа! – громко провозгласил он.
И изнутри тотчас же отозвался голос:
– Во веки веков, аминь!
Такой густой бас мог принадлежать только одному Сташку Когуту и никому больше!
Дверь распахнулась.
– Езус сладчайший! Пся крев! Холера ясная! Да ведь это Збышек! – раздались возгласы один за другим, и гость тотчас же попал в медвежьи объятия. – Что за одежка на тебе, Збышек? Откуда ты? С луны свалился, что ли?
– Колодец от тебя далеко? – спрашивал тем временем Збигнев. – Надо коня напоить… Да и помыться нужно. Воду есть у тебя на чем греть? Даже котел уже кипит? Э, да ты просто волшебник, Жбан!
Напоив и накормив коня (торба с овсом была приторочена к седлу), сбросив лохмотья Франца, помывшись и переодевшись в запасенную в дорогу новую рясу, Збигнев с охотой уплетал незатейливое деревенское угощение.
– Ну как, будущий кардинал, – спрашивал Сташек, – скоро осчастливишь мир появлением еще одного члена конклава? Или, верно, я и забыл! Я хотел сказать: скоро ли появится новый святой отец доминиканец? – И, не выдержав, снова кидался обнимать гостя.
Как ни говори, хоть и разошлись их пути, но приятно в этой глуши встретиться с однокашником.
– Ну тебя к дьяволу! Дай мне покой, Жбан, не ломай костей! А о кардиналах и вообще о святых отцах не поминай!
– Что ты, что ты?! Опомнись! Это я вправду от Збигнева Суходольского слышу или мне примерещилось?
Долго просидели бывшие студенты за грубым некрашеным столом, неторопливо прихлебывая пиво из больших глиняных кружек.
– От пся крев! – приговаривал Сташек, удивленно покачивая головой. Он все еще не мог опомниться от новостей, которые так неожиданно на него свалились. – А где же этот Франц твой? В женскую обитель вас не пустили, и в этом нет ничего странного. И Митту, конечно, вам не показали… Хорошо еще, что вы оттуда живыми выбрались! Про эту ведьму настоятельницу, мать Целестину, я слыхал… Еще одну лошадь, говоришь, там раздобыли? Где же они?
– В лесу припрятаны, – пояснил Збигнев, – и немного оружия… Но, понимаешь, никак не думал я, что в женском монастыре столько сторожей окажется… Заштатная обитель, а охраняется, как какая-нибудь крепость!
– Есть что охранять, значит, – решил Сташек. – А о Каспере вестей нет? Жаль, ох, как жаль парня!.. Что же ты теперь думаешь делать?
– Вдвоем нам с Францем, понятно, не справиться, – вслух рассуждал Збигнев. – Но от того же Франца я узнал, что много беглых хлопов бродит по лесам… А что, если собрать таких людей десяток-другой? Денег, правда, сейчас у меня нет, но думаю, мой пан Суходольский на радостях, что я покончил с доминиканцами, из-под земли, а достанет для меня деньги…
– Деньги – это не так уж и важно, – в раздумье говорил Сташек. – Оружие, говоришь, у вас есть?.. Кони… Три коня маловато… Но это верно, что ты решил покончить с доминиканцами?
– И с доминиканцами, и с францисканцами, и с бенедиктинцами, и с кардиналами, и – простите уж, ваше преподобие отец Станислав, и с папой я решил покончить… Сейчас еду к отцу с повинной головой, а там посмотрим…
Подойдя к выходу, Сташек осторожно выглянул наружу, потом, прикрыв дверь, в задумчивости остановился у порога.
– Вот какое дело, Жердь, – произнес он нерешительно. – Может, я тебе и помогу вызволить панну Митту… Только… это правда, что ты покончил с монастырем и возвращаешься домой?
– А когда я врал кому? – отозвался Збигнев сердито.
И, видя, как гневно раздулись его ноздри, Сташек укоризненно покачал головой.
– Кротости христианской я что-то не вижу у вас, отец Збигнев! – сказал он, весело щурясь. – Дело, понимаешь, такое, что, если оно выплывет наружу, не я один – много людей может пострадать… Вчера только заходил ко мне Щука…
– Как! Генрих Адлер? А он не в Германии? – удивился Збигнев.
– Он из Германии… Ты и не узнаешь сейчас нашего простачка Щуку. Побродил по свету, набрался ума. Только все это нужно держать в самой строгой тайне! И в Германии простому люду житья не стало от попов, да панов, да королей или как там – маркграфов да графов. Про Мюнцера ты сдыхал что-нибудь?
Про Мюнцера Збигнев слыхал, но мельком. Этот, говорят, еще почище Лютера, о котором толковал Збигневу отец Флориан. Однако и отец Флориан не мог бы ему так хорошо объяснить, кто такой Мюнцер, как это сделал Сташек Когут.
– Видишь ли, – говорил он, прихлебывая пиво, – Щука явился сюда собирать здешних хлопов в отряды… Поляков, немцев… Отряды объединятся в тайный союз, наподобие «Башмака» или «Бедного Конрада» в Германии. Уже на сегодня у Щуки немало людей, а с каждым днем их прибавляется… Кое-где они начали громить монастыри и замки. На орденских землях за Щукой охотятся и дорого оценили его голову… Поначалу Генрих примкнул было к Лютеру, да потом разуверился в нем. Лютер только в первое время стоял за бедный люд. А сейчас он у богатых купцов и у дворянства на поводу ходит. Только слава, что он против папы восстал… Мюнцер – тот другой совсем. Он отрицает и католическую церковь и библию, проповедует, что не должно быть на свете ни попов, ни королей, ни панов, – слышите, пан Суходольский? Все должны быть равны перед богом и всем владеть сообща… А люди, повторяю, у Щуки есть и оружие… Так вот, на той неделе он должен быть у меня. Потолкуй с ним… А до той недели успеешь еще к своим съездить.
– По старой дружбе Щука авось не откажет в услуге даже шляхтичу, – добавил Жбан лукаво.
– Если при этом можно будет как следует разграбить монастырь, – в тон ему ответил Збигнев. – А мы с Францем там все ходы и выходы знаем!
Как ни мечтала пани Ангелина о переезде в столицу (ведь и она, и муж ее, и сынок Збигнев родились в самом Кракове), но пришлось им обосноваться в Гданьске. Тоже неплохой город, и народу тут много, и вельможи из Кракова наезжают, и моряки здесь, но это, пожалуй, уже и не так важно: из-за доченьки, из-за Вандзи, мечтала пани Суходольская о Кракове, а дочка уже, можно сказать, и пристроена…
Глаза старой пани налились слезами, и она, упав на колени перед большим распятием и сложив руки, с мольбою протянула их к господу.
Но что это? Почудилось ей, что ли? Нет, мать ошибиться не может, и, с трудом поднявшись с колен, старая дама бросилась в прихожую…
С волнением и даже опаской подходил Збигнев к родному дому.
«Эге, дела, видно, не так плохи, – подумал бакалавр. – Дом свежевыкрашен, над вторым этажом возведена галерея, на итальянский манер».
На стук открыл старый Юзеф. Долго вглядывался он в лицо долговязого и как будто нескладного ксендза или монаха и вдруг всплеснул руками:
– Пан Езус, матка бозка! Это же наш малютка Збышек! – и кинулся приложиться, по старой памяти, к руке своего паныча.
Збигнев растроганно притянул к себе Юзефа и крепко его расцеловал.
– Ну, как мать, сестра, отец?
– Хвала пресвятой деве, все живы и здоровы… Милостью божьей все хорошо, все в порядке.
А по лестнице уже спускалась невысокая полная женщина с карими, как у Збигнева, глазами.
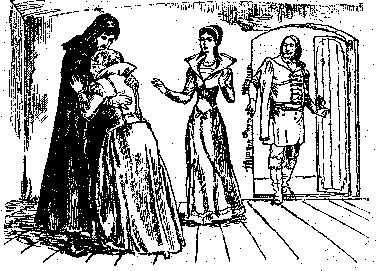 – Сыночек! Збышек! – И мать, плача и смеясь, повисла у него на шее.
– Сыночек! Збышек! – И мать, плача и смеясь, повисла у него на шее.
На шум начали сбегаться остальные обитатели дома.
– Збышек! Недаром ты мне снился уже две ночи! – закричала высокая стройная девушка и, подбежав, звонко расцеловала юношу в обе щеки.
Хлопнула дверь. Под тяжелыми шагами заходили половицы в сенях.
– Что за шум? – раздался густой бас хозяина дома. – Что такое?.. Приехал? Кто приехал?.. Збышек… Збигнев?
Расталкивая женщин и слуг, к растерянному, взъерошенному Збигневу подошел высокий, дородный пан Суходольский.
Обняв и поцеловав сына, он спросил с невеселой усмешкой:
– Ну, макушку выбрили?..
[59]А? Надолго к нам?
«Навсегда», – хотел было сказать Збигнев, но вместо этого пробормотал:
– Ничего, зарастет… К черту эту тонзуру… Говорят, надо репейным маслом мазать…
– Эге, пане Збигнев, что я слышу? Или, может, меня слух обманывает?
– Нет, не обманывает, отец!
– Идем! – сказал пан Вацлав, пытливо и недоверчиво всматриваясь в сына. – Отдохнешь с дороги, тогда потолкуем.
В своей старой «детской» Збигнев переоделся, сменив монашескую одежду на светский шляхетский наряд.
– Ну, пани Суходольская, – сказал пан Вацлав, с удовольствием оглядывая сына, – как вам этот шляхтич нравится? Лучше, чем в поповской рясе, а? Ну, давайте же все за стол!
После обеда отец с сыном вышли из дому и неторопливо направились вдоль Длугой улицы.
Збигнев не таясь рассказал отцу обо всем, что произошло с ним и его товарищами после той чреватой последствиями новогодней пирушки. Об отцах доминиканцах, о патере Арнольде, о заточении в монастырь Митты, о своих планах. Последних новостей о Генрихе Адлере он отцу, понятно, не сообщил.
Пан Вацлав слушал сына, не перебивая, только изредка бормотал себе под нос что-то очень похожее на «пся крев» и на «собачьи дети».
Когда Збигнев кончил, пан Вацлав вздохнул и, сняв шляпу, вытер платком лысеющее темя.
– Что вы скажете на все это, пан отец?
– А что мне сказать? Ты наговорил столько, что голова просто кругом пошла… Прежде всего, конечно, жалко, очень жалко Каспера Берната. Если он в отца пошел, в капитана Берната, славный человек из него получился бы… Что же касается преподобного отца Арнольда, ты будешь последней бабой, если не отплатишь ему за все. Ну и шельма! Пся крев! А тебе это наука на всю жизнь. Барона Мандельштамма я немного знаю… За ним всякие дела водятся, но, чтобы он отправил на тот свет профессора Краковской академии, я и от него этого не ожидал… Теперь насчет панны Митты… – Пан Вацлав в нерешительности замялся. – Ну, ты уже взрослый шляхтич, нечего церемониться… Скажи мне, Збигнев, честно: для Каспера ли Берната ты хочешь выручить девушку из монастыря или…
Збигнев, точно защищаясь, поднял над головой руки.
– Не договаривайте, – сказал он умоляюще. – Вот вам святой крест, пан отец, я и сам не знаю… Ведь я думал принять пострижение. А лучше панны Митты девушек на свете нет… Но так или иначе…
– Так или иначе, – договорил за него отец, – панночку из монастыря спасти надо. Я плохо разбираюсь во всяких ваших теориях да догмах. Не понял также я, как и чем может пособить тебе Станислав Когут, но имей в виду, – грозно повернулся пан Суходольский к сыну, – налет на святой монастырь я тебе запрещаю… Может, отец Станислав как-нибудь иначе тебе поможет…
Збигнев украдкой глянул на отца, но, заметив под его седыми усами лукавую, не предназначавшуюся ему усмешку, тотчас опустил глаза.
– Но пан отец не откажет в гостеприимстве панне Митте, если у нее будет в этом нужда?
– Дом Суходольских всегда открыт для каждого, кто нуждается в защите и помощи, и ты не можешь этого не знать! – с виду сердито ответил пан Вацлав.
Возвратившись домой, они застали в гостиной одну пани Ангелину.
– А Вандзя где? – спросил пан Вацлав. – Пан Адольф не приходил еще?
– Они оба наверху. Пан Адольф сейчас спустится.
– Ты ведь не знаешь еще, Збышек: наша Ванда обручена, – обратился Суходольский к сыну.
– Сестра обручена?! Вот это новость! И никто до сих пор мне ничего не сказал… Но кто же он? Счастлива Ванда?
Перехватив предостерегающий взгляд жены, пан Вацлав ничего не ответил.
– Кто же ее нареченный? – с нетерпением повторил Збигнев.
– Сказал? – спросила она Вуйка тихо.
И юноша понял, что речь идет о нем.
– Сказал, бабинька София, – произнес Каспер, поднимая голову. – И правы вы все: я должен заплатить славному атаману свой долг. А заплакал я… – Каспер хотел было объяснить, что не от милого, доброго Вуйка ждал он этих слов, но как это выразишь?
– Поплачь, сынок, поплачь, тебе легче станет, – сказала старуха ласково. – Уж на что железный народ наши казаки, да и то иной, очнувшись да поняв, что у него нет руки или ноги, плачет, как дитя малое…
Ничего не понимая, Каспер пошевелил пальцами рук, потом топнул о землю одной ногой, другой…
– Значит, и повязки твои поснимаем, надоели они тебе бог знает как!
Каспер с ужасом увидел, как Вуек, до этого пластом лежавший на траве, приподнявшись, ухватил бабку Софию за руку. Он попытался что-то сказать, но изо рта его хлынула кровь, и он снова рухнул в траву.
Бабка София занялась Вуйком, а Каспер остался сидеть подле них, раздумывая над тем, что произошло.
– Вот и порешили мы, сынок, что нужно тебе оставаться здесь, с нами, – сказала жена атамана, подсаживаясь наконец к нему. – Здесь и невесту хорошую тебе подыщем… Наши девушки ко всему привычные, силу и храбрость в казаке ценят, и чем больше шрамов на теле да на лице он носит, тем больше ему любовь и почет! Положи-ка голову мне на колени, я размотаю твои тряпицы.
Так в это утро Каспер узнал о своей беде: крест-накрест рассек ему лицо саблей проклятый Керим-эффенди. Каспер часто ощущал боль и жжение на местах затянувшихся уже ран, но он никогда и не подозревал, что так изуродован.
Когда бабка София поднесла ему большой турецкий медный поднос, юноша, увидев в нем свое отражение, только из гордости и еще из-за какого-то непонятного ему чувства не закричал от ужаса.
Раны зарубцевались отлично, подорожник оказал свое целебное действие, но сейчас никто в этом покореженном и на человека не похожем человеке не признал бы Каспера Берната. Даже его тонкие прямые брови и синие глаза с длинными ресницами на этом лице выглядели чужими и ненужными.
Бывшего студента Каспера Берната атаман Шкурко не принял в свой отряд.
– Другая у меня думка, – сказал он. – Ты, я слышал, хорошо знаешь морское дело… С чайками хлопцы мои ладно справляются, а вот с кораблями нам дело иметь не приходилось: захватим какой – рабов тут же на свободу, с извергов – головы прочь, товар – в Сороки или куда поближе на ярмарку, а корабль ко дну пускаем. Но сейчас вот какая у меня думка: хочу я трехмачтовик захватить, обучить хлопцев морскому делу – и-и-и, пойдет гулять наша бражка по Черному морю, по Адриатике, по Средиземному… Может, даже до Геркулесовых столбов
[58]доберутся! Слыхал, моряк, про такие столбы?
Каспер про Геркулесовы столбы слыхал, но Шкурко-то откуда про них знает?
Однако атаман на его вопрос только подморгнул ему из-под седых бровей веселым карим глазом и промолчал.
– И про Антиллию мы слыхали, – сказал он много времени спустя. – Да что ж, «ухо слышит, да зуб неймет», – переиначил он старую пословицу.
Тогда же было решено, что Каспер начнет обучать молодых казаков морскому делу – умению обращаться с компасом, секстантом, астролябией, по звездам находить дорогу ночами, а также – математике, астрономии, – словом, всему, что знал сам.
– Инструменты эти, про которые ты говоришь, – пообещал атаман, – мы тебе раз-два и добудем… И не думай, что тут только ты один ученый. У нас есть люди, что в семинариях да школах монастырских скамьи протирали, не одни ксендзы ваши в науках сведущи… Только не вытерпело казацкое сердце, бросили они свои школы и семинарии и ушли ко мне в курень! У меня и беглых монахов не меньше десятка наберется, – похвалился старый Шкурко.
И Каспер порешил, что он так и останется здесь на всю жизнь: куда ему, несчастному, больше деваться? Права бабка София – только здесь, быть может, не посмотрят девушки на его уродство… А впрочем, и не до девушек было ему сейчас.
Порешил было так Каспер и остался бы, возможно, на всю жизнь у старого атамана Шкурко, если бы не последний разговор с Вуйком.
Старик лежал, вытянув вдоль тела белые-белые руки.
Да, это про бравого боцмана Каспер думает «старик»! Черные усы и брови сейчас точно прибавляют ему лет.
– Обучать морскому делу думаешь хлопцев? – говорил Вуек тихо и медленно. – Это хорошо. Отработать хочешь свое спасение? Тоже хорошо! Только на всю жизнь оставаться здесь – это ты, Касю, выкинь из головы! Здесь ихняя казачья страна, ихняя родина, а твоя родина там, – Вуек хотел было показать рукою, но она бессильно упала. – А думал ли ты когда-нибудь, Касю, что такое родина?
Юноша сидел молча. Вуек вот уже несколько часов подряд рассуждает сам с собою, вслух. Задает вопросы и сам же на них отвечает.
– Что такое родина? – продолжал пан Конопка. – О-о-о, исходил я эту самую родину, да не на коне, а пешочком, с торбою… Хорошо теперь я ее знаю! Краков – что ж, ничего не скажешь, красавец город, мало есть таких городов на свете. А ведь я его, свет этот, тоже повидал! А в Кракове, возьми один дворец королевский или академию вашу… Что ж, и это родина… И Гданьск, и верфи его, и гавань с кораблями нашими и заморскими – тоже родина. Тоже Польша! И богатые костелы, и замки великолепные, и всё как есть наше богатое Поморье, и Королевская Пруссия, и Польша Малая и Великая, и Шлёнзк за рекой Одрой – все это, Касю, Польша! И я, простой боцман, тоже поляк, и ты, студент Бернат, поляк, и король наш Зыгмунт поляк, а кто из нас важнее, судить не сейчас. Суд над нами потом будет…
Каспер решил, что боцман говорит о том, о страшном суде, но Вуек думал о другом.
– Вот спросят короля Зыгмунта: «А что ты, твое величество, для Польши своей сделал? Хлопов обирал? Свадьбы да балы справлял, а?» Но если сумеет оправдаться Зыгмунт, если скажет он: «И свадьбы справлял и хлопов обирал, но за Польшу свою голову сложил, себя не пожалел», – тогда хорошо…
Мысли Вуйка явно путались, и Каспер умоляюще глянул на бабку Софию: она одна умела уговорить боцмана. Но бабка София сидела, молча покачивая головой, точно подтверждая: «Правду говоришь, истинную правду!»
– «А ты, боцман Конопка, как Польше своей помог?» – спросят меня… И я что ж, я все выложу! – продолжал Вуек. – Как холера была – не побоялся, еще мальчишкой ходил по домам, известью заливал гноища, мертвых вытаскивал, живых от мертвых спасал… Линьком, скажу, стегал своих матросов, да вот из этих моих матросов четверо капитанами наши польские корабли водят, славу нашей Польше добывают. И тебя, Каспер Бернат, спросят, что же ты, сын славного капитана, сделал для Польши. Вот ты и скажешь: «На каторгу, в цепи, пошел, чтобы спасти Польшу, чтобы не рвали ее на части жадные кшижаки»!
(Милый Вуек, а о себе, о том, что он ради Польши тоже за тридевять земель поехал, он забыл, видно…)
– А потом, Каспер Бернат, спросят: «Что же ты еще для Польши сделал?» А ты и молчок… «Личико, – скажешь, – мое белое враг изуродовал, так я из-за личика этого и про Польшу забыл… Забыл, что я и морскому и военному делу учен, что могу еще родине сгодиться…» Может, паненка какая, Касю, – теперь Вуек смотрел Касперу прямо в лицо, – и шарахнется от тебя, но Польша от тебя не шарахнется… И не бойся, мальчик мой рыженький, разгладятся шрамы твои, дай только срок… Вот побудешь здесь – надо же казаков за добро их отблагодарить, – но оставаться здесь навсегда ты и не подумай!
А бабка София сидела, покачивая головой, точно приговаривая: «Верно, правильно ты говоришь!», как будто это не она несколько дней назад утешала Каспера, что полюбит его какая-нибудь казачка…
– Дело ты говоришь, старый, – сказала она, вытирая слезы. – Не о плате речь, не платы ради положили головы наши казаки, а вызволили-таки этих несчастных из неволи… Побудет Рудый у нас, научит морскому делу казаков наших – бог ему за это воздаст… И утешать его нечего: храбрый человек все в себе перенесет. Может, и поплачет он какой день, но все выдюжит… Это только попервоначалу надо было хлопца поддержать, знаешь, как дитяти малому руку подать, а потом оно само по земле потопает… И в Польшу свою надо ему возвращаться, стыд и срам родину свою забывать!
Не «какой день», а много дней подряд плакал Каспер о своей горькой судьбе, но пришло новое горе – и Каспер просто задохнулся от слез, провожая пана Конопку в последний путь, а потом – на его свежей могилке.
И, занимаясь всякими науками с молодыми беглыми бурсаками и монахами, Каспер иной раз прикрывал глаза рукой, а ученики его, понимающе переглянувшись, складывали свои пожитки, вешали чернильницы к поясу и оставляли своего «пана профессора» в покое. Вот грубый какой с виду народ, а все понимают!
Потом, как сказала старая София, мало-помалу перекипела у Каспера боль в сердце, и начал он выходить на улицу, на гулянки, только ни к одной девушке он не подошел, ни на одну не поглядел.
Раздобыли ему ученики мандолину (небось с какого-нибудь итальянского корабля), и Каспар вечерами отводил душу, играя краковяки да обереки или старые, хватающие за душу песни.
И под звуки этих обереков Польша Великая и Малая, и Поморье, и Шлёнзк вставали перед его глазами, и Каспер от души радовался успехам своих разумных хлопцев, потому что каждый день, каждый час приближал его возвращение на родину.
– А что, Рудый, может, снарядим корабль, – сказал как-то Шкурко, – да поплывешь ты с моими казаками в Польшу свою морем, а? По дороге хлопцы еще того-сего раздобудут…
Увидев, однако, сразу же омрачившееся лицо Каспера, атаман добавил:

Галеас казаки недавно отбили в бою у турок, однако надежды на трехмачтовую каравеллу атаман Шкурко все еще не оставлял.
Хотел от души храбрый атаман, чтобы Каспер, мирно обучая разумных хлопцев морской науке, забыл про свое горе, про постылое рабство. Была также у Шкурко надежда, что затянутся шрамы Каспера и тогда он, бог даст, в полном порядке отправится на родину. Однако не такое это было время, чтобы предаваться мирным надеждам.
Как-то ночью казаки были разбужены воющим, как смертельно раненное животное, сигнальным рожком. Напали татары!
Недолго пришлось Касперу ходить в «профессорах», стал он в ряды своих новых товарищей, сражался бок о бок с ними, пока, наконец, не умолила бабка София отпустить хлопчика до дому.
И вот настал этот (счастливый или несчастный – Каспер так и не мог этого решить) день!
Попрощались с ним атаман Шкурко и бабка София, попрощались с ним его бывшие ученики (немного после кровопролитных боев осталось их в живых!). Дали поляку в дорогу хлеба, чесноку и сала и показали, как пробираться к польской границе.
Ночуя в лесу, или в поле, или на бурлацком возу, Каспер часто не мог уснуть, представляя себе свое возвращение.
…Куда он денется? Надо бы сразу разыскать в немецкой земле матушку… Вот уж кто его уродства не погнушается! Только что же ей сердце надрывать?
Нет, прежде всего Каспер обязан явиться в Вармию, в замок Лидзбарк, отдать отчет Учителю и его преосвященству… Интересно, как принял король Зыгмунт известие о черной измене своего племянника? О войне между Польшей и Орденом пока что ничего не слышно, а ведь сюда быстро долетают вести обо всем, что творится в мире.
Потом надо будет Сташка и Генриха разыскать…
О Митте Каспер старался не думать… Столько лет уже прошло, она, конечно, замужем… Детки, наверно, у нее…
И нежная она, и добрая, и красивая, а вот как ножом одно ее имя сердце ему режет!
Был еще у Каспера милый друг, закадычный друг, Збышек, но его сейчас, видно, и рукой не достать. Еще тогда, в Кракове, понятно было, что разойдутся их пути. Уж больно прикипел Збигнев к своим отцам доминиканцам, а те у святого престола на виду! Да Збышек и у отца ректора, и у отца декана на виду, и профессор Ланге нахвалиться им не может. Збигнев быстро в гору пойдет… А может, уже пошел? Не захочет, может, со старым однокашником знаться? Может, он уже у профессора Ланге в помощниках?
И опять как ножом по сердцу – Митта!
«Митта, а ты ведь клялась, что до самой смерти будешь меня любить!»
И не мог даже вообразить себе Каспер, что в эту самую пору Збигнев Суходольский в плохонькой хлопской сермяжке, но на отличном вороном коне пробирается лесами и лугами в отдаленное кашубское село, чтобы повидаться с местным ксендзом – и все это для того, чтобы выручить из горького – пожалуй, еще худшего, чем доля галерников, – рабства Митту Ланге.
Проехав улочку в два десятка покосившихся убогих халуп, крытых почерневшей соломой, Збигнев очутился на небольшой площади. Посреди нее возвышался деревянный костел.
– Эй, послушай-ка, где здесь живет ксендз ваш – отец Станислав? – окликнул он первого попавшегося мужика, и по тому, как тот удивленно глянул на него, Збигнев сообразил, как не подходит этот повелительный тон к его нынешнему одеянию. Хорошо, что он не все свое платье отдал бедняге Франеку. Сейчас же нужно будет умыться с дороги и переодеться!
Еще раз удивленно оглянув чужака, мужик сдернул все же с головы рваную шапку и указал на халупу побольше других. Крыша на ней была не соломенная, а тесовая.
– Спасибо тебе, – сказал Збигнев крестьянину и бросил ему мелкую монетку, что уже окончательно сбило хлопа с толку. Он так и застыл на месте с открытым ртом.
Еле сдерживая улыбку, молодой бакалавр постучался в некрашеную дверь.
– Да прославится имя Езуса Христа! – громко провозгласил он.
И изнутри тотчас же отозвался голос:
– Во веки веков, аминь!
Такой густой бас мог принадлежать только одному Сташку Когуту и никому больше!
Дверь распахнулась.
– Езус сладчайший! Пся крев! Холера ясная! Да ведь это Збышек! – раздались возгласы один за другим, и гость тотчас же попал в медвежьи объятия. – Что за одежка на тебе, Збышек? Откуда ты? С луны свалился, что ли?
– Колодец от тебя далеко? – спрашивал тем временем Збигнев. – Надо коня напоить… Да и помыться нужно. Воду есть у тебя на чем греть? Даже котел уже кипит? Э, да ты просто волшебник, Жбан!
Напоив и накормив коня (торба с овсом была приторочена к седлу), сбросив лохмотья Франца, помывшись и переодевшись в запасенную в дорогу новую рясу, Збигнев с охотой уплетал незатейливое деревенское угощение.
– Ну как, будущий кардинал, – спрашивал Сташек, – скоро осчастливишь мир появлением еще одного члена конклава? Или, верно, я и забыл! Я хотел сказать: скоро ли появится новый святой отец доминиканец? – И, не выдержав, снова кидался обнимать гостя.
Как ни говори, хоть и разошлись их пути, но приятно в этой глуши встретиться с однокашником.
– Ну тебя к дьяволу! Дай мне покой, Жбан, не ломай костей! А о кардиналах и вообще о святых отцах не поминай!
– Что ты, что ты?! Опомнись! Это я вправду от Збигнева Суходольского слышу или мне примерещилось?
Долго просидели бывшие студенты за грубым некрашеным столом, неторопливо прихлебывая пиво из больших глиняных кружек.
– От пся крев! – приговаривал Сташек, удивленно покачивая головой. Он все еще не мог опомниться от новостей, которые так неожиданно на него свалились. – А где же этот Франц твой? В женскую обитель вас не пустили, и в этом нет ничего странного. И Митту, конечно, вам не показали… Хорошо еще, что вы оттуда живыми выбрались! Про эту ведьму настоятельницу, мать Целестину, я слыхал… Еще одну лошадь, говоришь, там раздобыли? Где же они?
– В лесу припрятаны, – пояснил Збигнев, – и немного оружия… Но, понимаешь, никак не думал я, что в женском монастыре столько сторожей окажется… Заштатная обитель, а охраняется, как какая-нибудь крепость!
– Есть что охранять, значит, – решил Сташек. – А о Каспере вестей нет? Жаль, ох, как жаль парня!.. Что же ты теперь думаешь делать?
– Вдвоем нам с Францем, понятно, не справиться, – вслух рассуждал Збигнев. – Но от того же Франца я узнал, что много беглых хлопов бродит по лесам… А что, если собрать таких людей десяток-другой? Денег, правда, сейчас у меня нет, но думаю, мой пан Суходольский на радостях, что я покончил с доминиканцами, из-под земли, а достанет для меня деньги…
– Деньги – это не так уж и важно, – в раздумье говорил Сташек. – Оружие, говоришь, у вас есть?.. Кони… Три коня маловато… Но это верно, что ты решил покончить с доминиканцами?
– И с доминиканцами, и с францисканцами, и с бенедиктинцами, и с кардиналами, и – простите уж, ваше преподобие отец Станислав, и с папой я решил покончить… Сейчас еду к отцу с повинной головой, а там посмотрим…
Подойдя к выходу, Сташек осторожно выглянул наружу, потом, прикрыв дверь, в задумчивости остановился у порога.
– Вот какое дело, Жердь, – произнес он нерешительно. – Может, я тебе и помогу вызволить панну Митту… Только… это правда, что ты покончил с монастырем и возвращаешься домой?
– А когда я врал кому? – отозвался Збигнев сердито.
И, видя, как гневно раздулись его ноздри, Сташек укоризненно покачал головой.
– Кротости христианской я что-то не вижу у вас, отец Збигнев! – сказал он, весело щурясь. – Дело, понимаешь, такое, что, если оно выплывет наружу, не я один – много людей может пострадать… Вчера только заходил ко мне Щука…
– Как! Генрих Адлер? А он не в Германии? – удивился Збигнев.
– Он из Германии… Ты и не узнаешь сейчас нашего простачка Щуку. Побродил по свету, набрался ума. Только все это нужно держать в самой строгой тайне! И в Германии простому люду житья не стало от попов, да панов, да королей или как там – маркграфов да графов. Про Мюнцера ты сдыхал что-нибудь?
Про Мюнцера Збигнев слыхал, но мельком. Этот, говорят, еще почище Лютера, о котором толковал Збигневу отец Флориан. Однако и отец Флориан не мог бы ему так хорошо объяснить, кто такой Мюнцер, как это сделал Сташек Когут.
– Видишь ли, – говорил он, прихлебывая пиво, – Щука явился сюда собирать здешних хлопов в отряды… Поляков, немцев… Отряды объединятся в тайный союз, наподобие «Башмака» или «Бедного Конрада» в Германии. Уже на сегодня у Щуки немало людей, а с каждым днем их прибавляется… Кое-где они начали громить монастыри и замки. На орденских землях за Щукой охотятся и дорого оценили его голову… Поначалу Генрих примкнул было к Лютеру, да потом разуверился в нем. Лютер только в первое время стоял за бедный люд. А сейчас он у богатых купцов и у дворянства на поводу ходит. Только слава, что он против папы восстал… Мюнцер – тот другой совсем. Он отрицает и католическую церковь и библию, проповедует, что не должно быть на свете ни попов, ни королей, ни панов, – слышите, пан Суходольский? Все должны быть равны перед богом и всем владеть сообща… А люди, повторяю, у Щуки есть и оружие… Так вот, на той неделе он должен быть у меня. Потолкуй с ним… А до той недели успеешь еще к своим съездить.
– По старой дружбе Щука авось не откажет в услуге даже шляхтичу, – добавил Жбан лукаво.
– Если при этом можно будет как следует разграбить монастырь, – в тон ему ответил Збигнев. – А мы с Францем там все ходы и выходы знаем!
Как ни мечтала пани Ангелина о переезде в столицу (ведь и она, и муж ее, и сынок Збигнев родились в самом Кракове), но пришлось им обосноваться в Гданьске. Тоже неплохой город, и народу тут много, и вельможи из Кракова наезжают, и моряки здесь, но это, пожалуй, уже и не так важно: из-за доченьки, из-за Вандзи, мечтала пани Суходольская о Кракове, а дочка уже, можно сказать, и пристроена…
Глаза старой пани налились слезами, и она, упав на колени перед большим распятием и сложив руки, с мольбою протянула их к господу.
Но что это? Почудилось ей, что ли? Нет, мать ошибиться не может, и, с трудом поднявшись с колен, старая дама бросилась в прихожую…
С волнением и даже опаской подходил Збигнев к родному дому.
«Эге, дела, видно, не так плохи, – подумал бакалавр. – Дом свежевыкрашен, над вторым этажом возведена галерея, на итальянский манер».
На стук открыл старый Юзеф. Долго вглядывался он в лицо долговязого и как будто нескладного ксендза или монаха и вдруг всплеснул руками:
– Пан Езус, матка бозка! Это же наш малютка Збышек! – и кинулся приложиться, по старой памяти, к руке своего паныча.
Збигнев растроганно притянул к себе Юзефа и крепко его расцеловал.
– Ну, как мать, сестра, отец?
– Хвала пресвятой деве, все живы и здоровы… Милостью божьей все хорошо, все в порядке.
А по лестнице уже спускалась невысокая полная женщина с карими, как у Збигнева, глазами.
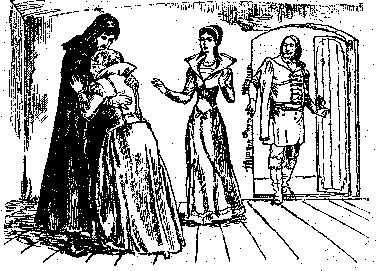
На шум начали сбегаться остальные обитатели дома.
– Збышек! Недаром ты мне снился уже две ночи! – закричала высокая стройная девушка и, подбежав, звонко расцеловала юношу в обе щеки.
Хлопнула дверь. Под тяжелыми шагами заходили половицы в сенях.
– Что за шум? – раздался густой бас хозяина дома. – Что такое?.. Приехал? Кто приехал?.. Збышек… Збигнев?
Расталкивая женщин и слуг, к растерянному, взъерошенному Збигневу подошел высокий, дородный пан Суходольский.
Обняв и поцеловав сына, он спросил с невеселой усмешкой:
– Ну, макушку выбрили?..
[59]А? Надолго к нам?
«Навсегда», – хотел было сказать Збигнев, но вместо этого пробормотал:
– Ничего, зарастет… К черту эту тонзуру… Говорят, надо репейным маслом мазать…
– Эге, пане Збигнев, что я слышу? Или, может, меня слух обманывает?
– Нет, не обманывает, отец!
– Идем! – сказал пан Вацлав, пытливо и недоверчиво всматриваясь в сына. – Отдохнешь с дороги, тогда потолкуем.
В своей старой «детской» Збигнев переоделся, сменив монашескую одежду на светский шляхетский наряд.
– Ну, пани Суходольская, – сказал пан Вацлав, с удовольствием оглядывая сына, – как вам этот шляхтич нравится? Лучше, чем в поповской рясе, а? Ну, давайте же все за стол!
После обеда отец с сыном вышли из дому и неторопливо направились вдоль Длугой улицы.
Збигнев не таясь рассказал отцу обо всем, что произошло с ним и его товарищами после той чреватой последствиями новогодней пирушки. Об отцах доминиканцах, о патере Арнольде, о заточении в монастырь Митты, о своих планах. Последних новостей о Генрихе Адлере он отцу, понятно, не сообщил.
Пан Вацлав слушал сына, не перебивая, только изредка бормотал себе под нос что-то очень похожее на «пся крев» и на «собачьи дети».
Когда Збигнев кончил, пан Вацлав вздохнул и, сняв шляпу, вытер платком лысеющее темя.
– Что вы скажете на все это, пан отец?
– А что мне сказать? Ты наговорил столько, что голова просто кругом пошла… Прежде всего, конечно, жалко, очень жалко Каспера Берната. Если он в отца пошел, в капитана Берната, славный человек из него получился бы… Что же касается преподобного отца Арнольда, ты будешь последней бабой, если не отплатишь ему за все. Ну и шельма! Пся крев! А тебе это наука на всю жизнь. Барона Мандельштамма я немного знаю… За ним всякие дела водятся, но, чтобы он отправил на тот свет профессора Краковской академии, я и от него этого не ожидал… Теперь насчет панны Митты… – Пан Вацлав в нерешительности замялся. – Ну, ты уже взрослый шляхтич, нечего церемониться… Скажи мне, Збигнев, честно: для Каспера ли Берната ты хочешь выручить девушку из монастыря или…
Збигнев, точно защищаясь, поднял над головой руки.
– Не договаривайте, – сказал он умоляюще. – Вот вам святой крест, пан отец, я и сам не знаю… Ведь я думал принять пострижение. А лучше панны Митты девушек на свете нет… Но так или иначе…
– Так или иначе, – договорил за него отец, – панночку из монастыря спасти надо. Я плохо разбираюсь во всяких ваших теориях да догмах. Не понял также я, как и чем может пособить тебе Станислав Когут, но имей в виду, – грозно повернулся пан Суходольский к сыну, – налет на святой монастырь я тебе запрещаю… Может, отец Станислав как-нибудь иначе тебе поможет…
Збигнев украдкой глянул на отца, но, заметив под его седыми усами лукавую, не предназначавшуюся ему усмешку, тотчас опустил глаза.
– Но пан отец не откажет в гостеприимстве панне Митте, если у нее будет в этом нужда?
– Дом Суходольских всегда открыт для каждого, кто нуждается в защите и помощи, и ты не можешь этого не знать! – с виду сердито ответил пан Вацлав.
Возвратившись домой, они застали в гостиной одну пани Ангелину.
– А Вандзя где? – спросил пан Вацлав. – Пан Адольф не приходил еще?
– Они оба наверху. Пан Адольф сейчас спустится.
– Ты ведь не знаешь еще, Збышек: наша Ванда обручена, – обратился Суходольский к сыну.
– Сестра обручена?! Вот это новость! И никто до сих пор мне ничего не сказал… Но кто же он? Счастлива Ванда?
Перехватив предостерегающий взгляд жены, пан Вацлав ничего не ответил.
– Кто же ее нареченный? – с нетерпением повторил Збигнев.
