Страница:
– Там, наверное, и занялись пиротехникой?
– Да нет, раньше. Еще на заводе. Попалась нам на глаза книга. Тут и началось. Однажды чуть дом не сожгли… В честь большого семейного торжества решили мы устроить карусель с четырьмя пароходами. Пароходы должны были идти по кругу и палить из пушек. И вот, когда уже все было готово, оставалось сделать последние штрихи, к нам в комнату зашел наш двоюродный братец. С папиросой в зубах! Увидал порох, ступку, а он охотник был! И давай помогать нам порох толочь. Я увидал папиросу – обмер. Барон успел крикнуть: «Что ты делаешь?» И тут – ба-бах! Мы в окна. Как начали наши четыре парохода палить, ничем и не остановишь… Ну, а в Дюссельдорфе, назло обывателям, уж очень жизнь у них размеренная и правильная, бросали из форточки бутылки с зарядом. Как грохнет, все и выскочат на улицу. Два раза проделка удалась, а на третьей нас выследили и выселили не только из дома, но и с улицы.
– А с виду такие солидные, такие милые господа!
– Вот-вот!
По дороге в собор Васнецов спросил своего спутника:
– Павел Александрович, вам предстоит написать «Вход в Иерусалим», «Суд Пилата», «Тайную вечерю»… Не угнетает, что лица апостолов, исторических деятелей – того же Пилата – придется… выдумать?
– Но ведь так делали и до нас!
– И до нас… А все-таки…
– Вы знаете, я действительно об этом не задумывался.
– А у меня из головы не идет. Особенно когда думаю о лике Богоматери… А пророки!.. А русские святые? Какая она была, княгиня Ольга? Ведь получается, какую я напишу, такая она и будет.
– Такая и будет, – согласился Сведомский.
– А может, мусульмане правы, не позволяя рисовать лики?
– Не правы.
– Почему же?
– Да потому, что мы остались бы без работы.
– Деньги-то нас ожидают не очень большие.
– Знаете, почему я здесь?.. У меня роскошная вилла в Риме. Мои картины в Америке, в Англии и даже у египетского хедива, но я – русский человек, русской землей вскормленный и вспоенный. Я очень хочу оставить по себе память в России. И не просто память. Пишем свои картины мы красками, а только все же и кровью. Каково сердце в нас, таковы и картины наши. Вы простите за высокие слова, по такой уж разговор.
– Нет, нет! То есть как раз – да, да! Я понимаю вас, Павел Александрович. Я и сам здесь по той же самой причине, что и вы. Пора нам послужить простому русскому человеку.
– Церковь пока единственное место, где крестьяне, рабочие и самый-самый затрапезный наш люд может получить искусство из первых рук. Мне это Прахов втолковывал, по кто этого не знает?!
Л про себя подумал: «У меня во Владимирском соборе русский человек будет среди своих русских же святых».
Вслух об этом не сказал. Сведомский хоть и пермяк, а все-таки Сведомский, недаром в католический Рим ею потянуло.
Работа с малым потолком шла быстро. Покончил с травами, покрыл кобальтом круг, а в центре его нарисовал золотой крест. Для богатства оттенков, для игры света прошелся по кобальту ультрамарином. И действительно, эффект получился замечательный: крест сиял так, словно в нем была заключена частица солнца.
Но едва краска просохла, фон вокруг креста порвало, да так сильно – снизу были видны глубокие, до самого белого грунта, трещины.
Васнецов обнаружил это утром. Бросился к Праховым.
– Адриан! Все пропало! Эмалевый фон лопнул, как орех.
– Вот и прекрасно! – спокойно сказал Адриан Викторович. – Садись, садись. И не волнуйся. Случилось то, что должно было случиться. Я долго доказывал инженерам: грунт надо сделать пористый, но специалисты слишком специалисты, чтобы слушать голос разума. Короче говоря, прекращай работы дней на пять. Созовем комитет и поставим его перед фактом.
– По свинцовым белилам нельзя углем рисовать, а как без этого? Есть и еще одно большое неудобство: белый свет слепит, мешает взять верный тон.
– Вот все это мы и выскажем господам инженерам и высокой комиссии.
Через пять дней храм преобразился: стены продрали кирпичом и пемзой, в белила добавили светлую охру.
– Ну, Адриан, – сказал Васнецов, явившись в собор после нежданных каникул, – приступаю к заглавной работе.
Наконец-то приехала в Киев семья: Александра Владимировна и четверо детей, мал-мала. Квартиру сняли неподалеку от Софийского собора. Квартиру просторнейшую: Виктор Михайлович перевез из Москвы «Трех богатырей».
Перед тем как идти в собор, художник любил посидеть возле своей картины. Иногда и за кисти брался, но чаще сидел, смотрел, то замечая всё ужасающее множество несовершенств в картине, то удивляясь великому своему детищу. Удивляясь, как это он напал на столь явственную мысль. Почему эта мысль пришла ему, а не хваткому Репину, например?
Прошел год.
Пора было посылать картины на очередную выставку.
Виктор Михайлович вдруг стал ходить на конюшни. Рисовал тяжеловозов. Принялся прописывать Добрыню Никитича.
– А чем Васнецовы не богатыри? – сказал однажды Александре Владимировне. – Быть Добрыне нашего корня – рыжим.
Пристроил зеркало, писал с себя.
И вдруг однажды завесил «Трех богатырей» холстом.
– Не успеть, – сказал жене. – Столько лет не спешил и теперь не буду.
До Киева дошли слухи, что на очередной, Пятнадцатой выставке Поленов и Суриков выставляют огромные исторические картины. Васнецов чувствовал себя изгоем, душа заметалась в тоске, как белка в клетке. Та бурная, счастливая жизнь, которая совсем еще недавно была его жизнью, его волнениями, теперь шла без него, и шла замечательно.
Васнецов со своих высоких киевских лесов не замечал, что все они – надежда и опора русского искусства – идут плечом к плечу: от жанра к истории, от истории – к религии. Ведь что же может быть выше жизни человеческого духа? Великим мастерам – великие замыслы.
Репин поставил на Пятнадцатой Передвижной две проходные для себя картины «Собирание букета», «Прогулка с проводником на южном берегу Крыма» и портреты: Глинки, Листа, Гаршина, дочери, Беляева, Самойлова, но писал он теперь картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». В 1887 году праздновалось восьмисотлетие перенесения мощей Николая-чудотворца из Мир в Бари.
Суриков написал и выставил «Боярыню Морозову» – драматический эпизод из русской истории, когда борьба между приверженцами старых обрядов с никонианами и царем достигла крайнего обострения.
Поленов, как и Суриков, тоже размахнулся на десятиаршинный холст. Его «Христос и грешница» не только делила успех с шедевром Сурикова, но по воздействию на публику, особенно на студенчество, еще и превосходила этот успех.
Репин обратился к образу святого Николая-угодника, получив заказ женского монастыря «Никольская пустынь». Это был заказ земляков, вернее, землячек, монастырь находился неподалеку от Чугуева. Репинская картина и все ее авторские повторения не были новым достижением художника. Это еще одна картина, и только. В ней есть что-то от академических работ. Душа не воспылала вдохновением. Дело, видимо, в том, что Илья Ефимович переживал естественный спад после своего «Ивана Грозного». Вершина исторической живописи была покорена, и теперь шел выбор очередной вершины.
Сурикову, с его неистовым темпераментом, после тесной избы, где мыкал свои последние дни широкий Меншиков, нужно было выплеснуть всю накопившуюся в нем, стреноженную Березовом страсть. Более подходящего сюжета, чем боярыня Морозова, трудно себе и представить. И тут еще нюанс: обиды старообрядцев – это для сибиряка Сурикова было своим, личным делом. Свои русские люди, своя история, свой гнев, свой смех, своя драма. Народная драма. Высшая драма, потому что она касалась веры и еще – правительства, ибо правительство XVII века ради государственных интересов посягнуло на само крестное знамение, изменив его в угоду ученым-богословам, богословам-чужакам, оказавшимся к тому же нечистоплотными в своем угодничестве перед сильными мира сего. Картина Сурикова о вере, но не религиозная.
Она не судит ни верующих фанатиков, ни смеющихся над ними. Она об одном из самых больных изломов жизни русского парода, она о силе духа русских людей. Вот эта необычайная концентрация русского и делает картину шедевром мировой живописи. Но в том, 1887 году это была всего лишь еще одна картина Сурикова, очень большая картина и очень хорошая. Чистяков, посмотрев Пятнадцатую Передвижную выставку, признал: «Самая выдающаяся картина – это картина В. И. Сурикова „Боярыня Морозова“… В картине этой столько жизни, столько правды и сути – этой бесшабашной, бесконтрольной людской глупости, просто увлекаешься и прощаешь всякую технику».
Картина Поленова «Христос и грешница» – тоже о герое и народе. Но это взгляд и на героя и на народ – глазами интеллигента.
Современников, однако, более всего поразил свет, лившийся с огромного полотна.
«Луч живой любящей правды сверкнет сейчас в этот мрак изуверства… И уже готовы слова, которые будут говорить векам: „Кто из вас без греха – пусть бросит первый камень“. Христос был странствующий проповедник. Ему нужна была физическая сила, чтобы носить бремя великого деятельного духа. Он, как и мы, загорал на солнце, уставал от трудного пути, ел и пил. Художник и изобразил нам человека с чрезвычайной правдивостью. Это реально, но не надо забывать, что реализм есть лишь выработанное нашим временем условие художественности, а не сама художественность…» Так писал о картине Поленова Короленко.
«В картине нет ни одной, что называется, драпировки, все это – настоящее платье, одежда; и художник, пристально изучивший Восток, сумел так одеть своих героев, что они действительно носят одежду, живут в ней, а не надели для подмостков или позирования перед живописцем». Это слова из критической статьи Гаршина.
«„Грешница“ была светлым, жизнерадостным, горячо-солнечным произведением в холодной снежной Москве, к тому же она была дерзким вызовом для религиозных ханжей», – писал о своем восприятии картины художник Татевосян.
Но то, что заметили студенты и молодые литераторы, заметили и опытные цензоры. Едва картина заняла свое место в одном из залов, как встал вопрос о ее запрещении. Вот рассказ об этом из первых рук. «…В субботу поутру был у нас цензор Никитин, – писал Поленов своей матери, – который, осмотрев выставку, не сказал ни слова, но поехал к Грессеру и сообщил, что есть картина Поленова, которую он пропустить не может. Грессер прислал какого-то полковника – своего чиновника особых поручений для проверки, тот отозвался об картине Поленова положительно, т. е. что он в ней ничего непозволительного не видит. В воскресенье приехал великий князь Влад(имир) Алекс(андрович), долго стоял перед моей картиной, нашел, что она плохо поставлена, но что вещь чудесна и для нас, образованных людей, очень интересна своим историческим характером, но что для толпы это еще недоступно и может возбудить толки… Во вторник поутру приехал Грессер, привез Победоносцева и повел прямо к моей картине. Этот нашел, что картина серьезная и интересная, по больше ничего не сказал. Но после его отъезда запретили печатать каталог… Приехал государь, государыня, наследник… Наконец пришли к моей картине… Уходя, государь сказал, что для такой картины тут света мало и что было бы очень интересно ее увидать при хорошем освещении. Пошли они в следующую залу. Я остался у себя. Вдруг бежит Влад(имир) Ал (ександрович) и зовет: „Поленов, что Ваша картина – свободна?“ – „Никому не принадлежит, Ваше имп(ераторское) высоч(ество)“. – „Государь ее приобретает…“»
Итак, Поленов, взявшись за вечную тему, преуспел. Картина его, во-первых, была выходом из творческого тупика, в котором он, так это ему казалось, пребывал все послеакадемические годы. Во-вторых, это была картина, созданная на подлинно палестинских наблюдениях. Это был новый взгляд на личность Иисуса Христа, потому-то так и взволновалось студенчество и так насторожилась цензура… После же того, как картина была куплена Александром III и за очень большие деньги, в адрес пошли письма с восклицательными знаками. Подобное письмо пришло, кстати, от Климентовой-Муромцевой: «Поздравляю с громадным успехом Вашей картины! Это просто гениальная вещь… Счастливец, какой в Вас талант!.. Желаю Вам продолжать идти по пути гения и славы».
Художник не понимал, отчего это картина его с восторгом принята как двором, так и передовым студенчеством. Ведь он не ловчил, не подстраивался под чьи-либо вкусы.
Не понимал и Васнецов, что, расписывая киевский храм в русском духе, он работает па официальную доктрину Александра III, который революции противопоставил православие.
Между тем работа обрушивалась па Васнецова, как горный сель. Она несла его в своей чудовищной круговерти и ничуть не убывала. Больше всего придавливали не объемы труда, но творческое одиночество. Абрамцево вошло в плоть и кровь, здесь ведь в талантливых соседях недостатка не было. Дом Праховых тоже был и шумен и весел. И мудрствовали тут и серьезнее, и ученее, но больше все-таки говорили о делах, нежели в доме делового человека Мамонтова. Тут реже рождались художественные идеи. Тут среди таких же близких людей, как и в Абрамцеве, можно было шутить и устраивать веселые проказы, но не тянуло исповедаться в своем искусстве. Не было здесь Елизаветы Григорьевны.
Впрочем, чуткая душа вырастала и на этой почве – Лёля Прахова, но в те годы она была еще совсем девочка.
Успех поленовской «Грешницы» окрылил Васнецова. Явилась надежда залучить Василия Дмитриевича па леса Владимирского собора, тем более что поленовская семья пережила летом 86-го года страшное потрясение: умер их мальчик Федя. Перемена места, перемена работы – не лучшее ли лекарство от безысходной тоски и боли?
31 декабря 1887 года Виктор Михайлович решился-таки написать Поленову письмо-приглашение.
«Помимо того, что я желал с тобою видеться как с человеком, наиболее мне близким и родным по духу, несмотря на различие характеров, я жаждал иметь в тебе серьезного критика, и затем я мечтал, что, увидевши собор наш, решишься взять на себя работу и будешь моим товарищем. Когда я услышал, что ты проехал обратно, минуя Киев, мне было до крайности горько.
Мне очень важно, чтобы мою работу видел хоть один из серьезных художников, а тем более ты, как знаток именно этого моего дела, которое едва ли кто-либо понимает ясно. Затем я услышал, что ты продолжаешь болеть и едва ли возьмешься за дело собора; эти слухи меня прямо обескуражили…
Уговаривать тебя я не смею и считаю нецелесообразным и рискованным, так как брать на себя такое серьезное дело, хотя и увлекательное, должно совершенно самостоятельно. Я только буду всей душой радоваться, если ты решишься взять на себя это трудное и святое дело…»
Василий Дмитриевич ответил сразу, его письмо датировано 8 января 1888 года.
«Милый друг, Виктор Михайлович, не заехал я к тебе из Крыма потому, что очень нехорошо себя чувствовал и торопился домой. Мне бы ужасно хотелось и повидаться с тобой и посмотреть на твои работы, и думал я собраться весною к тебе, да все не могу справиться с болестями…
Что касается работы в соборе, то я решительно не в состоянии взять ее на себя. Я совсем не могу настроиться для такого дела. Ты – совершенно другое, ты вдохновился этой темой, проникся ее значением, ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу, мне бы пришлось делать вещи, в которые я не только не верю, да к которым душа не лежит; искреннего отношения с моей стороны тут не могло бы быть, а в деле искусства притворяться не следует, да и ни в каком деле не умею притворяться. Ты мне скажешь, что я же написал картину, где пытался изобразить Христа. Но вот в чем дело: для меня Христос и его проповедь одно, а современное православие и его учение – другое; одно есть любовь и прощение, а другое… далеко от этого…
Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело… Ты не думай, что я упрекаю в притворстве при теперешней работе, ты вдохновился ею и нашел в ней смысл, и я глубоко это уважаю. Все тебе кланяются…»
Итак, никого из прежних друзей в соратники Васнецову заполучить не удалось. Прахов пригласил в собор Вильгельма Александровича Котарбинского. Он был чуть моложе Васнецова и младшего Сведомского. В 87-м году, когда он приехал в Киев, ему исполнилось тридцать шесть лет. Еще позже приехал Врубель, появились совсем молодые Костенко, Замирайло. Для разбивок клеток на стенах приглашались ученики художественной школы, созданной другом Репина Мурашко.
Все написать своею рукою никаких сил не хватило бы. Однако контуры фигур Васнецов наносил сам, считал, что точность рисунка – главное. Помощники делали подмалевки, а заканчивал фигуру Виктор Михайлович опять-таки своею рукой. Впрочем, удачные куски фона, драпировок – оставлял, не подправляя.
Центральную фигуру Божьей матери Васнецов написал без подмалевок и всю сам. Но уже херувимов он отдал Костенко.
Пророков, святителей, евхаристию тоже никому не передоверил. А вот ангелов разрешил писать помощникам: одного написал Куренной, другого – Костенко. Костенко же написал и евангелистов на парусах. Правда, заканчивал их все-таки сам Васнецов.
Костенко был у Васнецова любимым помощником, обещал вырасти в большого художника, но судьба оказалась к нему немилостивой. Как и многие русские живописцы, он отправился учиться совершенству в Париж. Одну его работу взяли на осенний Салон. И тут случилось несчастье: помешательство, заключение в больницу, ранняя смерть.
Другим помощником, которым Васнецов очень дорожил, был Замирайло. Замечательный шрифтист, он выполнил все надписи в соборе. Позже он сделал с Васнецовым еще одну прекрасную работу: Васнецов нарисовал, а Замирайло написал своими шрифтами «Песнь о вещем Олеге», изданную в юбилейном 1899 году, в год столетия Пушкина.
Вся огромная, многослойная усталость перетекала в единую серую тоску. Васнецов еще и подшучивал над собой: «А дрозд – тосковать, дрозд – горевать!»
Писал жалобные письма Третьякову: «Музыку часто слышите? А я редко очень-очень, а мне она страшно необходима: музыкой можно лечиться».
Эмилия Львовна, как могла, восполняла эту недостачу. В дом приглашались музыканты: Пухальский, братья Блюменфельд, бывал совсем еще молодой Лысенко.
Часы пробили половину десятого. Александра Владимировна привычно сняла с вешалки пальто, чтобы быть ближе к мужу в последнюю минуту перед его долгим рабочим днем. Он вышел из комнаты с «Богатырями» и вдруг поднял руки, как заслонился:
– Не надо, Саша! Не хочу!
– Что? – не поняла Александра Владимировна.
– Да ничего я не хочу! Ничего! Повесь, пожалуйста, пальто.
Она исполнила его просьбу, а он все стоял в прихожей, видимо, не зная, на что решиться.
– Ты хочешь отдохнуть?
– Да… Ведь не каторжный я, в самом деле?
– Может быть, в Москву съездить?
– Нет, – покачал он головой. – Просто посижу дома. Ты знаешь, я по сказкам соскучился… Пошли, поглядим «Царевича на Волке».
– Но ведь это опять работа.
– Ну, какая это работа?! Это, Сашенька, – безмятежное счастье. Знаешь, зови детишек, почитаем сказки. Ты почитай, а мы послушаем.
Поставил Васнецов свою состарившуюся и все еще не конченную картину «Иван-царевич», сели всем семейством на большом диване и посмотрели на Александру Владимировну.
– Что же вам почитать? – спросила она.
– Веселое! – ответил за всех Миша.
– Веселое, так веселое. – И прочитала первую сказочку. – «Заприметил солдат, что у хохла в сенях висело под коньком пуда два свиного сала в мешке: прорыл ночью крышу, стал отвязывать мешок да как-то осклизнулся и упал вместе с салом в сени. Хозяин услыхал шум и вышел с огнем: „Чего тебе треба?“ – „Не надо ли тебе сала?“ – спрашивает солдат. – „Ни, у меня своего богацько!“ – „Ну, так потрудись, навали мне мешок па спину“. Хозяин навалил ему мешок на спину, и солдат ушел».
Посмеялись, а Миша сказал:
– Еще.
– «Раз зимою ехали по Волге-реке извозчики. Одна лошадь заартачилась и бросилась с дороги в сторону; извозчик тотчас погнался за нею и только хотел ударить кнутом, как она попала в майну и пошла под лед со всем возом. „Ну, моли бога, что ушла, – закричал мужик, – а то я бы нахлестал тебе бока-то!“»
– Ну, это грустная сказка, – сказал Васнецов.
– Еще! Еще! – потребовал Миша.
– «Трое прохожих пообедали па постоялом дворе и отправились в путь. „А что, ребята, вить мы, кажется, дорого за обед заплатили?“ – „Ну, я хоть и дорого заплатил, – сказал один, – зато недаром!“ – „А что?“ – „А разве вы не приметили? Только хозяин засмотрится, я сейчас схвачу из солоницы горсть соли, да в рот! да в рот!“»

И. Е. Репин. Портрет В. М. Васнецова. Рис. 1882.

В. М. Васнецов. Голова Христа.

Киев. Владимирский собор.

В. М. Васнецов. Богоматерь с младенцем. Эскиз для абсиды.

В. М. Васнецов. Портрет -4 Е. А. Праховой. 1894.

В. М. Васнецов. Ангел Молчания. Рис. углем на стене мастерской. Начало 1900-х.

Фасад Дома-музея. Проект В. М. Васнецова. 1893–1894.

В. М. Васнецов. Витязь на распутье. 1882.
 В. М. Васнецов. Баян. 1910.
В. М. Васнецов. Баян. 1910.
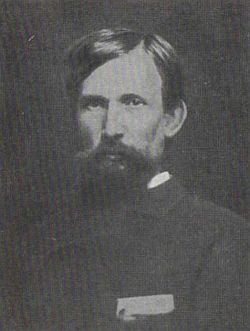
В. М. Васнецов.

Среди друзей. Слева направо: А. Н. Алексин, A. М. Горький, B. М. Васнецов, Л. Д. Средин. 1900.

В. М. Васнецов с братьями Аполлинарием, Александром, Аркадием и детьми.

В. М. Васнецов с женой Александрой Владимировной.

В. М. Васнецов с родными и близкими. 1906.

В. М. Васнецов и В. И. Суриков в саду дома. 1908.

В. М. Васнецов с женой и дочерьми.

В. М. Васнецов. Иван-царевич на Сером Волке. 1889.

В. М. Васнецов с внуком Витей. 1922.

В. М. Васнецов. Портрет М. В. Нестерова. 1925.

М. В. Нестеров. Портрет В. М. Васнецова. 1925.
– А знаешь, матушка! – сказал вдруг Виктор Михайлович. – Дубы на картине очень уж хороши. Всё! Буду писать ее. Собор подождет, да и нет у меня па него больше ни толики силенок.
Отпуск был взят, но не от живописи. Теперь, к великой гордости и радости детей, в дом ежедневно приводили из киевского зверинца настоящего волка.
– Как хорошо натуру-то пописать! – радовался Васнецов. – Экие глаза-то у него, волчьи, белые. Людоед! Чистый людоед!
Передвижная выставка 1889 года подарила зрителей картинами, без которых теперь русское искусство представить себе невозможно. Тряхнул стариною Максимов. Его картина «Все в прошлом» напомнила о былой силе этого художника. Потихоньку да помаленьку пропил он свой талант. Оттого-то, может, и не было прежней дружбы у них с Васнецовым.
Шишкин выставил «Утро в сосновом лесу», знаменитых «не своих» мишек. Репин представил «Николая-чудотворца», Левитан «Пасмурный день на Волге», Степанов «Лосей», Васнецов «Ивана-царевича на Сером Волке».
Критика снова отчитала Виктора Михайловича. Особенно постарался художественный обозреватель журнала «Русская мысль». «Иван-царевича Виктора Михайловича Васнецова не приобрел Павел Михайлович Третьяков, – писал он, то ли не зная, что картина куплена в Третьяковку, то ли умышленно, и далее следовал весьма примечательный критический опус. – У него (у Третьякова. – В. В.) уже достаточно собрано произведений этого художника, столь неудачно увлекшегося новшеством, якобы долженствующим создать особливую русскую живопись, непохожую ни на какую другую. Выходило нечто, в самом деле ни на что непохожее, свидетельствующее о том, что и с талантом можно забраться в такие дебри бессмыслицы, из которых почти нет средств выбраться на свет божий. В новой картине Васнецова сказывается попытка вернуться на общечеловеческую стезю в искусстве, но до осуществления столь благого намерения еще далеко. Васнецов написал лес, воду и цветы несколько похожими на настоящие, а не на его „Васнецовские“.
Но „серый волк“ все еще претендует по-прежнему на сказочность и вышел совершенно таким, каким мы видим „серых волков“ в окнах меховых магазинов. Прыгает „серый“ через воду, а зритель убежден, что это чучело, только сделано в такой позе, что прыгать никак не может и обречено всю жизнь пребывать с вытянутыми вперед ногами и высунутым языком».
Иное мнение у Саввы Мамонтова: «Твой царевич на волке привел меня в восторг. Я всё кругом забыл, я ушел в этот лес, я надышался этого воздуха, нанюхался этих цветов. Все это мое, родное, хорошее! Я просто ожил! Пусть говорят, что в картине много недостатков, неверностей, я не буду спорить, но пусть кто-нибудь другой так просто и непосредственно повлияет на мою душу, как твоя картина. Вот где поэзия! Молодец!..»
– Да нет, раньше. Еще на заводе. Попалась нам на глаза книга. Тут и началось. Однажды чуть дом не сожгли… В честь большого семейного торжества решили мы устроить карусель с четырьмя пароходами. Пароходы должны были идти по кругу и палить из пушек. И вот, когда уже все было готово, оставалось сделать последние штрихи, к нам в комнату зашел наш двоюродный братец. С папиросой в зубах! Увидал порох, ступку, а он охотник был! И давай помогать нам порох толочь. Я увидал папиросу – обмер. Барон успел крикнуть: «Что ты делаешь?» И тут – ба-бах! Мы в окна. Как начали наши четыре парохода палить, ничем и не остановишь… Ну, а в Дюссельдорфе, назло обывателям, уж очень жизнь у них размеренная и правильная, бросали из форточки бутылки с зарядом. Как грохнет, все и выскочат на улицу. Два раза проделка удалась, а на третьей нас выследили и выселили не только из дома, но и с улицы.
– А с виду такие солидные, такие милые господа!
– Вот-вот!
По дороге в собор Васнецов спросил своего спутника:
– Павел Александрович, вам предстоит написать «Вход в Иерусалим», «Суд Пилата», «Тайную вечерю»… Не угнетает, что лица апостолов, исторических деятелей – того же Пилата – придется… выдумать?
– Но ведь так делали и до нас!
– И до нас… А все-таки…
– Вы знаете, я действительно об этом не задумывался.
– А у меня из головы не идет. Особенно когда думаю о лике Богоматери… А пророки!.. А русские святые? Какая она была, княгиня Ольга? Ведь получается, какую я напишу, такая она и будет.
– Такая и будет, – согласился Сведомский.
– А может, мусульмане правы, не позволяя рисовать лики?
– Не правы.
– Почему же?
– Да потому, что мы остались бы без работы.
– Деньги-то нас ожидают не очень большие.
– Знаете, почему я здесь?.. У меня роскошная вилла в Риме. Мои картины в Америке, в Англии и даже у египетского хедива, но я – русский человек, русской землей вскормленный и вспоенный. Я очень хочу оставить по себе память в России. И не просто память. Пишем свои картины мы красками, а только все же и кровью. Каково сердце в нас, таковы и картины наши. Вы простите за высокие слова, по такой уж разговор.
– Нет, нет! То есть как раз – да, да! Я понимаю вас, Павел Александрович. Я и сам здесь по той же самой причине, что и вы. Пора нам послужить простому русскому человеку.
– Церковь пока единственное место, где крестьяне, рабочие и самый-самый затрапезный наш люд может получить искусство из первых рук. Мне это Прахов втолковывал, по кто этого не знает?!
Л про себя подумал: «У меня во Владимирском соборе русский человек будет среди своих русских же святых».
Вслух об этом не сказал. Сведомский хоть и пермяк, а все-таки Сведомский, недаром в католический Рим ею потянуло.
Работа с малым потолком шла быстро. Покончил с травами, покрыл кобальтом круг, а в центре его нарисовал золотой крест. Для богатства оттенков, для игры света прошелся по кобальту ультрамарином. И действительно, эффект получился замечательный: крест сиял так, словно в нем была заключена частица солнца.
Но едва краска просохла, фон вокруг креста порвало, да так сильно – снизу были видны глубокие, до самого белого грунта, трещины.
Васнецов обнаружил это утром. Бросился к Праховым.
– Адриан! Все пропало! Эмалевый фон лопнул, как орех.
– Вот и прекрасно! – спокойно сказал Адриан Викторович. – Садись, садись. И не волнуйся. Случилось то, что должно было случиться. Я долго доказывал инженерам: грунт надо сделать пористый, но специалисты слишком специалисты, чтобы слушать голос разума. Короче говоря, прекращай работы дней на пять. Созовем комитет и поставим его перед фактом.
– По свинцовым белилам нельзя углем рисовать, а как без этого? Есть и еще одно большое неудобство: белый свет слепит, мешает взять верный тон.
– Вот все это мы и выскажем господам инженерам и высокой комиссии.
Через пять дней храм преобразился: стены продрали кирпичом и пемзой, в белила добавили светлую охру.
– Ну, Адриан, – сказал Васнецов, явившись в собор после нежданных каникул, – приступаю к заглавной работе.
Наконец-то приехала в Киев семья: Александра Владимировна и четверо детей, мал-мала. Квартиру сняли неподалеку от Софийского собора. Квартиру просторнейшую: Виктор Михайлович перевез из Москвы «Трех богатырей».
Перед тем как идти в собор, художник любил посидеть возле своей картины. Иногда и за кисти брался, но чаще сидел, смотрел, то замечая всё ужасающее множество несовершенств в картине, то удивляясь великому своему детищу. Удивляясь, как это он напал на столь явственную мысль. Почему эта мысль пришла ему, а не хваткому Репину, например?
Прошел год.
Пора было посылать картины на очередную выставку.
Виктор Михайлович вдруг стал ходить на конюшни. Рисовал тяжеловозов. Принялся прописывать Добрыню Никитича.
– А чем Васнецовы не богатыри? – сказал однажды Александре Владимировне. – Быть Добрыне нашего корня – рыжим.
Пристроил зеркало, писал с себя.
И вдруг однажды завесил «Трех богатырей» холстом.
– Не успеть, – сказал жене. – Столько лет не спешил и теперь не буду.
До Киева дошли слухи, что на очередной, Пятнадцатой выставке Поленов и Суриков выставляют огромные исторические картины. Васнецов чувствовал себя изгоем, душа заметалась в тоске, как белка в клетке. Та бурная, счастливая жизнь, которая совсем еще недавно была его жизнью, его волнениями, теперь шла без него, и шла замечательно.
Васнецов со своих высоких киевских лесов не замечал, что все они – надежда и опора русского искусства – идут плечом к плечу: от жанра к истории, от истории – к религии. Ведь что же может быть выше жизни человеческого духа? Великим мастерам – великие замыслы.
Репин поставил на Пятнадцатой Передвижной две проходные для себя картины «Собирание букета», «Прогулка с проводником на южном берегу Крыма» и портреты: Глинки, Листа, Гаршина, дочери, Беляева, Самойлова, но писал он теперь картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». В 1887 году праздновалось восьмисотлетие перенесения мощей Николая-чудотворца из Мир в Бари.
Суриков написал и выставил «Боярыню Морозову» – драматический эпизод из русской истории, когда борьба между приверженцами старых обрядов с никонианами и царем достигла крайнего обострения.
Поленов, как и Суриков, тоже размахнулся на десятиаршинный холст. Его «Христос и грешница» не только делила успех с шедевром Сурикова, но по воздействию на публику, особенно на студенчество, еще и превосходила этот успех.
Репин обратился к образу святого Николая-угодника, получив заказ женского монастыря «Никольская пустынь». Это был заказ земляков, вернее, землячек, монастырь находился неподалеку от Чугуева. Репинская картина и все ее авторские повторения не были новым достижением художника. Это еще одна картина, и только. В ней есть что-то от академических работ. Душа не воспылала вдохновением. Дело, видимо, в том, что Илья Ефимович переживал естественный спад после своего «Ивана Грозного». Вершина исторической живописи была покорена, и теперь шел выбор очередной вершины.
Сурикову, с его неистовым темпераментом, после тесной избы, где мыкал свои последние дни широкий Меншиков, нужно было выплеснуть всю накопившуюся в нем, стреноженную Березовом страсть. Более подходящего сюжета, чем боярыня Морозова, трудно себе и представить. И тут еще нюанс: обиды старообрядцев – это для сибиряка Сурикова было своим, личным делом. Свои русские люди, своя история, свой гнев, свой смех, своя драма. Народная драма. Высшая драма, потому что она касалась веры и еще – правительства, ибо правительство XVII века ради государственных интересов посягнуло на само крестное знамение, изменив его в угоду ученым-богословам, богословам-чужакам, оказавшимся к тому же нечистоплотными в своем угодничестве перед сильными мира сего. Картина Сурикова о вере, но не религиозная.
Она не судит ни верующих фанатиков, ни смеющихся над ними. Она об одном из самых больных изломов жизни русского парода, она о силе духа русских людей. Вот эта необычайная концентрация русского и делает картину шедевром мировой живописи. Но в том, 1887 году это была всего лишь еще одна картина Сурикова, очень большая картина и очень хорошая. Чистяков, посмотрев Пятнадцатую Передвижную выставку, признал: «Самая выдающаяся картина – это картина В. И. Сурикова „Боярыня Морозова“… В картине этой столько жизни, столько правды и сути – этой бесшабашной, бесконтрольной людской глупости, просто увлекаешься и прощаешь всякую технику».
Картина Поленова «Христос и грешница» – тоже о герое и народе. Но это взгляд и на героя и на народ – глазами интеллигента.
Современников, однако, более всего поразил свет, лившийся с огромного полотна.
«Луч живой любящей правды сверкнет сейчас в этот мрак изуверства… И уже готовы слова, которые будут говорить векам: „Кто из вас без греха – пусть бросит первый камень“. Христос был странствующий проповедник. Ему нужна была физическая сила, чтобы носить бремя великого деятельного духа. Он, как и мы, загорал на солнце, уставал от трудного пути, ел и пил. Художник и изобразил нам человека с чрезвычайной правдивостью. Это реально, но не надо забывать, что реализм есть лишь выработанное нашим временем условие художественности, а не сама художественность…» Так писал о картине Поленова Короленко.
«В картине нет ни одной, что называется, драпировки, все это – настоящее платье, одежда; и художник, пристально изучивший Восток, сумел так одеть своих героев, что они действительно носят одежду, живут в ней, а не надели для подмостков или позирования перед живописцем». Это слова из критической статьи Гаршина.
«„Грешница“ была светлым, жизнерадостным, горячо-солнечным произведением в холодной снежной Москве, к тому же она была дерзким вызовом для религиозных ханжей», – писал о своем восприятии картины художник Татевосян.
Но то, что заметили студенты и молодые литераторы, заметили и опытные цензоры. Едва картина заняла свое место в одном из залов, как встал вопрос о ее запрещении. Вот рассказ об этом из первых рук. «…В субботу поутру был у нас цензор Никитин, – писал Поленов своей матери, – который, осмотрев выставку, не сказал ни слова, но поехал к Грессеру и сообщил, что есть картина Поленова, которую он пропустить не может. Грессер прислал какого-то полковника – своего чиновника особых поручений для проверки, тот отозвался об картине Поленова положительно, т. е. что он в ней ничего непозволительного не видит. В воскресенье приехал великий князь Влад(имир) Алекс(андрович), долго стоял перед моей картиной, нашел, что она плохо поставлена, но что вещь чудесна и для нас, образованных людей, очень интересна своим историческим характером, но что для толпы это еще недоступно и может возбудить толки… Во вторник поутру приехал Грессер, привез Победоносцева и повел прямо к моей картине. Этот нашел, что картина серьезная и интересная, по больше ничего не сказал. Но после его отъезда запретили печатать каталог… Приехал государь, государыня, наследник… Наконец пришли к моей картине… Уходя, государь сказал, что для такой картины тут света мало и что было бы очень интересно ее увидать при хорошем освещении. Пошли они в следующую залу. Я остался у себя. Вдруг бежит Влад(имир) Ал (ександрович) и зовет: „Поленов, что Ваша картина – свободна?“ – „Никому не принадлежит, Ваше имп(ераторское) высоч(ество)“. – „Государь ее приобретает…“»
Итак, Поленов, взявшись за вечную тему, преуспел. Картина его, во-первых, была выходом из творческого тупика, в котором он, так это ему казалось, пребывал все послеакадемические годы. Во-вторых, это была картина, созданная на подлинно палестинских наблюдениях. Это был новый взгляд на личность Иисуса Христа, потому-то так и взволновалось студенчество и так насторожилась цензура… После же того, как картина была куплена Александром III и за очень большие деньги, в адрес пошли письма с восклицательными знаками. Подобное письмо пришло, кстати, от Климентовой-Муромцевой: «Поздравляю с громадным успехом Вашей картины! Это просто гениальная вещь… Счастливец, какой в Вас талант!.. Желаю Вам продолжать идти по пути гения и славы».
Художник не понимал, отчего это картина его с восторгом принята как двором, так и передовым студенчеством. Ведь он не ловчил, не подстраивался под чьи-либо вкусы.
Не понимал и Васнецов, что, расписывая киевский храм в русском духе, он работает па официальную доктрину Александра III, который революции противопоставил православие.
Между тем работа обрушивалась па Васнецова, как горный сель. Она несла его в своей чудовищной круговерти и ничуть не убывала. Больше всего придавливали не объемы труда, но творческое одиночество. Абрамцево вошло в плоть и кровь, здесь ведь в талантливых соседях недостатка не было. Дом Праховых тоже был и шумен и весел. И мудрствовали тут и серьезнее, и ученее, но больше все-таки говорили о делах, нежели в доме делового человека Мамонтова. Тут реже рождались художественные идеи. Тут среди таких же близких людей, как и в Абрамцеве, можно было шутить и устраивать веселые проказы, но не тянуло исповедаться в своем искусстве. Не было здесь Елизаветы Григорьевны.
Впрочем, чуткая душа вырастала и на этой почве – Лёля Прахова, но в те годы она была еще совсем девочка.
Успех поленовской «Грешницы» окрылил Васнецова. Явилась надежда залучить Василия Дмитриевича па леса Владимирского собора, тем более что поленовская семья пережила летом 86-го года страшное потрясение: умер их мальчик Федя. Перемена места, перемена работы – не лучшее ли лекарство от безысходной тоски и боли?
31 декабря 1887 года Виктор Михайлович решился-таки написать Поленову письмо-приглашение.
«Помимо того, что я желал с тобою видеться как с человеком, наиболее мне близким и родным по духу, несмотря на различие характеров, я жаждал иметь в тебе серьезного критика, и затем я мечтал, что, увидевши собор наш, решишься взять на себя работу и будешь моим товарищем. Когда я услышал, что ты проехал обратно, минуя Киев, мне было до крайности горько.
Мне очень важно, чтобы мою работу видел хоть один из серьезных художников, а тем более ты, как знаток именно этого моего дела, которое едва ли кто-либо понимает ясно. Затем я услышал, что ты продолжаешь болеть и едва ли возьмешься за дело собора; эти слухи меня прямо обескуражили…
Уговаривать тебя я не смею и считаю нецелесообразным и рискованным, так как брать на себя такое серьезное дело, хотя и увлекательное, должно совершенно самостоятельно. Я только буду всей душой радоваться, если ты решишься взять на себя это трудное и святое дело…»
Василий Дмитриевич ответил сразу, его письмо датировано 8 января 1888 года.
«Милый друг, Виктор Михайлович, не заехал я к тебе из Крыма потому, что очень нехорошо себя чувствовал и торопился домой. Мне бы ужасно хотелось и повидаться с тобой и посмотреть на твои работы, и думал я собраться весною к тебе, да все не могу справиться с болестями…
Что касается работы в соборе, то я решительно не в состоянии взять ее на себя. Я совсем не могу настроиться для такого дела. Ты – совершенно другое, ты вдохновился этой темой, проникся ее значением, ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу, мне бы пришлось делать вещи, в которые я не только не верю, да к которым душа не лежит; искреннего отношения с моей стороны тут не могло бы быть, а в деле искусства притворяться не следует, да и ни в каком деле не умею притворяться. Ты мне скажешь, что я же написал картину, где пытался изобразить Христа. Но вот в чем дело: для меня Христос и его проповедь одно, а современное православие и его учение – другое; одно есть любовь и прощение, а другое… далеко от этого…
Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело… Ты не думай, что я упрекаю в притворстве при теперешней работе, ты вдохновился ею и нашел в ней смысл, и я глубоко это уважаю. Все тебе кланяются…»
Итак, никого из прежних друзей в соратники Васнецову заполучить не удалось. Прахов пригласил в собор Вильгельма Александровича Котарбинского. Он был чуть моложе Васнецова и младшего Сведомского. В 87-м году, когда он приехал в Киев, ему исполнилось тридцать шесть лет. Еще позже приехал Врубель, появились совсем молодые Костенко, Замирайло. Для разбивок клеток на стенах приглашались ученики художественной школы, созданной другом Репина Мурашко.
Все написать своею рукою никаких сил не хватило бы. Однако контуры фигур Васнецов наносил сам, считал, что точность рисунка – главное. Помощники делали подмалевки, а заканчивал фигуру Виктор Михайлович опять-таки своею рукой. Впрочем, удачные куски фона, драпировок – оставлял, не подправляя.
Центральную фигуру Божьей матери Васнецов написал без подмалевок и всю сам. Но уже херувимов он отдал Костенко.
Пророков, святителей, евхаристию тоже никому не передоверил. А вот ангелов разрешил писать помощникам: одного написал Куренной, другого – Костенко. Костенко же написал и евангелистов на парусах. Правда, заканчивал их все-таки сам Васнецов.
Костенко был у Васнецова любимым помощником, обещал вырасти в большого художника, но судьба оказалась к нему немилостивой. Как и многие русские живописцы, он отправился учиться совершенству в Париж. Одну его работу взяли на осенний Салон. И тут случилось несчастье: помешательство, заключение в больницу, ранняя смерть.
Другим помощником, которым Васнецов очень дорожил, был Замирайло. Замечательный шрифтист, он выполнил все надписи в соборе. Позже он сделал с Васнецовым еще одну прекрасную работу: Васнецов нарисовал, а Замирайло написал своими шрифтами «Песнь о вещем Олеге», изданную в юбилейном 1899 году, в год столетия Пушкина.
Вся огромная, многослойная усталость перетекала в единую серую тоску. Васнецов еще и подшучивал над собой: «А дрозд – тосковать, дрозд – горевать!»
Писал жалобные письма Третьякову: «Музыку часто слышите? А я редко очень-очень, а мне она страшно необходима: музыкой можно лечиться».
Эмилия Львовна, как могла, восполняла эту недостачу. В дом приглашались музыканты: Пухальский, братья Блюменфельд, бывал совсем еще молодой Лысенко.
Часы пробили половину десятого. Александра Владимировна привычно сняла с вешалки пальто, чтобы быть ближе к мужу в последнюю минуту перед его долгим рабочим днем. Он вышел из комнаты с «Богатырями» и вдруг поднял руки, как заслонился:
– Не надо, Саша! Не хочу!
– Что? – не поняла Александра Владимировна.
– Да ничего я не хочу! Ничего! Повесь, пожалуйста, пальто.
Она исполнила его просьбу, а он все стоял в прихожей, видимо, не зная, на что решиться.
– Ты хочешь отдохнуть?
– Да… Ведь не каторжный я, в самом деле?
– Может быть, в Москву съездить?
– Нет, – покачал он головой. – Просто посижу дома. Ты знаешь, я по сказкам соскучился… Пошли, поглядим «Царевича на Волке».
– Но ведь это опять работа.
– Ну, какая это работа?! Это, Сашенька, – безмятежное счастье. Знаешь, зови детишек, почитаем сказки. Ты почитай, а мы послушаем.
Поставил Васнецов свою состарившуюся и все еще не конченную картину «Иван-царевич», сели всем семейством на большом диване и посмотрели на Александру Владимировну.
– Что же вам почитать? – спросила она.
– Веселое! – ответил за всех Миша.
– Веселое, так веселое. – И прочитала первую сказочку. – «Заприметил солдат, что у хохла в сенях висело под коньком пуда два свиного сала в мешке: прорыл ночью крышу, стал отвязывать мешок да как-то осклизнулся и упал вместе с салом в сени. Хозяин услыхал шум и вышел с огнем: „Чего тебе треба?“ – „Не надо ли тебе сала?“ – спрашивает солдат. – „Ни, у меня своего богацько!“ – „Ну, так потрудись, навали мне мешок па спину“. Хозяин навалил ему мешок на спину, и солдат ушел».
Посмеялись, а Миша сказал:
– Еще.
– «Раз зимою ехали по Волге-реке извозчики. Одна лошадь заартачилась и бросилась с дороги в сторону; извозчик тотчас погнался за нею и только хотел ударить кнутом, как она попала в майну и пошла под лед со всем возом. „Ну, моли бога, что ушла, – закричал мужик, – а то я бы нахлестал тебе бока-то!“»
– Ну, это грустная сказка, – сказал Васнецов.
– Еще! Еще! – потребовал Миша.
– «Трое прохожих пообедали па постоялом дворе и отправились в путь. „А что, ребята, вить мы, кажется, дорого за обед заплатили?“ – „Ну, я хоть и дорого заплатил, – сказал один, – зато недаром!“ – „А что?“ – „А разве вы не приметили? Только хозяин засмотрится, я сейчас схвачу из солоницы горсть соли, да в рот! да в рот!“»

И. Е. Репин. Портрет В. М. Васнецова. Рис. 1882.

В. М. Васнецов. Голова Христа.

Киев. Владимирский собор.

В. М. Васнецов. Богоматерь с младенцем. Эскиз для абсиды.

В. М. Васнецов. Портрет -4 Е. А. Праховой. 1894.

В. М. Васнецов. Ангел Молчания. Рис. углем на стене мастерской. Начало 1900-х.

Фасад Дома-музея. Проект В. М. Васнецова. 1893–1894.

В. М. Васнецов. Витязь на распутье. 1882.

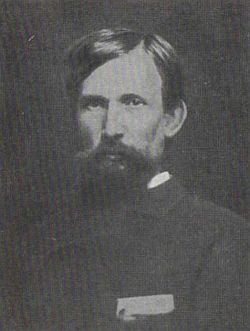
В. М. Васнецов.

Среди друзей. Слева направо: А. Н. Алексин, A. М. Горький, B. М. Васнецов, Л. Д. Средин. 1900.

В. М. Васнецов с братьями Аполлинарием, Александром, Аркадием и детьми.

В. М. Васнецов с женой Александрой Владимировной.

В. М. Васнецов с родными и близкими. 1906.

В. М. Васнецов и В. И. Суриков в саду дома. 1908.

В. М. Васнецов с женой и дочерьми.

В. М. Васнецов. Иван-царевич на Сером Волке. 1889.

В. М. Васнецов с внуком Витей. 1922.

В. М. Васнецов. Портрет М. В. Нестерова. 1925.

М. В. Нестеров. Портрет В. М. Васнецова. 1925.
– А знаешь, матушка! – сказал вдруг Виктор Михайлович. – Дубы на картине очень уж хороши. Всё! Буду писать ее. Собор подождет, да и нет у меня па него больше ни толики силенок.
Отпуск был взят, но не от живописи. Теперь, к великой гордости и радости детей, в дом ежедневно приводили из киевского зверинца настоящего волка.
– Как хорошо натуру-то пописать! – радовался Васнецов. – Экие глаза-то у него, волчьи, белые. Людоед! Чистый людоед!
Передвижная выставка 1889 года подарила зрителей картинами, без которых теперь русское искусство представить себе невозможно. Тряхнул стариною Максимов. Его картина «Все в прошлом» напомнила о былой силе этого художника. Потихоньку да помаленьку пропил он свой талант. Оттого-то, может, и не было прежней дружбы у них с Васнецовым.
Шишкин выставил «Утро в сосновом лесу», знаменитых «не своих» мишек. Репин представил «Николая-чудотворца», Левитан «Пасмурный день на Волге», Степанов «Лосей», Васнецов «Ивана-царевича на Сером Волке».
Критика снова отчитала Виктора Михайловича. Особенно постарался художественный обозреватель журнала «Русская мысль». «Иван-царевича Виктора Михайловича Васнецова не приобрел Павел Михайлович Третьяков, – писал он, то ли не зная, что картина куплена в Третьяковку, то ли умышленно, и далее следовал весьма примечательный критический опус. – У него (у Третьякова. – В. В.) уже достаточно собрано произведений этого художника, столь неудачно увлекшегося новшеством, якобы долженствующим создать особливую русскую живопись, непохожую ни на какую другую. Выходило нечто, в самом деле ни на что непохожее, свидетельствующее о том, что и с талантом можно забраться в такие дебри бессмыслицы, из которых почти нет средств выбраться на свет божий. В новой картине Васнецова сказывается попытка вернуться на общечеловеческую стезю в искусстве, но до осуществления столь благого намерения еще далеко. Васнецов написал лес, воду и цветы несколько похожими на настоящие, а не на его „Васнецовские“.
Но „серый волк“ все еще претендует по-прежнему на сказочность и вышел совершенно таким, каким мы видим „серых волков“ в окнах меховых магазинов. Прыгает „серый“ через воду, а зритель убежден, что это чучело, только сделано в такой позе, что прыгать никак не может и обречено всю жизнь пребывать с вытянутыми вперед ногами и высунутым языком».
Иное мнение у Саввы Мамонтова: «Твой царевич на волке привел меня в восторг. Я всё кругом забыл, я ушел в этот лес, я надышался этого воздуха, нанюхался этих цветов. Все это мое, родное, хорошее! Я просто ожил! Пусть говорят, что в картине много недостатков, неверностей, я не буду спорить, но пусть кто-нибудь другой так просто и непосредственно повлияет на мою душу, как твоя картина. Вот где поэзия! Молодец!..»
