Страница:
Соня Павлихина смотрит на меня пристально — глаза в глаза. Потом она неожиданно притягивает меня к себе. Я сажусь рядом с нею на подоконнике. Она обнимает меня, кладет голову ко мне на плечо. Со внезапной откровенностью отчаяния — вот так иногда человек, долго молчавший, выкладывает свое горе первому встречному — Соня Павлихина рассказывает мне про свою беду.
Вчера, в воскресенье, у пансионерок был день свидания с родными — «день родных». Сколько раз Соня просила, молила свою маму, чтобы та не приезжала к ней на свидание сюда, в институт! И за все эти четыре года мама не была здесь ни pasy.
Они виделись только летом, на каникулах, когда Соня приезжала к маме. Соня знала: если маму увидят они, это добром не кончится, будут неприятности. Но недавно Соня болела корью, мама узнала об этом — ну конечно, не удержалась, приехала…
Ведь у мамы нет никого на свете, кроме Сони, как и у Сони — никого, кроме мамы! Мама такая слабенькая, тихонькая, ее всякий пьяница может обидеть. А мама не умеет — вот не умеет, и все! — прикрикнуть на кого-нибудь, выгнать хулиганов вон из лавки.
Я мало понимаю в путаном Сонином рассказе, где почему-то буянят пьяные хулиганы, которых надо уметь выгнать вон из лавки, а Сонина мама этого не умеет. Но Соня Павлихина так плачет, так судорожно сжимает мои руки, что я понимаю: случилась страшная беда.
— Ну и мама не выдержала! Приехала из Поневежа — она живет в Поневеже, — чтобы своими глазами увидеть меня после кори, чтобы хоть один часок нам с ней вместе побыть. До того мы с ней обрадовались встрече — обнимаемся, плачем, никого вокруг не видим!.. Ну, а они… — говорит вдруг Соня со злобой, — они ви-и-идят, они все видят! Гляжу, а они все на мою маму уставились. И я на нее смотрю, — всхлипывает Сокя. — Платье на маме — я его всю жизнь помню, такое старенькое!
Рукава не модные — не буфф, а в обтяжку, как дудочки!
А шляпка, ох, и шляпка — наверное, мама ее у кого-нибудь из знакомых на этот день заняла, чтобы принарядиться, — не модная, с облезлым крылышком. А туфли! — Соня с отчаянием хватается за голову. — Сидит мама и ноги под стул поджимает…
Такой срам, такой срам, господи!
— Да в чем же срам-то, Соня?
— А бедность наша, бедность, по-твоему, не срам? Столько лет я скрывала! Ну конечно, они не думали, что я богатая.
Но ведь бедность-то эту они вчера в первый раз увидели. А потом еще хуже было. Ушли родные, стала дежурная синявка гостинцы разбирать. Родные-то, как приходят, складывают пакеты с гостинцами на большом столе в углу актового зала с запиской: кому, значит, из девочек какой пакет отдать. А дежурная синявка вчера, знаешь, кто была! Дрыгалка! Злая моська!
Это я понимаю: Дрыгалка была моей классной дамой в первом классе, и я ее на всю жизнь возненавидела.
В институте правило такое: каждый пакет с родительскими гостинцами вскрывает классная дама — нет ли там чего недозволенного, запрещенных книг, или вина (!!!), или еще чего-нибудь. Гостинцы вскрываются при всех девочках: у кого гостинцев много и они хорошие, богатые — те сияют, а у кого мало гостинцев или скромные — те рады бы сквозь землю провалиться.
— Понимаешь, — продолжает Соня, — вскрывает Дрыгалка гостинцы Зойки Ланской. Пакет во — двоим не унести! И все шелковыми ленточками перевязано! И таким сладеньким голоском расписывает Дрыгалка, что в пакете! «Коробка шоколаду — трехфунтовая! Еще коробка — такая же: шоколя миньон! Груши, виноград, банка икры, ветчина, семга…» Ну, просто без конца, без конца! Еще бы! Отец Зойки — полковник жандармский!
Соня говорит это с таким уважением к этому «великому человеку» — жандармскому полковнику, — с такой мечтательной завистью к его счастливой дочери Зойке, что я совсем теряюсь.
Мой папа, когда говорит об этом человеке — а папе иногда приходится хлопотать перед ним за арестованных, — иначе не называет великолепного полковника, как «собака жандармская!».
Но Соня рассказывает дальше:
— И у всех, у всех роскошные сладости, фрукты. У одной даже торт «Стефания»! А у меня… у меня…
Соня так плачет, что я начинаю холодеть от страха. Что там оказалось в ее гостинцах? Что там могло быть?
— А в моем пакете, — Дрыгалка развернула — ну, срам! Никаких, конечно, ленточек, все простыми веревочками перевязано.
И всего-то кулечек монпансье и бутерброды… с копченым салом бутерброды! Подумай, с копченым салом! Дрыгалка поджала губки — вот так! «Что же, Павлихина, ваша мама воображает — вас здесь голодом морят? Что же это она вам такие солдатские гостинцы принесла?» И все хохотать, гоготать: «Солдатские гостинцы, ха, ха, ха!» И ведь Дрыгалке, злой моське, и богатым этим дурам в голову не пришло, что мама это из любви! Чтобы окрепла я после кори… Им, богатейкам, и дела нет, — Соня внезапно вскипает гневом, — что мама, может быть, неделю целую на одном чае с хлебом сидела, чтобы сюда ко мне приехать (билет ведь по железной дороге сколько стоит!) и эти бутерброды мне привезти!.. Ну, а теперь уж все, все пропало… Все! Весь институт узнал!
Соня в таком отчаянии, словно весь институт узнал, что она и ее мама по меньшей мере воровки или убийцы!
— Да что же они узнали-то, Соня?
— Ах, не понимаешь ты! — вырывается у Сони почти с криком. — Говорю же тебе — скрывала я это от них! Бедность нашу скрывала. И что мама моя… служит! Сиделицей в винной лавке служит, пьяным мужикам водку продает! Уж теперь они и до этого докопаются!.. Можешь ты понять, какой это стыд?
Нет, я не понимаю, что это стыд. Папа мой всегда говорит:
«Кто работает — тот молодец!» Сонина мама служит, работает, значит, она тоже молодец!
— Ты глупости говоришь, Соня. Твоя мама хорошая, ты должна ужасно сильно любить ее за это!
Соня прижимается ко мне. Может быть, она даже смутно понимает, что я права. Но за четыре года, проведенных в институтском пансионе, в нее крепко вбили, что богатство — это самое великолепное в жизни, что бедным быть стыдно, а работать — еще стыднее! И не так просто для Сони разобраться во всем этом мусоре и хламе, который ей внушили здесь.
А самое главное — Соня не очень и слушает то, что я говорю. Она говорит откровенно — может быть, в первый раз за все четыре года. Ей хочется, ей надо выговориться, освободиться от всего, что у нее наболело.
— Я тебе все скажу! — говорит она самозабвенно. — У меня и пострашнее этого есть. Вот меня спрашивают: кто твой отец?
Я говорю: мой отец — офицер. А у меня… А он вовсе… Никакой он не офицер. У меня отца вовсе нет, никакого!
— Умер?
— Я всем говорю: умер. Нет у меня никакого отца и не было! Я незаконная. Не-за-кон-но-рож-ден-ная! По-твоему, и незаконной быть не стыдно?
Я отвечаю честно:
— Про это я не знаю… Хочешь, я у моего папы спрошу?
Соня вдруг страшно пугается. Свою тайну, о которой она никогда ни с кем не говорила, она вдруг выложила первой встречной девчонке, почти незнакомой. А та может разболтать и другим — вот она уже собирается рассказать своему отцу!
К моему ужасу, Соня вдруг становится передо мной на колени, целует мои руки, бормочет вне себя:
— Вот на коленях прошу… Умоляю — никому! Ни одному человеку! И папе не надо! Не надо папе!
Я тоже бухаюсь на колени — нельзя же разговаривать, наклоняясь к Соне, как к малому ребенку! — я тоже плачу и бормочу:
— Соня, папе сказать все равно что в шкаф шепнуть! Папа — доктор, ему больные рассказывают все свои секреты. А он этого никогда, никому! Это называется, — рыдаю я, — врачебная тайна!
Соня успокаивается и только просит:
— Ну хорошо — папе можно. Но другим… Поклянись!
— Никому! — обещаю я торжественно.
— Перекрестись! — требует Соня.
Объясняю ей, что не могу: я ведь не христианка.
— А кто же ты?
— Еврейка.
По лицу Сони проходит словно облачко. Видно, в институтском пансионе ей внушили и то, что евреи — самые плохие люди на земле. Она, кажется, готова пожалеть о том, что доверилась такой темной личности, как я…
— Поклянись! — просит она.
— Самое, самое, самое честное слово!
Наверное, со стороны мы с Соней выглядим смешно. Стоят две девочки на коленях — в уборной! — и торжественно клянутся!
— Смотри, ты поклялась: никому! — напоминает Соня. — Если здесь, в институте, узнают, что я незаконная… Я повешусь! Вот здесь, в Пингвине, на этом крюке повешусь!
Конечно, мои слова вряд ли произвели на Соню большое впечатление. Да она, бедная, так убивалась, так плакала все время, что едва ли и дошли до нее мои слова. Но все-таки оттого, что она выговорилась, выплакалась передо мной, ей, наверное, стало немного легче.
Соня встает с колен:
— Надо мне идти. Как бы они там не хватились меня… Спасибо тебе! — И она доверчиво кладет руки мне на плечи. — Я тебе завтра скажу, обошлось у меня или нет…
Мы целуемся, и, когда я чувствую прикосновение Сониной щеки, горячей от слез, меня снова пронизывает жалость к ней.
— Соня, не бойся. Умру, а никому, кроме папы, не скажу!..
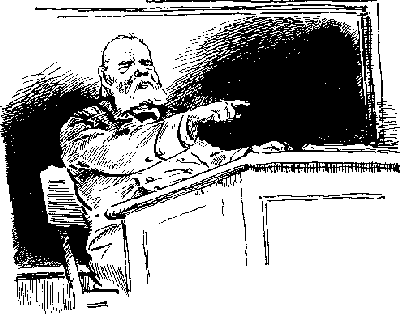 Выйдя из Пингвина, смотрю на часы: без четверти пять. Я и не заметила, как прошло время.
Выйдя из Пингвина, смотрю на часы: без четверти пять. Я и не заметила, как прошло время.
Иду в класс — досиживать свой срок. Не успеваю сесть за парту, как по коридору приближаются какие-то «громокипящие» шаги. Кто это? Неужели Гренадина?
Да, это она. Вбегает в класс, очень взволнованная. Даже не взглянув на меня, бросается к своему столику. Быстро выдвигает ящик, убеждается, что все на месте. Поворачивает ключ в замке, кладет его в карман и только тогда успокаивается. Лицо ее проясняется.
— Ключ забыла, — объясняет она мне. — А вы еще здесь?
— Еще пятнадцать минут осталось…
Гренадина кладет руку на мою голову. Проводит рукой по моим волосам:
— Растрепанная какая… Ладно. Ступайте домой. Мама, наверное, беспокоится.
— Маня Фейгель и Катя Кандаурова обещали забежать к нам домой — предупредить папу и маму.
— И папа, и мама… — задумчиво говорит Гренадина и добавляет доверчиво: — А у меня только папа. И живет далеко, на Урале. Ехать оттуда сюда или мне к нему невозможно — дорого!..
Гренадина говорит это так дружелюбно! Стою перед нею пень пнем. Стою и думаю, какая она бедняга и какая я подлюга!
Заметив слезы у меня на глазах, Гренадина просит — да, именно просит меня:
— Пожалуйста, не подсказывайте на уроках. Вам это шалости, а мне могут неприятности быть: учитель может пожаловаться, пойдут всякие дразги… Нехорошо, правда?
Я понимаю: теперь начнется новая жизнь! Гренадина не станет больше меня «ненавидеть», но и я ни за что не буду больше подсказывать.
Почти бегу по улице и думаю: "Про Гренадину тоже тайна.
И тоже — никому. Как про Соню Павлихину… И откуда на свете столько тайн?"
По дороге замедляю бег около казенной винной лавки.
В просторечии их называют «монопольками». Никакого вина там не продают, только водку. «Монополька» — чистенькая, опрятная. Продавщица, или, как Соня называет, «сиделица», — немолодая женщина с усталым лицом. Я думаю о Сониной маме.
— Папа! — — говорю я вечером, когда он, очень усталый (провел полдня около трудной больной, только сейчас возвратился домой), присаживается около моей кровати для «последнего разговора». — Папа, что такое незаконнорожденные дети?
— Здрасте! Очень приятно… — отвечает папа так, словно он встретился с кем-то очень неприятным. — Здрасте! Давно не видались…
— Нет, ты скажи! Что такое незаконнорожденные дети? Ты это знаешь?
— Я-то знаю. А вот где ты это подхватила?
— Этого я тебе сказать не могу: я дала самое честное слово!
— Гм… Очень глупое выражение, самое честное слово! Если слово не самое честное, значит, оно и не очень уж честное! Честность, братец ты мой, не мороженое, чтобы ее отпускать на копейку, на две или на целый пятак.
Дело плохо! Когда я почему-то оказываюсь «братец ты мой» или еще хуже: «милостивые мои государи!», значит, папа сердится.
Я спешу перевести беседу в другое русло:
— Папа, ты же мне все-таки не сказал, что такое незаконнорожденные дети?
Тут папа совсем сердится.
— Это позор! — говорит он с гневом. — Это стыд и позор!
Батюшки, вот оно! Ведь и Соня говорила, что это стыд!
— Которые незаконнорожденные дети — так им стыд и позор? Да, папа?
— Нет! — рычит папа. — Не им, беднягам, стыд и позор!
Стыд и позор тому обществу, для которых одна мать хорошая, а другая — плохая. Это — подлое, трусливое общество, милостивые мои государи!
— Почему, папа? Объясни.
— Ну вот. Живут на свете мужчина и женщина. И полюбили они друг друга. Бывает так, ты этого, наверное, еще не понимаешь.
— Нет, я понимаю.
— А понимаешь, так тем лучше… То есть — тьфу! — очень жаль, хотел я сказать. Ну вот — обвенчаться эти люди почемулибо не могут. То ли папа с мамой запрещают им пожениться, а они, дурни этакие, слушаются их… То есть что я такое говорю?
Как же не слушаться родителей? Их надо слушаться, даже если они несут чепуху, все равно надо слушаться! Ох, запутался я с тобой совсем! Ну, одним словом, по какой-то причине эти мужчина и женщина не могут обвенчаться законным браком. Тогда они сходятся невенчанные и живут гражданским браком — так это называется. И рождается у них ребенок…
— Он и есть незаконный?
— Вот именно! И тут начинается. Подлое и трусливое общество презирает такую мать. На работу ее не принимают. На улице знакомые с ней не раскланиваются. Ее травят, гонят, преследуют! Ребенку в метрическое свидетельство — а позднее и в паспорт — пишут это подлое слово: незаконнорожденный, как клеймо! Его не принимают в хорошие учебные заведения. Вырос, полюбил девушку, а вот не всякая за него пойдет — ведь незаконнорожденный! Тысячами уколов и ударов преследует это подлое общество несчастную мать и ее незаконного ребенка!
— Папа, почему ты так кричишь?
— Потому что я это ненавижу! — орет папа уже на весь дом. — Пойми ты, ведь я вот именно на это жизнь отдаю: я, врач, первый принимаю на свои руки рождающегося ребенка.
Я даю ему шлепка, чтобы он заорал, дуралей этакий. И, когда я слышу этот первый крик нового человека, ей-богу, я счастлив, я сам себе завидую! Чем черт не шутит — может быть, родился великий человек: Менделеев, Пирогов, Лавуазье, Ньютон, Пушкин, Толстой!.. Да если просто хороший, честный человек родился — мало вам этого, что ли? А они — эти милстисдари мои! — пишут ему в метрике «незаконнорожденный» и не пускают его ни к жизни, ни к счастью. А, будь они неладны, эти мерзавцы!..
Папа внезапно умолкает: мама вошла в комнату и встала перед ним, как статуя Командора.
— Яков! — говорит мама негромко. — Поздно, Яков. Ночь на дворе. Ты не спал вчерашнюю ночь, не обедал сегодня. Вопишь на весь дом, будишь малыша, будоражишь девочку. Посмотри, она плачет!
— Ничего страшного… — бормочет папа. — Пусть поплачет!
Пусть учится ненавидеть подлость! Без этого она не вырастет человеком… — Папа крепко прижимает к себе мою голову. Он целует руку у мамы. И вдруг говорит виноватым голосом: — Вы на меня не сердитесь. У меня сегодня неудача… Роженица была крепкая, здоровая женщина… Я старался как мог… А ребенок родился мертвый!
Глава десятая. ЧТО ОКАЗАЛОСЬ НА ДОНЫШКЕ «БЯЛОЙ КАВЫ»
Вчера, в воскресенье, у пансионерок был день свидания с родными — «день родных». Сколько раз Соня просила, молила свою маму, чтобы та не приезжала к ней на свидание сюда, в институт! И за все эти четыре года мама не была здесь ни pasy.
Они виделись только летом, на каникулах, когда Соня приезжала к маме. Соня знала: если маму увидят они, это добром не кончится, будут неприятности. Но недавно Соня болела корью, мама узнала об этом — ну конечно, не удержалась, приехала…
Ведь у мамы нет никого на свете, кроме Сони, как и у Сони — никого, кроме мамы! Мама такая слабенькая, тихонькая, ее всякий пьяница может обидеть. А мама не умеет — вот не умеет, и все! — прикрикнуть на кого-нибудь, выгнать хулиганов вон из лавки.
Я мало понимаю в путаном Сонином рассказе, где почему-то буянят пьяные хулиганы, которых надо уметь выгнать вон из лавки, а Сонина мама этого не умеет. Но Соня Павлихина так плачет, так судорожно сжимает мои руки, что я понимаю: случилась страшная беда.
— Ну и мама не выдержала! Приехала из Поневежа — она живет в Поневеже, — чтобы своими глазами увидеть меня после кори, чтобы хоть один часок нам с ней вместе побыть. До того мы с ней обрадовались встрече — обнимаемся, плачем, никого вокруг не видим!.. Ну, а они… — говорит вдруг Соня со злобой, — они ви-и-идят, они все видят! Гляжу, а они все на мою маму уставились. И я на нее смотрю, — всхлипывает Сокя. — Платье на маме — я его всю жизнь помню, такое старенькое!
Рукава не модные — не буфф, а в обтяжку, как дудочки!
А шляпка, ох, и шляпка — наверное, мама ее у кого-нибудь из знакомых на этот день заняла, чтобы принарядиться, — не модная, с облезлым крылышком. А туфли! — Соня с отчаянием хватается за голову. — Сидит мама и ноги под стул поджимает…
Такой срам, такой срам, господи!
— Да в чем же срам-то, Соня?
— А бедность наша, бедность, по-твоему, не срам? Столько лет я скрывала! Ну конечно, они не думали, что я богатая.
Но ведь бедность-то эту они вчера в первый раз увидели. А потом еще хуже было. Ушли родные, стала дежурная синявка гостинцы разбирать. Родные-то, как приходят, складывают пакеты с гостинцами на большом столе в углу актового зала с запиской: кому, значит, из девочек какой пакет отдать. А дежурная синявка вчера, знаешь, кто была! Дрыгалка! Злая моська!
Это я понимаю: Дрыгалка была моей классной дамой в первом классе, и я ее на всю жизнь возненавидела.
В институте правило такое: каждый пакет с родительскими гостинцами вскрывает классная дама — нет ли там чего недозволенного, запрещенных книг, или вина (!!!), или еще чего-нибудь. Гостинцы вскрываются при всех девочках: у кого гостинцев много и они хорошие, богатые — те сияют, а у кого мало гостинцев или скромные — те рады бы сквозь землю провалиться.
— Понимаешь, — продолжает Соня, — вскрывает Дрыгалка гостинцы Зойки Ланской. Пакет во — двоим не унести! И все шелковыми ленточками перевязано! И таким сладеньким голоском расписывает Дрыгалка, что в пакете! «Коробка шоколаду — трехфунтовая! Еще коробка — такая же: шоколя миньон! Груши, виноград, банка икры, ветчина, семга…» Ну, просто без конца, без конца! Еще бы! Отец Зойки — полковник жандармский!
Соня говорит это с таким уважением к этому «великому человеку» — жандармскому полковнику, — с такой мечтательной завистью к его счастливой дочери Зойке, что я совсем теряюсь.
Мой папа, когда говорит об этом человеке — а папе иногда приходится хлопотать перед ним за арестованных, — иначе не называет великолепного полковника, как «собака жандармская!».
Но Соня рассказывает дальше:
— И у всех, у всех роскошные сладости, фрукты. У одной даже торт «Стефания»! А у меня… у меня…
Соня так плачет, что я начинаю холодеть от страха. Что там оказалось в ее гостинцах? Что там могло быть?
— А в моем пакете, — Дрыгалка развернула — ну, срам! Никаких, конечно, ленточек, все простыми веревочками перевязано.
И всего-то кулечек монпансье и бутерброды… с копченым салом бутерброды! Подумай, с копченым салом! Дрыгалка поджала губки — вот так! «Что же, Павлихина, ваша мама воображает — вас здесь голодом морят? Что же это она вам такие солдатские гостинцы принесла?» И все хохотать, гоготать: «Солдатские гостинцы, ха, ха, ха!» И ведь Дрыгалке, злой моське, и богатым этим дурам в голову не пришло, что мама это из любви! Чтобы окрепла я после кори… Им, богатейкам, и дела нет, — Соня внезапно вскипает гневом, — что мама, может быть, неделю целую на одном чае с хлебом сидела, чтобы сюда ко мне приехать (билет ведь по железной дороге сколько стоит!) и эти бутерброды мне привезти!.. Ну, а теперь уж все, все пропало… Все! Весь институт узнал!
Соня в таком отчаянии, словно весь институт узнал, что она и ее мама по меньшей мере воровки или убийцы!
— Да что же они узнали-то, Соня?
— Ах, не понимаешь ты! — вырывается у Сони почти с криком. — Говорю же тебе — скрывала я это от них! Бедность нашу скрывала. И что мама моя… служит! Сиделицей в винной лавке служит, пьяным мужикам водку продает! Уж теперь они и до этого докопаются!.. Можешь ты понять, какой это стыд?
Нет, я не понимаю, что это стыд. Папа мой всегда говорит:
«Кто работает — тот молодец!» Сонина мама служит, работает, значит, она тоже молодец!
— Ты глупости говоришь, Соня. Твоя мама хорошая, ты должна ужасно сильно любить ее за это!
Соня прижимается ко мне. Может быть, она даже смутно понимает, что я права. Но за четыре года, проведенных в институтском пансионе, в нее крепко вбили, что богатство — это самое великолепное в жизни, что бедным быть стыдно, а работать — еще стыднее! И не так просто для Сони разобраться во всем этом мусоре и хламе, который ей внушили здесь.
А самое главное — Соня не очень и слушает то, что я говорю. Она говорит откровенно — может быть, в первый раз за все четыре года. Ей хочется, ей надо выговориться, освободиться от всего, что у нее наболело.
— Я тебе все скажу! — говорит она самозабвенно. — У меня и пострашнее этого есть. Вот меня спрашивают: кто твой отец?
Я говорю: мой отец — офицер. А у меня… А он вовсе… Никакой он не офицер. У меня отца вовсе нет, никакого!
— Умер?
— Я всем говорю: умер. Нет у меня никакого отца и не было! Я незаконная. Не-за-кон-но-рож-ден-ная! По-твоему, и незаконной быть не стыдно?
Я отвечаю честно:
— Про это я не знаю… Хочешь, я у моего папы спрошу?
Соня вдруг страшно пугается. Свою тайну, о которой она никогда ни с кем не говорила, она вдруг выложила первой встречной девчонке, почти незнакомой. А та может разболтать и другим — вот она уже собирается рассказать своему отцу!
К моему ужасу, Соня вдруг становится передо мной на колени, целует мои руки, бормочет вне себя:
— Вот на коленях прошу… Умоляю — никому! Ни одному человеку! И папе не надо! Не надо папе!
Я тоже бухаюсь на колени — нельзя же разговаривать, наклоняясь к Соне, как к малому ребенку! — я тоже плачу и бормочу:
— Соня, папе сказать все равно что в шкаф шепнуть! Папа — доктор, ему больные рассказывают все свои секреты. А он этого никогда, никому! Это называется, — рыдаю я, — врачебная тайна!
Соня успокаивается и только просит:
— Ну хорошо — папе можно. Но другим… Поклянись!
— Никому! — обещаю я торжественно.
— Перекрестись! — требует Соня.
Объясняю ей, что не могу: я ведь не христианка.
— А кто же ты?
— Еврейка.
По лицу Сони проходит словно облачко. Видно, в институтском пансионе ей внушили и то, что евреи — самые плохие люди на земле. Она, кажется, готова пожалеть о том, что доверилась такой темной личности, как я…
— Поклянись! — просит она.
— Самое, самое, самое честное слово!
Наверное, со стороны мы с Соней выглядим смешно. Стоят две девочки на коленях — в уборной! — и торжественно клянутся!
— Смотри, ты поклялась: никому! — напоминает Соня. — Если здесь, в институте, узнают, что я незаконная… Я повешусь! Вот здесь, в Пингвине, на этом крюке повешусь!
Конечно, мои слова вряд ли произвели на Соню большое впечатление. Да она, бедная, так убивалась, так плакала все время, что едва ли и дошли до нее мои слова. Но все-таки оттого, что она выговорилась, выплакалась передо мной, ей, наверное, стало немного легче.
Соня встает с колен:
— Надо мне идти. Как бы они там не хватились меня… Спасибо тебе! — И она доверчиво кладет руки мне на плечи. — Я тебе завтра скажу, обошлось у меня или нет…
Мы целуемся, и, когда я чувствую прикосновение Сониной щеки, горячей от слез, меня снова пронизывает жалость к ней.
— Соня, не бойся. Умру, а никому, кроме папы, не скажу!..
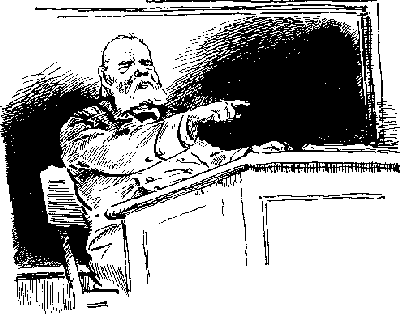
Иду в класс — досиживать свой срок. Не успеваю сесть за парту, как по коридору приближаются какие-то «громокипящие» шаги. Кто это? Неужели Гренадина?
Да, это она. Вбегает в класс, очень взволнованная. Даже не взглянув на меня, бросается к своему столику. Быстро выдвигает ящик, убеждается, что все на месте. Поворачивает ключ в замке, кладет его в карман и только тогда успокаивается. Лицо ее проясняется.
— Ключ забыла, — объясняет она мне. — А вы еще здесь?
— Еще пятнадцать минут осталось…
Гренадина кладет руку на мою голову. Проводит рукой по моим волосам:
— Растрепанная какая… Ладно. Ступайте домой. Мама, наверное, беспокоится.
— Маня Фейгель и Катя Кандаурова обещали забежать к нам домой — предупредить папу и маму.
— И папа, и мама… — задумчиво говорит Гренадина и добавляет доверчиво: — А у меня только папа. И живет далеко, на Урале. Ехать оттуда сюда или мне к нему невозможно — дорого!..
Гренадина говорит это так дружелюбно! Стою перед нею пень пнем. Стою и думаю, какая она бедняга и какая я подлюга!
Заметив слезы у меня на глазах, Гренадина просит — да, именно просит меня:
— Пожалуйста, не подсказывайте на уроках. Вам это шалости, а мне могут неприятности быть: учитель может пожаловаться, пойдут всякие дразги… Нехорошо, правда?
Я понимаю: теперь начнется новая жизнь! Гренадина не станет больше меня «ненавидеть», но и я ни за что не буду больше подсказывать.
Почти бегу по улице и думаю: "Про Гренадину тоже тайна.
И тоже — никому. Как про Соню Павлихину… И откуда на свете столько тайн?"
По дороге замедляю бег около казенной винной лавки.
В просторечии их называют «монопольками». Никакого вина там не продают, только водку. «Монополька» — чистенькая, опрятная. Продавщица, или, как Соня называет, «сиделица», — немолодая женщина с усталым лицом. Я думаю о Сониной маме.
— Папа! — — говорю я вечером, когда он, очень усталый (провел полдня около трудной больной, только сейчас возвратился домой), присаживается около моей кровати для «последнего разговора». — Папа, что такое незаконнорожденные дети?
— Здрасте! Очень приятно… — отвечает папа так, словно он встретился с кем-то очень неприятным. — Здрасте! Давно не видались…
— Нет, ты скажи! Что такое незаконнорожденные дети? Ты это знаешь?
— Я-то знаю. А вот где ты это подхватила?
— Этого я тебе сказать не могу: я дала самое честное слово!
— Гм… Очень глупое выражение, самое честное слово! Если слово не самое честное, значит, оно и не очень уж честное! Честность, братец ты мой, не мороженое, чтобы ее отпускать на копейку, на две или на целый пятак.
Дело плохо! Когда я почему-то оказываюсь «братец ты мой» или еще хуже: «милостивые мои государи!», значит, папа сердится.
Я спешу перевести беседу в другое русло:
— Папа, ты же мне все-таки не сказал, что такое незаконнорожденные дети?
Тут папа совсем сердится.
— Это позор! — говорит он с гневом. — Это стыд и позор!
Батюшки, вот оно! Ведь и Соня говорила, что это стыд!
— Которые незаконнорожденные дети — так им стыд и позор? Да, папа?
— Нет! — рычит папа. — Не им, беднягам, стыд и позор!
Стыд и позор тому обществу, для которых одна мать хорошая, а другая — плохая. Это — подлое, трусливое общество, милостивые мои государи!
— Почему, папа? Объясни.
— Ну вот. Живут на свете мужчина и женщина. И полюбили они друг друга. Бывает так, ты этого, наверное, еще не понимаешь.
— Нет, я понимаю.
— А понимаешь, так тем лучше… То есть — тьфу! — очень жаль, хотел я сказать. Ну вот — обвенчаться эти люди почемулибо не могут. То ли папа с мамой запрещают им пожениться, а они, дурни этакие, слушаются их… То есть что я такое говорю?
Как же не слушаться родителей? Их надо слушаться, даже если они несут чепуху, все равно надо слушаться! Ох, запутался я с тобой совсем! Ну, одним словом, по какой-то причине эти мужчина и женщина не могут обвенчаться законным браком. Тогда они сходятся невенчанные и живут гражданским браком — так это называется. И рождается у них ребенок…
— Он и есть незаконный?
— Вот именно! И тут начинается. Подлое и трусливое общество презирает такую мать. На работу ее не принимают. На улице знакомые с ней не раскланиваются. Ее травят, гонят, преследуют! Ребенку в метрическое свидетельство — а позднее и в паспорт — пишут это подлое слово: незаконнорожденный, как клеймо! Его не принимают в хорошие учебные заведения. Вырос, полюбил девушку, а вот не всякая за него пойдет — ведь незаконнорожденный! Тысячами уколов и ударов преследует это подлое общество несчастную мать и ее незаконного ребенка!
— Папа, почему ты так кричишь?
— Потому что я это ненавижу! — орет папа уже на весь дом. — Пойми ты, ведь я вот именно на это жизнь отдаю: я, врач, первый принимаю на свои руки рождающегося ребенка.
Я даю ему шлепка, чтобы он заорал, дуралей этакий. И, когда я слышу этот первый крик нового человека, ей-богу, я счастлив, я сам себе завидую! Чем черт не шутит — может быть, родился великий человек: Менделеев, Пирогов, Лавуазье, Ньютон, Пушкин, Толстой!.. Да если просто хороший, честный человек родился — мало вам этого, что ли? А они — эти милстисдари мои! — пишут ему в метрике «незаконнорожденный» и не пускают его ни к жизни, ни к счастью. А, будь они неладны, эти мерзавцы!..
Папа внезапно умолкает: мама вошла в комнату и встала перед ним, как статуя Командора.
— Яков! — говорит мама негромко. — Поздно, Яков. Ночь на дворе. Ты не спал вчерашнюю ночь, не обедал сегодня. Вопишь на весь дом, будишь малыша, будоражишь девочку. Посмотри, она плачет!
— Ничего страшного… — бормочет папа. — Пусть поплачет!
Пусть учится ненавидеть подлость! Без этого она не вырастет человеком… — Папа крепко прижимает к себе мою голову. Он целует руку у мамы. И вдруг говорит виноватым голосом: — Вы на меня не сердитесь. У меня сегодня неудача… Роженица была крепкая, здоровая женщина… Я старался как мог… А ребенок родился мертвый!
Глава десятая. ЧТО ОКАЗАЛОСЬ НА ДОНЫШКЕ «БЯЛОЙ КАВЫ»
На следующий день я не вижу Соню ни на первой, ни на второй перемене и, конечно, беспокоюсь…
На большой перемене мы, приходящие, завтракаем, как всегда, всухомятку и гуляем по коридорам — пансионерок ведут парами завтракать наверх, в столовую. Тут я издали замечаю и Соню, но даже не успеваю разглядеть ее.
Хожу по коридорам с подругами. Но я сегодня очень молчалива, и девочки изливают на меня потоки своего остроумия.
— Ксанурка! — Это Люся Сущевская выкроила мне ласкательное из моего пышного имени «Александра». — Ксанурка!
Проснись — под извозчика попадешь!
— Не трогайте ее! — заступается Варя Забелина. — Она не спит — она стихи сочиняет!
— А, знаю, знаю! — кричит Люся. — Она влюблена! Ксанурочка, открой нам: в кого?
Только Маня Фейгель не подтрунивает надо мной. Она встревожена: наверное, понимает она, я переживаю что-то невеселое, а подругам не говорю… Уж это неспроста! И Маня смотрит на меня сочувствующими, добрыми глазами. Ну и конечно, Катенька делает чок-в-чок, как Маня: смотрит на меня многозначительно и вздыхает.
— Знаете что? — вдруг вдохновенно гудит шмелиным голосом Варя. — Я придумала, чем развеселить Шуру: пошлем Степу за шоколадом.
Иногда, когда мы «при деньгах», то есть когда мы можем всей компанией наскрести двадцать три копейки, мы посылаем служителя Степу в кондитерскую на углу, наискосок от нашего института. Степа приносит нам плитку шоколада за двадцать копеек (три копейки — самому Степе за выполненное поручение).
На плитке пять бороздок, так что ее можно разделить на шесть равных долек. И мы наслаждаемся, откусывая шоколад маленькими-маленькими кусочками. Обычно нас пятеро: Маня, Катя, Варя, Лида (а теперь, с ее отъездом — Люся) и я. Меля Норейко в этой затее не участвует.
— У меня свое, у вас свое! — говорит она упрямо. — Я люблю кушять мое собственное, и пусть мне никто не мешяет!
Каждая из нас, остальных пятерых, вносит в «шоколадное предприятие» столько, сколько она в этот день может внести.
У кого сегодня денег нет, за ту платят остальные. В другой раз она заплатит за других. В общем, отлично организованное и не такое уж дорогое счастье. Как-то Катюша Кандаурова, сося свою дольку, сказала мечтательно:
— А неплохо, наверное, быть миллионером!
По правилам нашего «акционерного общества», шестая долька (нас ведь пятеро, а долек в плитке шесть) либо отдается на то, чтобы угостить кого-нибудь, либо делится между всеми нами.
Однако сегодня предложение Вари — послать за шоколадом — никем не поддерживается.
— Нет! — предлагает Люся Сущевская. — Отложим до завтра. Целый месяц вы меня угощали — у меня денег не было.
А сегодня я получу деньги за урок и завтра угощу всех вас.
На том и решаем. Перед самым концом большой перемены пансионерки возвращаются из столовой. Я вижу Соню: она идет одна, опустив голову и упорно глядя в пол. Проходя мимо меня, она, не останавливаясь, негромко говорит — ив голосе ее страх:
— Плохо… После уроков мне велено идти к Вороне…
И проходит.
«Ворона» — Антонина Феликсовна Воронец, помощница нашей начальницы, Александры Яковлевны Колодкиной (она же «Колода»). Колоды мы не боимся. За четыре года ученья мы уже давно поняли, что она — не страшный зверь. Она просто непроходимо глупая старуха, повторяет, как попугай, чужие слова, разбавляя их ежеминутными «да-а-а»… В молодости в нее был влюблен знаменитый писатель И. А. Гончаров. Колода не может этого забыть. Она и сейчас разговаривает таким тоном, словно она молодая красотка. От этого она, конечно, смешновата, но она не злая. Никакой доброты в ней нет, нет и злости — и на том спасибо. Зато Ворона, помощница Колоды, — очень злая птица! У нее всякая вина виновата. Она ничего не прощает и ничего не забывает. Попасть в лапы Вороны очень страшно: она не отпустит, не наказав, не ранив, не ощипав душу до крови…
И вот сегодня Соню Павлихину вызывают к Вороне. За что еще нужно терзать эту несчастную девочку? Все за те же злополучные бутерброды с копченым салом? За мамину шляпку и немодные рукава?
Все эти мысли мучают меня тем сильнее, что ведь я не могу поделиться ими ни с кем: я дала Соне слово!
На следующее утро мчусь в институт очень рано, чтобы поскорее увидеть Соню Павлихину. В мыслях у меня все время вертится одно и то же: «Вчера Ворона оскорбила Соню… Соня, наверное, повесилась». И не хочу я так думать, а оно само думается, даже против моей воли. «Вот приду в институт, а Сони там уже нет… И нигде нет!..»
Мои опасения оказываются напрасными. Первый человек, которого я вижу, взлетев единым духом по кружевной чугунной лестнице, — Соня Павлихина! Она стоит у перил, пристально вглядываясь во всех приходящих, она кого-то ждет. Увидев меня, Соня порывисто хватает мою руку:
— Ох, слава богу! Пришла…
Соня ждала меня. Секунду мы смотрим друг на друга. Соня сегодня еще бледнее, чем вчера. От этой бледности веснушки на ее коротком носике кажутся такими выпуклыми, словно нос осыпан гречневой крупой.
— Пойдем! — И Соня увлекает меня за собой.
В углу большого коридора есть незаметная дверь. Мы с Соней проскальзываем туда. Я иду за Соней, как в сказочном сне, — как Алиса, попавшая в страну чудес позади зеркала.
Мы спускаемся по темной лестнице, ведущей в сырой полуподвал. Маленькое оконце помещается на уровне уличного тротуара; в него все время видны человеческие ноги, идущие в разных направлениях.
Полуподвал весь забит дровами, наколотыми для топки. Среди дров копошится фигура, неясная в полутьме. Фигура перетягивает веревкой большую вязанку дров.
— Антон Потапыч, — просит Соня, — можно нам у вас тут побыть немножко?
— А чего ж! — отвечает знакомый голос нашего истопника, старика Антона. — Побудьтя, барышни, побудьтя… Я не проти.
Дрова-то авось не покрадетя!
И, хмыкнув над собственной остротой, Антон продолжает связывать дрова, ругая вслух каких-то людей, которые ему в чем-то досадили:
— Дрова сырые, как из речки выловлены… А чтоб им, ворам, как помруть, гроб из такого сырого теса сколотили!
Наконец Антон уходит с вязанкой дров по той лестнице, по какой мы сюда спустились.
Теперь мы с Соней одни. Можно разговаривать.
— Шура… — шепчет Соня. — У меня, кажется, все обойдется.
— Да? Благополучно?
— Кажется. Ворона меня вчера полтора часа утюжила. «Неужели ваша мать не понимает? Я сама не видала, но все в ужасе от ее туалета. В у-жа-се!»
Ворона долго, со смаком, перебирала все подробности нищенской одежды Сониной матери. «Они», как их называет Соня, — главным образом, конечно, Дрыгалка! — подметили все: и туфли из порыжелой от старости прюнели, и каблуки, осевшие набок, как колеса старой брички, и грубые чулки, и шляпку с облезлым крылышком. И платье, перекрашенное, перелицованное: пуговицы справа, петли слева.
Ворона долго перебирала все эти мелочи, жестоко раня Соню. «Ваша мать должна бы понимать: женщина не смеет допустить себя до такого неряшества! Посмотрите на меня. Разве я небрежно одета? Не бог весть как, конечно, не бог весть что на мне надето, но прилично. При-лич-но! А ведь жалованье мое всего тридцать рублей в месяц, да из этого ежемесячно вычитывают три рубля в эмеритальную кассу — на старость…»
— Ох, Шура! — вздыхает Соня. — Тридцать рублей в месяц она жалованья получает, подумай, целых тридцать рублей!
Да я таких деньжищ в жизни не видала, не знаю, как это и выглядит. И живет она при институте, значит, казенная квартира!
И кормят ее в институтской столовой… Моя мама и половины этого не получает.
— А еще что тебе Ворона говорила?
— Ну, она меня грела, грела, утюжила, утюжила… Всю мамину одежду переворошила, даже про то сказала, что пальцы у мамы красные! «Что же ваша мама, значит, и перчаток не носит!» Перчатки! — горько говорит Соня. — Мама, бывает, ящики с водочными бутылками сама передвигает. Ну, а потом она, видно, уже насосалась моей крови — стала отваливаться от меня.
«Надеюсь, говорит, вы сами понимаете, что это не должно повторяться. Напишите вашей маме — ну конечно, как-нибудь деликатно, — чтобы она к вам больше не приезжала. Чтобы вас больше не срамила, а главное, чтобы не компрометировала наш институт! Потерпите обе до весны, до каникул, а там уж все лето проведете вместе!..»
Соня замолкает. Пальцы ее сжаты в кулаки. Она вся напряжена, ей трудно сдерживать свою ненависть к мучительнице, к Вороне. Но вдруг лицо Сони яснеет — вот так, как из тучи внезапно брызжет солнце.
— Шура, — говорит она с затаенной радостью, — а больше ничего Ворона не сказала. Понимаешь, ни-че-го!
Я не очень понимаю, чему Соня радуется. Подумаешь, Ворона больше ничего не сказала! Достаточно наговорила она, помоему, даже слишком много подлых, злых слов вылила она на Соню.
— Я-то ведь боялась, — объясняет Соня. — Но она ни слова не сказала про то…
— Чего ты боялась? Про что «про то» Ворона тебе ни слова не сказала?
И тут Соня начинает жарко-жарко шептать мне в самое ухо…
Даже здесь, в этом подвале, где нет никого и ничего, кроме сырых дров, она боится, как бы кто не услыхал. От горячего Сониного дыхания, чудится мне, подтаивают замерзшие дрова, с них каплет вода. С сырых стен тоже каплет, даже за оконцем подвала начался дождик, и ноги прохожих ускорили свой бег по тротуару, где быстро сплываются лужицы.
— Шура, я верю, что ты меня не предашь.
— Предам! — сержусь я. — Обожаю предавать!
— Ну, Шурочка, не обижайся! Я ведь не со зла. Я радуюсь, понимаешь? Радуюсь! Шляпка мамина Вороне не понравилась — пускай! Наши фон-баронессы смеются, что мама мне грошовый гостинец принесла, — пусть их! Но ведь я другого боялась… Ох, как я этого боялась! Если бы наша главная тайна раскрылась, тогда бы нам с мамой конец!
Соня открывает мне последнюю и главную тайну. Метрика ее — метрическое свидетельство, которое выдают при рождении, — фальшивая! Там нет печати о том, что Соня незаконнорожденная. Там написано, что Соня родилась от офицера Василия Ивановича Павлихина и жены его — то есть Сониной мамы, — тоже Павлихиной, Любови Андреевны. А офицера Павлихина никогда и на свете не было! То есть, может быть, гденибудь и существовал такой, бывают же люди с одинаковыми фамилиями, но Сониного отца так не звали. Соня даже не знает, как его звали, мама ей не говорит… Никто не знает, чего стоила Сониной маме эта фальшивая метрика! Ведь за это пришлось дать взятку — и какую взятку! Сонина мама продала все, что имела, — золотой медальон, часы покойного дедушки, даже шубу (с тех пор у Сониной мамы нет шубы, она носит зимой летнее пальтишко, надевая под него теплую кацавейку!).
На большой перемене мы, приходящие, завтракаем, как всегда, всухомятку и гуляем по коридорам — пансионерок ведут парами завтракать наверх, в столовую. Тут я издали замечаю и Соню, но даже не успеваю разглядеть ее.
Хожу по коридорам с подругами. Но я сегодня очень молчалива, и девочки изливают на меня потоки своего остроумия.
— Ксанурка! — Это Люся Сущевская выкроила мне ласкательное из моего пышного имени «Александра». — Ксанурка!
Проснись — под извозчика попадешь!
— Не трогайте ее! — заступается Варя Забелина. — Она не спит — она стихи сочиняет!
— А, знаю, знаю! — кричит Люся. — Она влюблена! Ксанурочка, открой нам: в кого?
Только Маня Фейгель не подтрунивает надо мной. Она встревожена: наверное, понимает она, я переживаю что-то невеселое, а подругам не говорю… Уж это неспроста! И Маня смотрит на меня сочувствующими, добрыми глазами. Ну и конечно, Катенька делает чок-в-чок, как Маня: смотрит на меня многозначительно и вздыхает.
— Знаете что? — вдруг вдохновенно гудит шмелиным голосом Варя. — Я придумала, чем развеселить Шуру: пошлем Степу за шоколадом.
Иногда, когда мы «при деньгах», то есть когда мы можем всей компанией наскрести двадцать три копейки, мы посылаем служителя Степу в кондитерскую на углу, наискосок от нашего института. Степа приносит нам плитку шоколада за двадцать копеек (три копейки — самому Степе за выполненное поручение).
На плитке пять бороздок, так что ее можно разделить на шесть равных долек. И мы наслаждаемся, откусывая шоколад маленькими-маленькими кусочками. Обычно нас пятеро: Маня, Катя, Варя, Лида (а теперь, с ее отъездом — Люся) и я. Меля Норейко в этой затее не участвует.
— У меня свое, у вас свое! — говорит она упрямо. — Я люблю кушять мое собственное, и пусть мне никто не мешяет!
Каждая из нас, остальных пятерых, вносит в «шоколадное предприятие» столько, сколько она в этот день может внести.
У кого сегодня денег нет, за ту платят остальные. В другой раз она заплатит за других. В общем, отлично организованное и не такое уж дорогое счастье. Как-то Катюша Кандаурова, сося свою дольку, сказала мечтательно:
— А неплохо, наверное, быть миллионером!
По правилам нашего «акционерного общества», шестая долька (нас ведь пятеро, а долек в плитке шесть) либо отдается на то, чтобы угостить кого-нибудь, либо делится между всеми нами.
Однако сегодня предложение Вари — послать за шоколадом — никем не поддерживается.
— Нет! — предлагает Люся Сущевская. — Отложим до завтра. Целый месяц вы меня угощали — у меня денег не было.
А сегодня я получу деньги за урок и завтра угощу всех вас.
На том и решаем. Перед самым концом большой перемены пансионерки возвращаются из столовой. Я вижу Соню: она идет одна, опустив голову и упорно глядя в пол. Проходя мимо меня, она, не останавливаясь, негромко говорит — ив голосе ее страх:
— Плохо… После уроков мне велено идти к Вороне…
И проходит.
«Ворона» — Антонина Феликсовна Воронец, помощница нашей начальницы, Александры Яковлевны Колодкиной (она же «Колода»). Колоды мы не боимся. За четыре года ученья мы уже давно поняли, что она — не страшный зверь. Она просто непроходимо глупая старуха, повторяет, как попугай, чужие слова, разбавляя их ежеминутными «да-а-а»… В молодости в нее был влюблен знаменитый писатель И. А. Гончаров. Колода не может этого забыть. Она и сейчас разговаривает таким тоном, словно она молодая красотка. От этого она, конечно, смешновата, но она не злая. Никакой доброты в ней нет, нет и злости — и на том спасибо. Зато Ворона, помощница Колоды, — очень злая птица! У нее всякая вина виновата. Она ничего не прощает и ничего не забывает. Попасть в лапы Вороны очень страшно: она не отпустит, не наказав, не ранив, не ощипав душу до крови…
И вот сегодня Соню Павлихину вызывают к Вороне. За что еще нужно терзать эту несчастную девочку? Все за те же злополучные бутерброды с копченым салом? За мамину шляпку и немодные рукава?
Все эти мысли мучают меня тем сильнее, что ведь я не могу поделиться ими ни с кем: я дала Соне слово!
На следующее утро мчусь в институт очень рано, чтобы поскорее увидеть Соню Павлихину. В мыслях у меня все время вертится одно и то же: «Вчера Ворона оскорбила Соню… Соня, наверное, повесилась». И не хочу я так думать, а оно само думается, даже против моей воли. «Вот приду в институт, а Сони там уже нет… И нигде нет!..»
Мои опасения оказываются напрасными. Первый человек, которого я вижу, взлетев единым духом по кружевной чугунной лестнице, — Соня Павлихина! Она стоит у перил, пристально вглядываясь во всех приходящих, она кого-то ждет. Увидев меня, Соня порывисто хватает мою руку:
— Ох, слава богу! Пришла…
Соня ждала меня. Секунду мы смотрим друг на друга. Соня сегодня еще бледнее, чем вчера. От этой бледности веснушки на ее коротком носике кажутся такими выпуклыми, словно нос осыпан гречневой крупой.
— Пойдем! — И Соня увлекает меня за собой.
В углу большого коридора есть незаметная дверь. Мы с Соней проскальзываем туда. Я иду за Соней, как в сказочном сне, — как Алиса, попавшая в страну чудес позади зеркала.
Мы спускаемся по темной лестнице, ведущей в сырой полуподвал. Маленькое оконце помещается на уровне уличного тротуара; в него все время видны человеческие ноги, идущие в разных направлениях.
Полуподвал весь забит дровами, наколотыми для топки. Среди дров копошится фигура, неясная в полутьме. Фигура перетягивает веревкой большую вязанку дров.
— Антон Потапыч, — просит Соня, — можно нам у вас тут побыть немножко?
— А чего ж! — отвечает знакомый голос нашего истопника, старика Антона. — Побудьтя, барышни, побудьтя… Я не проти.
Дрова-то авось не покрадетя!
И, хмыкнув над собственной остротой, Антон продолжает связывать дрова, ругая вслух каких-то людей, которые ему в чем-то досадили:
— Дрова сырые, как из речки выловлены… А чтоб им, ворам, как помруть, гроб из такого сырого теса сколотили!
Наконец Антон уходит с вязанкой дров по той лестнице, по какой мы сюда спустились.
Теперь мы с Соней одни. Можно разговаривать.
— Шура… — шепчет Соня. — У меня, кажется, все обойдется.
— Да? Благополучно?
— Кажется. Ворона меня вчера полтора часа утюжила. «Неужели ваша мать не понимает? Я сама не видала, но все в ужасе от ее туалета. В у-жа-се!»
Ворона долго, со смаком, перебирала все подробности нищенской одежды Сониной матери. «Они», как их называет Соня, — главным образом, конечно, Дрыгалка! — подметили все: и туфли из порыжелой от старости прюнели, и каблуки, осевшие набок, как колеса старой брички, и грубые чулки, и шляпку с облезлым крылышком. И платье, перекрашенное, перелицованное: пуговицы справа, петли слева.
Ворона долго перебирала все эти мелочи, жестоко раня Соню. «Ваша мать должна бы понимать: женщина не смеет допустить себя до такого неряшества! Посмотрите на меня. Разве я небрежно одета? Не бог весть как, конечно, не бог весть что на мне надето, но прилично. При-лич-но! А ведь жалованье мое всего тридцать рублей в месяц, да из этого ежемесячно вычитывают три рубля в эмеритальную кассу — на старость…»
— Ох, Шура! — вздыхает Соня. — Тридцать рублей в месяц она жалованья получает, подумай, целых тридцать рублей!
Да я таких деньжищ в жизни не видала, не знаю, как это и выглядит. И живет она при институте, значит, казенная квартира!
И кормят ее в институтской столовой… Моя мама и половины этого не получает.
— А еще что тебе Ворона говорила?
— Ну, она меня грела, грела, утюжила, утюжила… Всю мамину одежду переворошила, даже про то сказала, что пальцы у мамы красные! «Что же ваша мама, значит, и перчаток не носит!» Перчатки! — горько говорит Соня. — Мама, бывает, ящики с водочными бутылками сама передвигает. Ну, а потом она, видно, уже насосалась моей крови — стала отваливаться от меня.
«Надеюсь, говорит, вы сами понимаете, что это не должно повторяться. Напишите вашей маме — ну конечно, как-нибудь деликатно, — чтобы она к вам больше не приезжала. Чтобы вас больше не срамила, а главное, чтобы не компрометировала наш институт! Потерпите обе до весны, до каникул, а там уж все лето проведете вместе!..»
Соня замолкает. Пальцы ее сжаты в кулаки. Она вся напряжена, ей трудно сдерживать свою ненависть к мучительнице, к Вороне. Но вдруг лицо Сони яснеет — вот так, как из тучи внезапно брызжет солнце.
— Шура, — говорит она с затаенной радостью, — а больше ничего Ворона не сказала. Понимаешь, ни-че-го!
Я не очень понимаю, чему Соня радуется. Подумаешь, Ворона больше ничего не сказала! Достаточно наговорила она, помоему, даже слишком много подлых, злых слов вылила она на Соню.
— Я-то ведь боялась, — объясняет Соня. — Но она ни слова не сказала про то…
— Чего ты боялась? Про что «про то» Ворона тебе ни слова не сказала?
И тут Соня начинает жарко-жарко шептать мне в самое ухо…
Даже здесь, в этом подвале, где нет никого и ничего, кроме сырых дров, она боится, как бы кто не услыхал. От горячего Сониного дыхания, чудится мне, подтаивают замерзшие дрова, с них каплет вода. С сырых стен тоже каплет, даже за оконцем подвала начался дождик, и ноги прохожих ускорили свой бег по тротуару, где быстро сплываются лужицы.
— Шура, я верю, что ты меня не предашь.
— Предам! — сержусь я. — Обожаю предавать!
— Ну, Шурочка, не обижайся! Я ведь не со зла. Я радуюсь, понимаешь? Радуюсь! Шляпка мамина Вороне не понравилась — пускай! Наши фон-баронессы смеются, что мама мне грошовый гостинец принесла, — пусть их! Но ведь я другого боялась… Ох, как я этого боялась! Если бы наша главная тайна раскрылась, тогда бы нам с мамой конец!
Соня открывает мне последнюю и главную тайну. Метрика ее — метрическое свидетельство, которое выдают при рождении, — фальшивая! Там нет печати о том, что Соня незаконнорожденная. Там написано, что Соня родилась от офицера Василия Ивановича Павлихина и жены его — то есть Сониной мамы, — тоже Павлихиной, Любови Андреевны. А офицера Павлихина никогда и на свете не было! То есть, может быть, гденибудь и существовал такой, бывают же люди с одинаковыми фамилиями, но Сониного отца так не звали. Соня даже не знает, как его звали, мама ей не говорит… Никто не знает, чего стоила Сониной маме эта фальшивая метрика! Ведь за это пришлось дать взятку — и какую взятку! Сонина мама продала все, что имела, — золотой медальон, часы покойного дедушки, даже шубу (с тех пор у Сониной мамы нет шубы, она носит зимой летнее пальтишко, надевая под него теплую кацавейку!).
