Совершенно замороженные этим предисловием, мы входим к Гороховым с такими лицами, словно мы пришли на похороны.
Но хозяева так радуются нашему приходу, что мы сразу оттаиваем и перестаем торжественно пыжиться.
Горохов с интересом всматривается в каждую из нас, узнает, вспоминает разные смешные случаи, происходившие на его уроках в нашем классе. Конечно, он заставляет меня покраснеть, припомнив, как я заявила ему как-то, что «Яновской сегодня в классе нет»!
— А я уж тогда всех помнил, а про вас еще Юле и Досе рассказывал: «Есть в классе этакая Жанна д'Арк — не то девочка, не то мальчик, Яновская…» — И Серафим Григорьевич вспоминает это так беззлобно и весело, что я снова обретаю равновесие и смеюсь вместе со всеми.
Но Люся Сущевская продолжает дичиться. Она и идти к Гороховым не хотела. А теперь сидит позади всех нас, словно прячется.
Но Горохов хитро сощуривается.
— Показалось мне это, — говорит он, обращаясь ко мне, — что вы тогда вдвоем приходили?.. Помните?
Еще бы не помнить! Умирать буду, вспомню, как Люська стояла тогда перед Гороховым на одной ноге, а я не знала, куда девать свои треклятые лайковые перчатки!
А Горохов продолжает вспоминать:
— Ваша спутница тогда меня даже испугала. Вдруг охнула, сорвала с ноги туфлю и убежала… Что это с ней было?
Все хохочут. А я говорю самым кротким и невинным голоском:
— Люсенька, это ведь ты тогда была со мной? Так объясни
Серафиму Григорьевичу. Он интересуется…
— Меля, — кричит вслед Люся, — приходи к нам! Я тебя угощу мексиканским блюдом тирли-тирли!
Меля, не отвечая, презрительно вскидывает голову. Извозчик трогается… Прощай, Меля!
Родные разошлись. Разошлись и все выпускницы, кроме нашей компании. Мы отсюда пойдем не домой, а с визитами.
— Прощай, институт! — шутливо кричит Катенька подъезду, откуда уже больше никто не выходит.
Но дверь подъезда снова открывается. И из нее робко выскальзывает на улицу Соня Павлихина с чемоданчиком в руке.
Соня боязливо осматривается — ей непривычно очутиться на улице одной, без построенных парами девочек, без привычного конвоя: служителя Степы и классной дамы.
Увидев нас, Соня искренне радуется:
— Ох, хорошо, что вы здесь! А я уж горюю, что не простилась с вами!
— А там, в вестибюле, еще кто-нибудь остался?
Соня вдруг густо краснеет:
— Нет. Я последняя. Сейчас за мной моя мама придет. В Поневеж поедем…
Я понимаю — Соня нарочно выжидала, пока все уйдут. Тогда к подъезду подойдет Сонина мама. Она, наверное, дожидается где-нибудь за углом. Больше всего на свете Соня боится, как бы «они» не увидели ее маму.
Вдруг с лица Сони исчезает привычная маска пугливого зверька, в глазах зажигается радость.
— Мама! — И Соня бросается навстречу торопливо идущей к институту невысокой, худенькой женщине. — Мама!
Мать и дочь припали друг к другу, смотрят не насмотрятся одна на другую. Соня забыла обо всем: и о своем чемоданчике, который она поставила рядом с нами на тротуар, и о нас. Она забыла даже свой вечный страх, как бы кто, увидев ее маму, не понял, что они «бедные».
Нас Соня не стесняется — три года она дружила со мной, ходила с нами по коридору во время перемен.
— Мама, — знакомит нас Соня, — это мои подруги, я тебе говорила. Помнишь? — И Соня смеется беспричинным счастливым смехом.
— Как же, как же! — говорит Сонина мама, обнимая нас и тоже смеясь, как бы отражая радость Сони. — Спасибо, милые, хорошие!
Взявшись под руки, Соня и ее мама уходят.
Мы смотрим вслед им. Только я знаю, какую тайну, тяжелую, горькую, несут они в душе. Глядя вслед их удаляющимся фигурам, я думаю: «Пусть все будет хорошо! Соня, все, все будет хорошо, вот увидишь!»
Снова взрыв хохота, и обиженный голос Аюси, спрятавшейся за спинами подруг:
— Да-а! Объясни ему, объясни ему… А вот я бы посмотрела, как бы он сам, если одна туфля своя, а другая — мамина!..
В общем, беседа течет весело, непринужденно.
Но вдруг Горохов говорит, посерьезнев:
— А я вам тоже хочу объяснить одну вещь… Я недавно совершил один поступок… ну, скажем, странный. Вы знаете, о чем я говорю…
Мы молчим. Ведь дело не в нашем ответе: мы ждем обещанного Гороховым объяснения.
— Если бы вы пришли к выпускным экзаменам с недостаточными знаниями и происходило это по вашей собственной вине, я бы для вас палец о палец не ударил! Ленились, голубушки, небрежничали? Так извольте, как говорится, и саночки возить: проваливайтесь на экзаменах — так вам и надо! Но вы не были виноваты, вот в чем дело! — Помолчав минуту, Серафим Григорьевич продолжает: — Да, вы были невиноваты. И почему-то это никого в вашем институте не беспокоило. Вы шли на скандальный провал, и никто не хотел вам помочь! Это — вот именно это! — и решило для меня все… Теперь вам понятно?
Мы молча киваем.
И тут же Юлия Григорьевна — она с тревогой следила за тем, как волнует Горохова этот разговор! — быстро и незаметно меняет тему. Она расспрашивает нас, где мы проведем лето, кто из нас собирается учиться дальше, чему и где.
Мы уходим от Гороховых совсем и окончательно обвороженные этими — мы это чувствуем! — чудесными людьми.
Уже в передней, прощаясь, Люся обещает, словно утешая хозяев:
— Мы к вам еще придем!
— Непременно! — подхватывает Катюша Кандаурова.
Около кладбища нас ждут наши друзья гимназисты: Леня, Гриша Ярчук, Макс Штейнберг. И Диночка с ними. У мальчиков сегодня тоже был выпуск. Макс и Гриша получили золотые медали.
Мы стоим все у могилы, у простого, успевшего уже потемнеть креста с простой надписью:
НАШ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Стоим и молчим. Не надо ничего говорить — у всех одни и те же мысли, одни и те же воспоминания.
Я смотрю на Люсю… «Помнишь, — думаю, — как мы повстречались с ним в последний раз, случайно, в Екатерининском гквере?..» — «Да, — отвечают мне Люсины глаза. — Я еще тогда почему-то подумала: больше я егб не увижу…»
И еще я вспоминаю, как я тогда пожалела: почему мы не сказали ему ничего хорошего, приятного? Никогда, думаю, не нужно откладывать такие вещи! Вот не сказали мы Александру Степановичу ничего, а теперь уже поздно! И не узнает он никогда, как мы его любили…
Мы стоим над могилой Александра Степановича. И мне почему-то вспоминаются слова, сказанные как-то папой:
«Люди отличаются друг от друга тем, какая пустота образуется после них. Один умрет — все равно что стул сломался: покупают новый. Другой умрет — никем его не заменишь, никогда не забудешь!»
Пора уходить. Но Маня останавливает нас.
— Вот, — тихо говорит Маня, — постояли, вспомнили Александра Степановича… Все равно как поговорили с ним самим.
Все равно как на секунду услыхали его голос…
На улице Гриша Ярчук недовольно хмыкает:
— Мифтика это!
— Грифенька, фолныфко мое! — говорю я. — Это не мистика — это добрая память о человеке!
Ту же мысль читаю в глазах всех остальных. У девочек, у Лени… В глазах Макса Штейнберга, похожих на бархатные лепестки особенно темных анютиных глазок. Макс даже наморщил лоб, напряженно думая, — наверное, он слышит музыку, рождающуюся в его душе.
Последний визит делаем мы с Леней вдвоем: к «нашему камню» — над железной дорогой.
Только опустившись в это кресло, естественно выдолбленное, промытое в камне столетиями дождей и снежных заносов, мы чувствуем, как мы устали. Денек выдался бурный, пестрый. Выпуск в институте, прощание с подругами. Веселый часок у Гороховых. Печальные мысли на могиле Александра Степановича…
От всего этого я очень устала. Мне хочется сидеть тихо, закрыв глаза, слышать, как шумит соседний лесок, как поют далекие паровозные гудки.
— Взглянет кто на тебя и меня, — мечтательно говорит Леня, — непременно подумает: влюбленные!
— Ну и пусть думают! На здоровье!
— А мы, по-твоему, не влюбленные? Нет?
— По-моему, нет!
— Ты уверена?
— Уверена!
— Очень жаль… — вздыхает Леня.
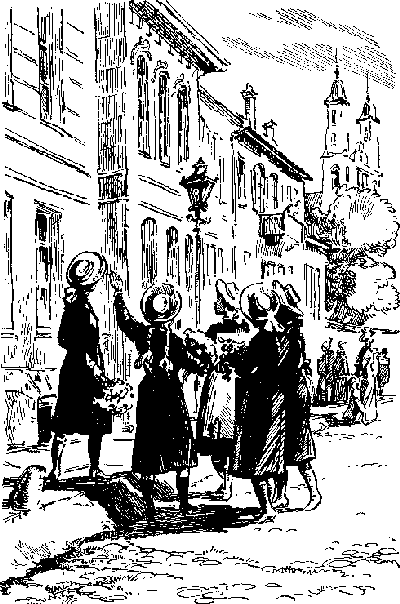 Мы немножко помолчали. Потом Леня снова начинает:
Мы немножко помолчали. Потом Леня снова начинает:
— Хочешь, я тебе скажу, о чем ты сейчас думаешь? Ты думаешь обо мне — «Такой чудесный наш Леня! Такой умный, красивый, талантливый!..»
— Ленечка, это не я о тебе думаю, это ты сам о себе думаешь! Разница?
— Не мешай, Шашура! Так вот, ты думаешь: «Какой этот Леня хороший…»
— И какой скромный! — подхватываю я.
— Так почему же ты в меня не влюблена? — недоумевает Леня.
— Не знаю, Ленечка.. — отвечаю я тихо — Давай помолчим, а?
Со всех сторон бесшумно ползут зеленоватые сумерки. Внизу, под нами, блестит рельсовый путь.
Мы сидим на камне. Леня берет меня за руку. Я приникаю щекой к его плечу. Хорошее, доброе плечо друга.
Издали доносится шум приближающегося поезда. «Иду-у-у!»
Из-за поворота показывается он — предвечерний поезд на Петербург! Большой черный паровоз солидно, хозяйственно топает по убегающим рельсам. За ним длинной змеей разворачиваются вагоны, весело постукивая: «Идем-идем-идем! В Петербург — в Петербург!»
Со своего камня мы провожаем поезд глазами. Вот он и ушел.
Поманил и ушел. Под нами снова пустая рельсовая дорога.
— Скоро и мы, — говорю я. — Уедем-уедем-уедем! В Петербург — в Петербург — в Петербург! Учиться-учиться-учиться!
— Вместе-вместе-вместе! — добавляет Леня.
Очарованными глазами смотрим мы сверху на дорогу. Она убегает все вперед, все вперед, далеко, далеко…
Благословенны дороги, по которым мы уходим в даль!..
Москва, 1958 — 1959 годы
Но хозяева так радуются нашему приходу, что мы сразу оттаиваем и перестаем торжественно пыжиться.
Горохов с интересом всматривается в каждую из нас, узнает, вспоминает разные смешные случаи, происходившие на его уроках в нашем классе. Конечно, он заставляет меня покраснеть, припомнив, как я заявила ему как-то, что «Яновской сегодня в классе нет»!
— А я уж тогда всех помнил, а про вас еще Юле и Досе рассказывал: «Есть в классе этакая Жанна д'Арк — не то девочка, не то мальчик, Яновская…» — И Серафим Григорьевич вспоминает это так беззлобно и весело, что я снова обретаю равновесие и смеюсь вместе со всеми.
Но Люся Сущевская продолжает дичиться. Она и идти к Гороховым не хотела. А теперь сидит позади всех нас, словно прячется.
Но Горохов хитро сощуривается.
— Показалось мне это, — говорит он, обращаясь ко мне, — что вы тогда вдвоем приходили?.. Помните?
Еще бы не помнить! Умирать буду, вспомню, как Люська стояла тогда перед Гороховым на одной ноге, а я не знала, куда девать свои треклятые лайковые перчатки!
А Горохов продолжает вспоминать:
— Ваша спутница тогда меня даже испугала. Вдруг охнула, сорвала с ноги туфлю и убежала… Что это с ней было?
Все хохочут. А я говорю самым кротким и невинным голоском:
— Люсенька, это ведь ты тогда была со мной? Так объясни
Серафиму Григорьевичу. Он интересуется…
— Меля, — кричит вслед Люся, — приходи к нам! Я тебя угощу мексиканским блюдом тирли-тирли!
Меля, не отвечая, презрительно вскидывает голову. Извозчик трогается… Прощай, Меля!
Родные разошлись. Разошлись и все выпускницы, кроме нашей компании. Мы отсюда пойдем не домой, а с визитами.
— Прощай, институт! — шутливо кричит Катенька подъезду, откуда уже больше никто не выходит.
Но дверь подъезда снова открывается. И из нее робко выскальзывает на улицу Соня Павлихина с чемоданчиком в руке.
Соня боязливо осматривается — ей непривычно очутиться на улице одной, без построенных парами девочек, без привычного конвоя: служителя Степы и классной дамы.
Увидев нас, Соня искренне радуется:
— Ох, хорошо, что вы здесь! А я уж горюю, что не простилась с вами!
— А там, в вестибюле, еще кто-нибудь остался?
Соня вдруг густо краснеет:
— Нет. Я последняя. Сейчас за мной моя мама придет. В Поневеж поедем…
Я понимаю — Соня нарочно выжидала, пока все уйдут. Тогда к подъезду подойдет Сонина мама. Она, наверное, дожидается где-нибудь за углом. Больше всего на свете Соня боится, как бы «они» не увидели ее маму.
Вдруг с лица Сони исчезает привычная маска пугливого зверька, в глазах зажигается радость.
— Мама! — И Соня бросается навстречу торопливо идущей к институту невысокой, худенькой женщине. — Мама!
Мать и дочь припали друг к другу, смотрят не насмотрятся одна на другую. Соня забыла обо всем: и о своем чемоданчике, который она поставила рядом с нами на тротуар, и о нас. Она забыла даже свой вечный страх, как бы кто, увидев ее маму, не понял, что они «бедные».
Нас Соня не стесняется — три года она дружила со мной, ходила с нами по коридору во время перемен.
— Мама, — знакомит нас Соня, — это мои подруги, я тебе говорила. Помнишь? — И Соня смеется беспричинным счастливым смехом.
— Как же, как же! — говорит Сонина мама, обнимая нас и тоже смеясь, как бы отражая радость Сони. — Спасибо, милые, хорошие!
Взявшись под руки, Соня и ее мама уходят.
Мы смотрим вслед им. Только я знаю, какую тайну, тяжелую, горькую, несут они в душе. Глядя вслед их удаляющимся фигурам, я думаю: «Пусть все будет хорошо! Соня, все, все будет хорошо, вот увидишь!»
Снова взрыв хохота, и обиженный голос Аюси, спрятавшейся за спинами подруг:
— Да-а! Объясни ему, объясни ему… А вот я бы посмотрела, как бы он сам, если одна туфля своя, а другая — мамина!..
В общем, беседа течет весело, непринужденно.
Но вдруг Горохов говорит, посерьезнев:
— А я вам тоже хочу объяснить одну вещь… Я недавно совершил один поступок… ну, скажем, странный. Вы знаете, о чем я говорю…
Мы молчим. Ведь дело не в нашем ответе: мы ждем обещанного Гороховым объяснения.
— Если бы вы пришли к выпускным экзаменам с недостаточными знаниями и происходило это по вашей собственной вине, я бы для вас палец о палец не ударил! Ленились, голубушки, небрежничали? Так извольте, как говорится, и саночки возить: проваливайтесь на экзаменах — так вам и надо! Но вы не были виноваты, вот в чем дело! — Помолчав минуту, Серафим Григорьевич продолжает: — Да, вы были невиноваты. И почему-то это никого в вашем институте не беспокоило. Вы шли на скандальный провал, и никто не хотел вам помочь! Это — вот именно это! — и решило для меня все… Теперь вам понятно?
Мы молча киваем.
И тут же Юлия Григорьевна — она с тревогой следила за тем, как волнует Горохова этот разговор! — быстро и незаметно меняет тему. Она расспрашивает нас, где мы проведем лето, кто из нас собирается учиться дальше, чему и где.
Мы уходим от Гороховых совсем и окончательно обвороженные этими — мы это чувствуем! — чудесными людьми.
Уже в передней, прощаясь, Люся обещает, словно утешая хозяев:
— Мы к вам еще придем!
— Непременно! — подхватывает Катюша Кандаурова.
Около кладбища нас ждут наши друзья гимназисты: Леня, Гриша Ярчук, Макс Штейнберг. И Диночка с ними. У мальчиков сегодня тоже был выпуск. Макс и Гриша получили золотые медали.
Мы стоим все у могилы, у простого, успевшего уже потемнеть креста с простой надписью:
НАШ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Стоим и молчим. Не надо ничего говорить — у всех одни и те же мысли, одни и те же воспоминания.
Я смотрю на Люсю… «Помнишь, — думаю, — как мы повстречались с ним в последний раз, случайно, в Екатерининском гквере?..» — «Да, — отвечают мне Люсины глаза. — Я еще тогда почему-то подумала: больше я егб не увижу…»
И еще я вспоминаю, как я тогда пожалела: почему мы не сказали ему ничего хорошего, приятного? Никогда, думаю, не нужно откладывать такие вещи! Вот не сказали мы Александру Степановичу ничего, а теперь уже поздно! И не узнает он никогда, как мы его любили…
Мы стоим над могилой Александра Степановича. И мне почему-то вспоминаются слова, сказанные как-то папой:
«Люди отличаются друг от друга тем, какая пустота образуется после них. Один умрет — все равно что стул сломался: покупают новый. Другой умрет — никем его не заменишь, никогда не забудешь!»
Пора уходить. Но Маня останавливает нас.
— Вот, — тихо говорит Маня, — постояли, вспомнили Александра Степановича… Все равно как поговорили с ним самим.
Все равно как на секунду услыхали его голос…
На улице Гриша Ярчук недовольно хмыкает:
— Мифтика это!
— Грифенька, фолныфко мое! — говорю я. — Это не мистика — это добрая память о человеке!
Ту же мысль читаю в глазах всех остальных. У девочек, у Лени… В глазах Макса Штейнберга, похожих на бархатные лепестки особенно темных анютиных глазок. Макс даже наморщил лоб, напряженно думая, — наверное, он слышит музыку, рождающуюся в его душе.
Последний визит делаем мы с Леней вдвоем: к «нашему камню» — над железной дорогой.
Только опустившись в это кресло, естественно выдолбленное, промытое в камне столетиями дождей и снежных заносов, мы чувствуем, как мы устали. Денек выдался бурный, пестрый. Выпуск в институте, прощание с подругами. Веселый часок у Гороховых. Печальные мысли на могиле Александра Степановича…
От всего этого я очень устала. Мне хочется сидеть тихо, закрыв глаза, слышать, как шумит соседний лесок, как поют далекие паровозные гудки.
— Взглянет кто на тебя и меня, — мечтательно говорит Леня, — непременно подумает: влюбленные!
— Ну и пусть думают! На здоровье!
— А мы, по-твоему, не влюбленные? Нет?
— По-моему, нет!
— Ты уверена?
— Уверена!
— Очень жаль… — вздыхает Леня.
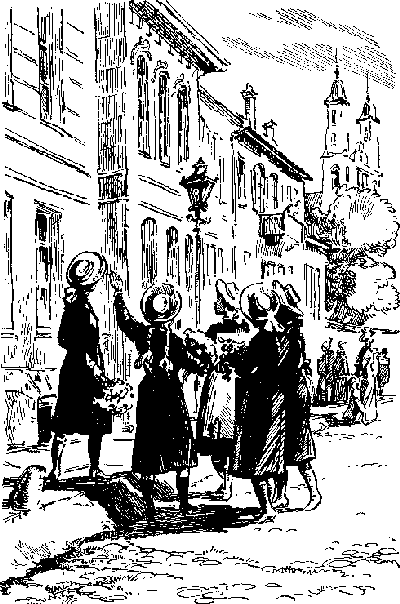
— Хочешь, я тебе скажу, о чем ты сейчас думаешь? Ты думаешь обо мне — «Такой чудесный наш Леня! Такой умный, красивый, талантливый!..»
— Ленечка, это не я о тебе думаю, это ты сам о себе думаешь! Разница?
— Не мешай, Шашура! Так вот, ты думаешь: «Какой этот Леня хороший…»
— И какой скромный! — подхватываю я.
— Так почему же ты в меня не влюблена? — недоумевает Леня.
— Не знаю, Ленечка.. — отвечаю я тихо — Давай помолчим, а?
Со всех сторон бесшумно ползут зеленоватые сумерки. Внизу, под нами, блестит рельсовый путь.
Мы сидим на камне. Леня берет меня за руку. Я приникаю щекой к его плечу. Хорошее, доброе плечо друга.
Издали доносится шум приближающегося поезда. «Иду-у-у!»
Из-за поворота показывается он — предвечерний поезд на Петербург! Большой черный паровоз солидно, хозяйственно топает по убегающим рельсам. За ним длинной змеей разворачиваются вагоны, весело постукивая: «Идем-идем-идем! В Петербург — в Петербург!»
Со своего камня мы провожаем поезд глазами. Вот он и ушел.
Поманил и ушел. Под нами снова пустая рельсовая дорога.
— Скоро и мы, — говорю я. — Уедем-уедем-уедем! В Петербург — в Петербург — в Петербург! Учиться-учиться-учиться!
— Вместе-вместе-вместе! — добавляет Леня.
Очарованными глазами смотрим мы сверху на дорогу. Она убегает все вперед, все вперед, далеко, далеко…
Благословенны дороги, по которым мы уходим в даль!..
Москва, 1958 — 1959 годы
