Страница:
Меня догоняет раскрасневшаяся, запыхавшаяся младшая сестра Горохова — Дося.
— Вы забыли у нас перчатки…
И она протягивает мне эти стократ проклятые орудия пытки из желтой лайки.
«Никогда! Никогда в жизни! — яростно обещаю я самой себе. — Умирать буду, а перчаток не надену!»
Глава двадцать третья. «ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
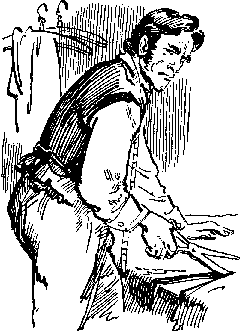 Идут экзамены. Волнения, сильнейшее напряжение всех сил, бессонные ночи. Одуряющая, отупляющая зубрежка. Иногда мне кажется, что я набиваю мозги колбасным фаршем из цифр, дат, имен, правил, законов природы!
Идут экзамены. Волнения, сильнейшее напряжение всех сил, бессонные ночи. Одуряющая, отупляющая зубрежка. Иногда мне кажется, что я набиваю мозги колбасным фаршем из цифр, дат, имен, правил, законов природы!
Все это воздвигло какую-то стену между нами, учащимися, и окружающим миром. Что происходит по ту сторону стены, нам неизвестно. Мы не общаемся ни с кем, кроме наших друзей гимназистов, а они живут в такой же оторванности ото всего, в таком же отупении от зубрежки, как и мы.
Мои ученики, наборщики Азриэл Шнир и Степа Разин, временно перестали ходить ко мне на уроки: очень, говорят, заняты.
Прервал занятия с нашим кружком и Александр Степанович.
Как-то, встретив меня и Люсю случайно в Екатерининском сквере, он очень обрадовался нам. А уж как мы-то ему обрадовались!
Мы садимся все трое на лавочку, чтобы немножко поговорить.
Александр Степанович расспрашивает обо всех участниках кружка, о том, как идут у нас экзамены.
— Скоро, — говорит он, прощаясь с нами, — скоро, надеюсь, стану посвободнее. А сейчас — уж не сердитесь! — занят, ну, просто выше головы!
Пожав наши руки, он торопливо уходит. Как всегда, очень худой и бледный, он, быстро растаяв, исчезает в сумеречной сизи.
Вечерний туман сходит на землю, как «дымный занавес» в театре. От этого все вокруг кажется ненастоящим, как театральные декорации.
Люся вдруг говорит:
— Мне почему-то сейчас показалось: больше я Александра Степановича не увижу…
— Не болтай вздора! — сержусь я.
— Предчувствие у меня… — оправдывается Люся.
— Предчувствие у нее! С этими экзаменами мы понемногу превращаемся в настоящих психопаток!
У меня нет таких мрачных предчувствий, как у Люси, но мне вдруг становится грустно: почему мы с Люсей не сказали Александру Степановичу, что мы его часто вспоминаем, что нам скучно без занятий с ним? Ему это, наверное, было бы приятно.
Потом идем к Люсе и всю ночь готовимся к экзамену по истории. Уместились в Люсиной комнате на удивительно неудобной кушетке, облезлой и закругляющейся, как любимый кот Виктории Ивановны, Султан, когда он потягивается, выгибая спину в виде вопросительного знака. Лихорадочно листаем учебники, задаем друг другу вопросы.
— Теперь ты, Люся! — предлагаю я сонным голосом. — Кто был римским императором после Нервы?
Люся совсем спит.
— После императора Нервы… или Минервы? Нет, нет, Нервы… Он, наверное, очень нервный был, как ты думаешь, Ксанурка?
— Спроси об этом завтра экзаменаторов. А теперь отвечай на мой вопрос!
— После Нервы, — вздыхает Люся, — императором был этот… ну, вот… как его? Ага, Урлапий.
— Какой Урлапий? — смеюсь я.
— А, вспомнила, вспомнила! Его звали Ульпитрий.
— Ульпий Траян, а не Ульпитрий! Люська, не спи. Ведь провалимся!
— Так, господи, а я что говорю? Это самое… Вот именно — Пирлитрий!
— Ульпий Траян, а не Пирлитрий.
— Вот, вот, именно Траян! Откуда ты еще какую-то Ульпу взяла? Траян, просто Траян, и никаких. И он еще воевал с даками. А кто такие были даки? Что-то я запамятовала… А, знаю, они жили в Дакии!
В этой тяжелой борьбе со сном мы видим в окно, как небо побелело перед рассветом — «умывается молоком».
Мы в полном изнеможении. Так же как Люся называла Ульпия Траяна — Урлапием, так и я вдруг начинаю путать императора Каракаллу с кораблем-каравеллой, на котором Колумб плыл в Америку.
Солнца еще не видно, но оно уже близко, оно начинает золотить маленькие розоватые ноздри цветочков смородины. Мы закрываем учебники — можно поспать часа три-четыре. Спим в одежде — жалко тратить хоть минуту на раздевание.
Я засыпаю тотчас же. Но — вот несчастье! — на Люсю как раз в это время нападает охота говорить о своих сердечных делах.
— Как ты думаешь, Ксанурка?
— М-м-м…
— Ксанурка, ответь мне только на один вопрос!
— На один? Пожалуйста…
— Владя Свидерский сделает мне предложение этим летом?
Как тебе кажется?
Ну что может мне казаться? Я никогда не видала Владика Свидерского. Он живет в другом городе. Порой у меня мелькает подозрение, что Владя Свидерский существует только в Люсином воображении. Ну могу я знать, сделает он Люсе предложение стать его женой? Но я так мучительно хочу спать, так мечтаю, чтобы Люся прекратила свои вопросы, что с жаром уверяю ее:
— Сделает, Люсенька! Непременно сделает!
— Что сделает? — строго допытывается Люся.
— Предложение.
— Кто сделает?
— А вот этот… Федя Бендерский.
— Не Федя Бендерский, а Владя Свидерский. А почему ты так уверена, что он сделает предложение?
Но я уже сплю таким каменным сном, что больше от меня ничего не добьешься. Сама Люся засыпает, вероятно, на одну только минуту позднее, чем я…
Назавтра мы сдаем историю на пятерку. Мы, оказывается, спотыкались и путали только ночью, со сна, а при дневном свете вспомнили все самым лучшим образом.
После экзамена всей компанией — Люся, Маня, Катюша, Варя, Стэфа, Лара Горбикова, я — позволяем себе роскошь пожить жизнью миллионеров! Встретив в Ботаническом саду Андрея-мороженщика, покупаем в складчину мороженое. Мы сидим на нашей любимой скамье — у подножия Замковой горы, под огромным каштановым деревом, похожим на каравеллу, распустившую паруса.
Здесь нас находят наши друзья мальчики — Леня, Гриша, Макс. Они тоже сдали сегодня очень трудный экзамен — греческий язык, — сдали хорошо, и потому они так же веселы и счастливы, как мы.
Наговорившись, нахохотавшись, нагулявшись, мы стихаем, приумолкаем. Сказываются усталость, бессонные ночи, волнение, пережитое на экзамене. Идем домой, вяло перекидываясь словами. Спать, спать, спать…
Поднимаясь по нашей лестнице, думаю с удивлением: «Странно… Из чего же это сделаны мои ноги, что их так трудно передвигать? Свинцом их налили, что ли?»
Еле добредаю до постели — и проваливаюсь в сон, успев только подумать: «Ох, как хорошо!»
Просыпаюсь уже в сумерки. Славно поспала! И все-таки, видно, еще не досыта; с удовольствием проспала бы еще столько же.
В самом веселом настроении выхожу в столовую.
И сразу чувствую: что-то не то. Об этом говорит и круглая совиная голова доктора Финна, появляющегося лишь в дни грозных событий, и встревоженные лица мамы, папы, Ивана Константиновича.
Леня уводит меня в соседнюю комнату.
— Знаешь, ведь сегодня Первое мая!
— Как — Первое мая? Сегодня восемнадцатое апреля!
И сразу вспоминаю, что это по новому стилю. И это уже было — давно, в детстве, когда в первомайскую демонстрацию, по выражению Юзефы, казаки людей, «як капусту покрошили», когда арестовали моего учителя Павла Григорьевича…
— Сегодня была рабочая демонстрация, — говорит Леня. — Короткая, но народу было много, пели «Рабочую Марсельезу», несли красное знамя, кричали «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция», «Да здравствует социал-демократия!»…
Леня умолкает. — А дальше что было?
— Ну, «что было»! — хмуро отвечает Леня. — Как всегда.
Городовые, казаки, нагайки. Потом оцепили демонстрантов, увели их в полицию. Говорят, что…
Леня не успевает кончить фразу — в комнату быстро входит Варя Забелина, запыхавшаяся, встревоженная.
— Варя, ты откуда?
— Я с черного хода пришла. Шура, попроси своего папу выйти ко мне на минуту. Только скорее, пожалуйста, как можно скорее!
Привожу папу.
— Яков Ефимович, — просит Варя, — пойдемте со мной к нам! Пожалуйста, пожалуйста…
— С бабушкой что-нибудь?
— Нет, не с бабушкой. С Александром Степановичем.
Оказывается, Александр Степанович шел в шеренге демонстрации рабочих. Удар казацкой нагайкой сбил его с ног. Его подхватили шедшие рядом Шнир и Степа Разин. Они вывели его из толпы — ее уже стали оцеплять полицейские и казаки. Степан и Шнир вытащили Александра Степановича в переулок и довели, вернее — донесли до домика Забелиных. Бабушка Варвара Дмитриевна уложила Александра Степановича и послала Варю за папой.
— Пожалуйста, Яков Ефимович, дорогой! Пожалуйста…
— Да что ты меня умоляешь, чудачка? Разве я упираюсь?
Сейчас пойдем, только инструменты захвачу.
Папа возвращается от Забелиных не скоро. Об Александре Степановиче говорит:
— Не знаю, не знаю… Очень нехорош!
Папа привел с собой Шнира и Разина. Они остаются у нас ночевать.
Ночь проходит тревожно. Никто не спит.
Утром выясняется — Шнир и Разин ушли так тихо, что никто не заметил. Папа страшно сердится: почему их не удержали?
— Как можно было их отпустить? В городе, наверное, идут аресты. Я хотел, чтобы они отсиделись у нас…
Юзефа приносит с базара новость: рано-раненько — еще не развидняло — в полицию погнали большие возы, груженные свежими розгами…
— Кто вам сказал, Юзефа, про эти возы?
— Люди говорят!
— Может, неправда?
— Люди всегда правду говорят!
…Сижу у себя, готовлюсь к экзамену по французскому языку.
Повторяю неправильные глаголы: «иметь»… «быть»… «хотеть»… «знать»… А перед глазами все время одно: в мирном розовом утре плывут, покачиваясь, как лодки на реке, возы с тонкими весенними березовыми ветками, нежно-зелеными от первой листвы. Это и есть она — «зеленая улица», воспетая в солдатских песнях. Российская порка!
Ужасно думать: если сегодня схватили Шнира и Разина, то и их тоже…
Когда вырывают зуб — это больно. Очень. Но если удалять зуб с перерывами, в течение целого дня, рывками, а зуб все торчит невыдернутый, все сильнее болит, — это, наверное, невыносимая пытка! Когда внезапно узнаешь что-нибудь такое, от чего с трудом удерживаешься на ногах, это, вероятно, очень страшно.
Но если пытка постепенного узнавания длится целый день, и вечер, и еще утро… Узнаешь о случившемся по клочкам и обрывкам слухов, склеиваешь эти обрывки в единую картину, от которой трудно дышать… Этого уже, верно, никогда не забудешь!
Вот так узнаем мы о «зеленой улице», по которой в полиции прогнали арестованных участников вчерашней рабочей демонстрации.
Экзекуция, как это называется в официальных донесениях, происходила в торжественной обстановке: в присутствии высокого начальства — губернатора фон Валя и полицеймейстера Назимова, — ну и, конечно, врача Михайлова (помилуйте, мы порем гуманно: под наблюдением врача!). Все эти люди — губернатор, полицеймейстер, прокурор и врач — выдержали трудный экзамен на звание палача. Они выдержали его отлично. Они присутствовали при экзекуции от начала до конца, с утра до самого вечера, — никто из них не ушел.
Кроме этих высоких гостей, при экзекуции присутствовали пристава, околоточные, городовые, яказаки и восемь пожарных с брандмейстером.
Первого из арестованных участников демонстрации раздели и положили на скамью лицом вниз. Один казак сел ему на плечи, другой — на ноги. Два казака, вооружившись розгами, встали по обе стороны от наказуемого и приготовились хлестать его по обнаженной спине.
Спокойно и буднично губернатор фон Валь приказал:
— Сечь медленно!
Каждый из наказываемых получал, смотря по выносливости, от двадцати пяти до пятидесяти розог. Казаки били так сильно, что после десятого удара, нанесенного гибкой, упругой розгой, от нее оставался только голый прут — без листьев и без коры.
Многие истязуемые через некоторое время теряли сознание.
Таких приводили в чувство, обливая водой, а затем продолжали порку. Один терял сознание дважды — после десятого и после семнадцатого удара!
При вторичном обмороке к нему подошел полицейский врач Михайлов. Пощупал пульс и сказал:
— Ничего, выдержит! Можно добавить ему до полной порции.
И истязаемому «додали» остальные восемь ударов: до двадцати пяти.
Некоторые под розгами кричали от боли. Большинство переносило истязание без криков. Были такие, что вынесли по пятидесяти розог, не издав и стона.
Один из высеченных, поляк-рабочий, погрозил фон Валю кулаком. Его избили снова. С трудом поднявшись после вторичной порки, он повернулся к фон Валю окровавленной спиной и сказал:
— Ты, волк!.. Хочешь крови? На, пей!
Его высекли в третий раз. Только тут он потерял сознание.
— Неужели это возможно? — спрашивает кто-то из находящихся у нас и слушающих рассказ о розгах в полиции. — Разве могут люди удержаться от крика под такой пыткой?
— Могут! — говорит папа. — Я вижу это часто при операциях. Есть люди, которые не кричат даже в самых страшных мучениях. Мне кажется, это бывает, когда какое-нибудь чувство пересиливает физическую боль… Мать не кричит, чтобы не испугать детей. Муж удерживается от криков — щадит жену. А тут, в полиции, избиваемым, наверное, помогала ненависть. «А, вы мучаете меня, вы хотите моего унижения перед вами, моих криков и слез, так вот нет, не дождетесь вы этого!..»
Когда экзекуция была закончена, фон Валь сказал истерзанным людям:
— Ну вот, вчера вы поздравили меня с Первым мая, а сегодня я поздравил вас.
Кто-то из арестованных крикнул фон Валю:
— Ты еще свое получишь!
Бросились искать крикнувшего, но не обнаружили.
Умер Александр Степанович.
Его больное сердце не выдержало удара нагайкой, падения на землю. Хоть и бережно несли его Шнир и Степа, но в иные минуты, когда вдали начинали маячить фигуры полицейских, приходилось прислонять Александра Степановича то к стене, то к дереву или забору. Пусть полицейские думают, будто три человека остановились на минуту, гуляя, беседуя.
Когда Александра Степановича внесли в домик Забелиных, он был еще жив. Он еще узнал папу, которого привела Варя. Он улыбнулся папе, даже попытался пожать ему руку.
После Александра Степановича не осталось никакого имущества. Потертый костюм был его единственным костюмом. Единственными были и пальто, и старая, измятая шляпа, и стоптанные ботинки. В кармане у него нашли кошелек — в нем было восемь рублей семьдесят копеек. Как профессиональный революционер, Александр Степанович жил на крохотную сумму, получаемую из партийной кассы.
В момент смерти у Александра Степановича не было постоянного жилья. Готовя первомайскую демонстрацию, ожидая возможного — даже вероятного — ареста, он съехал с квартиры, где жил. У него не было в эти дни даже имени: он перешел на нелегальное положение и жил по фальшивому паспорту. Странная случайность: паспорт этот был выдан на имя дворянина Семена Ивановича Забелина, приезжего из Калуги. Это обстоятельство облегчило положение Варвары Дмитриевны Забелиной. На вопросы полиции, кто был человек, скончавшийся в ее доме, и какое он имел отношение к ней, Варвара Дмитриевна показала, что умерший был якобы дальний родственник ее покойного мужа — Забелин. Он-де приехал из Калуги, но по дороге с вокзала натолкнулся на демонстрацию и в свалке был сшиблен с ног. Еле добравшись до ее дома, он слег и скончался.
Хоронили мы Александра Степановича в тихий весенний вечер. Только тут стало видно, что этот человек, добровольно обрекший себя на нищенское существование, был несказанно богат: его любило, уважало, горько оплакивало множество людей! Всю длинную дорогу от домика бабушки Варвары Дмитриевны до кладбища гроб несли на руках. Были, конечно, все члены нашего кружка, много незнакомых нам учащихся разных учебных заведений нашего города. Больше всего было рабочих.
Над свежей могилой поставили простой белооструганный крест с надписью:
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Надпись сделали неправильно — слишком близко к правому концу перекрестия. Из-за этого у левого конца оказался пробел размером буквы на три. Тогда кто-то прибавил к надписи эти три недостающие буквы: НАШ.
Вся надпись получилась теперь такая:
НАШ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Для всех, кто шел за гробом Александра Степановича и стоял у свежей его могилы, — для всех нас он был именно НАШ.
Степу Разина и Азриэла Шнира несчастье с Александром Степановичем спасло от расправы в полиции. Пока они выносили Александра Степановича из толпы и доставили его к Варваре Дмитриевне Забелиной, толпу демонстрантов оцепили и увели.
Но Степа и Шнир пригодились для другого дела…
Через несколько дней социал-демократические группы — польская, литовская, русская, еврейская — выпустили прокламацию на четырех языках:
Глава двадцать четвертая. ЧЕРНЯВЫЙ ХЛОПЧИК
— Вы забыли у нас перчатки…
И она протягивает мне эти стократ проклятые орудия пытки из желтой лайки.
«Никогда! Никогда в жизни! — яростно обещаю я самой себе. — Умирать буду, а перчаток не надену!»
Глава двадцать третья. «ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА»
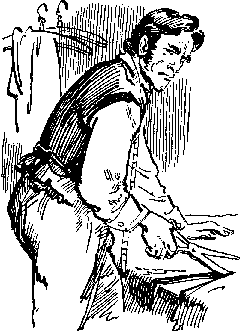
Все это воздвигло какую-то стену между нами, учащимися, и окружающим миром. Что происходит по ту сторону стены, нам неизвестно. Мы не общаемся ни с кем, кроме наших друзей гимназистов, а они живут в такой же оторванности ото всего, в таком же отупении от зубрежки, как и мы.
Мои ученики, наборщики Азриэл Шнир и Степа Разин, временно перестали ходить ко мне на уроки: очень, говорят, заняты.
Прервал занятия с нашим кружком и Александр Степанович.
Как-то, встретив меня и Люсю случайно в Екатерининском сквере, он очень обрадовался нам. А уж как мы-то ему обрадовались!
Мы садимся все трое на лавочку, чтобы немножко поговорить.
Александр Степанович расспрашивает обо всех участниках кружка, о том, как идут у нас экзамены.
— Скоро, — говорит он, прощаясь с нами, — скоро, надеюсь, стану посвободнее. А сейчас — уж не сердитесь! — занят, ну, просто выше головы!
Пожав наши руки, он торопливо уходит. Как всегда, очень худой и бледный, он, быстро растаяв, исчезает в сумеречной сизи.
Вечерний туман сходит на землю, как «дымный занавес» в театре. От этого все вокруг кажется ненастоящим, как театральные декорации.
Люся вдруг говорит:
— Мне почему-то сейчас показалось: больше я Александра Степановича не увижу…
— Не болтай вздора! — сержусь я.
— Предчувствие у меня… — оправдывается Люся.
— Предчувствие у нее! С этими экзаменами мы понемногу превращаемся в настоящих психопаток!
У меня нет таких мрачных предчувствий, как у Люси, но мне вдруг становится грустно: почему мы с Люсей не сказали Александру Степановичу, что мы его часто вспоминаем, что нам скучно без занятий с ним? Ему это, наверное, было бы приятно.
Потом идем к Люсе и всю ночь готовимся к экзамену по истории. Уместились в Люсиной комнате на удивительно неудобной кушетке, облезлой и закругляющейся, как любимый кот Виктории Ивановны, Султан, когда он потягивается, выгибая спину в виде вопросительного знака. Лихорадочно листаем учебники, задаем друг другу вопросы.
— Теперь ты, Люся! — предлагаю я сонным голосом. — Кто был римским императором после Нервы?
Люся совсем спит.
— После императора Нервы… или Минервы? Нет, нет, Нервы… Он, наверное, очень нервный был, как ты думаешь, Ксанурка?
— Спроси об этом завтра экзаменаторов. А теперь отвечай на мой вопрос!
— После Нервы, — вздыхает Люся, — императором был этот… ну, вот… как его? Ага, Урлапий.
— Какой Урлапий? — смеюсь я.
— А, вспомнила, вспомнила! Его звали Ульпитрий.
— Ульпий Траян, а не Ульпитрий! Люська, не спи. Ведь провалимся!
— Так, господи, а я что говорю? Это самое… Вот именно — Пирлитрий!
— Ульпий Траян, а не Пирлитрий.
— Вот, вот, именно Траян! Откуда ты еще какую-то Ульпу взяла? Траян, просто Траян, и никаких. И он еще воевал с даками. А кто такие были даки? Что-то я запамятовала… А, знаю, они жили в Дакии!
В этой тяжелой борьбе со сном мы видим в окно, как небо побелело перед рассветом — «умывается молоком».
Мы в полном изнеможении. Так же как Люся называла Ульпия Траяна — Урлапием, так и я вдруг начинаю путать императора Каракаллу с кораблем-каравеллой, на котором Колумб плыл в Америку.
Солнца еще не видно, но оно уже близко, оно начинает золотить маленькие розоватые ноздри цветочков смородины. Мы закрываем учебники — можно поспать часа три-четыре. Спим в одежде — жалко тратить хоть минуту на раздевание.
Я засыпаю тотчас же. Но — вот несчастье! — на Люсю как раз в это время нападает охота говорить о своих сердечных делах.
— Как ты думаешь, Ксанурка?
— М-м-м…
— Ксанурка, ответь мне только на один вопрос!
— На один? Пожалуйста…
— Владя Свидерский сделает мне предложение этим летом?
Как тебе кажется?
Ну что может мне казаться? Я никогда не видала Владика Свидерского. Он живет в другом городе. Порой у меня мелькает подозрение, что Владя Свидерский существует только в Люсином воображении. Ну могу я знать, сделает он Люсе предложение стать его женой? Но я так мучительно хочу спать, так мечтаю, чтобы Люся прекратила свои вопросы, что с жаром уверяю ее:
— Сделает, Люсенька! Непременно сделает!
— Что сделает? — строго допытывается Люся.
— Предложение.
— Кто сделает?
— А вот этот… Федя Бендерский.
— Не Федя Бендерский, а Владя Свидерский. А почему ты так уверена, что он сделает предложение?
Но я уже сплю таким каменным сном, что больше от меня ничего не добьешься. Сама Люся засыпает, вероятно, на одну только минуту позднее, чем я…
Назавтра мы сдаем историю на пятерку. Мы, оказывается, спотыкались и путали только ночью, со сна, а при дневном свете вспомнили все самым лучшим образом.
После экзамена всей компанией — Люся, Маня, Катюша, Варя, Стэфа, Лара Горбикова, я — позволяем себе роскошь пожить жизнью миллионеров! Встретив в Ботаническом саду Андрея-мороженщика, покупаем в складчину мороженое. Мы сидим на нашей любимой скамье — у подножия Замковой горы, под огромным каштановым деревом, похожим на каравеллу, распустившую паруса.
Здесь нас находят наши друзья мальчики — Леня, Гриша, Макс. Они тоже сдали сегодня очень трудный экзамен — греческий язык, — сдали хорошо, и потому они так же веселы и счастливы, как мы.
Наговорившись, нахохотавшись, нагулявшись, мы стихаем, приумолкаем. Сказываются усталость, бессонные ночи, волнение, пережитое на экзамене. Идем домой, вяло перекидываясь словами. Спать, спать, спать…
Поднимаясь по нашей лестнице, думаю с удивлением: «Странно… Из чего же это сделаны мои ноги, что их так трудно передвигать? Свинцом их налили, что ли?»
Еле добредаю до постели — и проваливаюсь в сон, успев только подумать: «Ох, как хорошо!»
Просыпаюсь уже в сумерки. Славно поспала! И все-таки, видно, еще не досыта; с удовольствием проспала бы еще столько же.
В самом веселом настроении выхожу в столовую.
И сразу чувствую: что-то не то. Об этом говорит и круглая совиная голова доктора Финна, появляющегося лишь в дни грозных событий, и встревоженные лица мамы, папы, Ивана Константиновича.
Леня уводит меня в соседнюю комнату.
— Знаешь, ведь сегодня Первое мая!
— Как — Первое мая? Сегодня восемнадцатое апреля!
И сразу вспоминаю, что это по новому стилю. И это уже было — давно, в детстве, когда в первомайскую демонстрацию, по выражению Юзефы, казаки людей, «як капусту покрошили», когда арестовали моего учителя Павла Григорьевича…
— Сегодня была рабочая демонстрация, — говорит Леня. — Короткая, но народу было много, пели «Рабочую Марсельезу», несли красное знамя, кричали «Долой самодержавие!», «Да здравствует революция», «Да здравствует социал-демократия!»…
Леня умолкает. — А дальше что было?
— Ну, «что было»! — хмуро отвечает Леня. — Как всегда.
Городовые, казаки, нагайки. Потом оцепили демонстрантов, увели их в полицию. Говорят, что…
Леня не успевает кончить фразу — в комнату быстро входит Варя Забелина, запыхавшаяся, встревоженная.
— Варя, ты откуда?
— Я с черного хода пришла. Шура, попроси своего папу выйти ко мне на минуту. Только скорее, пожалуйста, как можно скорее!
Привожу папу.
— Яков Ефимович, — просит Варя, — пойдемте со мной к нам! Пожалуйста, пожалуйста…
— С бабушкой что-нибудь?
— Нет, не с бабушкой. С Александром Степановичем.
Оказывается, Александр Степанович шел в шеренге демонстрации рабочих. Удар казацкой нагайкой сбил его с ног. Его подхватили шедшие рядом Шнир и Степа Разин. Они вывели его из толпы — ее уже стали оцеплять полицейские и казаки. Степан и Шнир вытащили Александра Степановича в переулок и довели, вернее — донесли до домика Забелиных. Бабушка Варвара Дмитриевна уложила Александра Степановича и послала Варю за папой.
— Пожалуйста, Яков Ефимович, дорогой! Пожалуйста…
— Да что ты меня умоляешь, чудачка? Разве я упираюсь?
Сейчас пойдем, только инструменты захвачу.
Папа возвращается от Забелиных не скоро. Об Александре Степановиче говорит:
— Не знаю, не знаю… Очень нехорош!
Папа привел с собой Шнира и Разина. Они остаются у нас ночевать.
Ночь проходит тревожно. Никто не спит.
Утром выясняется — Шнир и Разин ушли так тихо, что никто не заметил. Папа страшно сердится: почему их не удержали?
— Как можно было их отпустить? В городе, наверное, идут аресты. Я хотел, чтобы они отсиделись у нас…
Юзефа приносит с базара новость: рано-раненько — еще не развидняло — в полицию погнали большие возы, груженные свежими розгами…
— Кто вам сказал, Юзефа, про эти возы?
— Люди говорят!
— Может, неправда?
— Люди всегда правду говорят!
…Сижу у себя, готовлюсь к экзамену по французскому языку.
Повторяю неправильные глаголы: «иметь»… «быть»… «хотеть»… «знать»… А перед глазами все время одно: в мирном розовом утре плывут, покачиваясь, как лодки на реке, возы с тонкими весенними березовыми ветками, нежно-зелеными от первой листвы. Это и есть она — «зеленая улица», воспетая в солдатских песнях. Российская порка!
Ужасно думать: если сегодня схватили Шнира и Разина, то и их тоже…
Когда вырывают зуб — это больно. Очень. Но если удалять зуб с перерывами, в течение целого дня, рывками, а зуб все торчит невыдернутый, все сильнее болит, — это, наверное, невыносимая пытка! Когда внезапно узнаешь что-нибудь такое, от чего с трудом удерживаешься на ногах, это, вероятно, очень страшно.
Но если пытка постепенного узнавания длится целый день, и вечер, и еще утро… Узнаешь о случившемся по клочкам и обрывкам слухов, склеиваешь эти обрывки в единую картину, от которой трудно дышать… Этого уже, верно, никогда не забудешь!
Вот так узнаем мы о «зеленой улице», по которой в полиции прогнали арестованных участников вчерашней рабочей демонстрации.
Экзекуция, как это называется в официальных донесениях, происходила в торжественной обстановке: в присутствии высокого начальства — губернатора фон Валя и полицеймейстера Назимова, — ну и, конечно, врача Михайлова (помилуйте, мы порем гуманно: под наблюдением врача!). Все эти люди — губернатор, полицеймейстер, прокурор и врач — выдержали трудный экзамен на звание палача. Они выдержали его отлично. Они присутствовали при экзекуции от начала до конца, с утра до самого вечера, — никто из них не ушел.
Кроме этих высоких гостей, при экзекуции присутствовали пристава, околоточные, городовые, яказаки и восемь пожарных с брандмейстером.
Первого из арестованных участников демонстрации раздели и положили на скамью лицом вниз. Один казак сел ему на плечи, другой — на ноги. Два казака, вооружившись розгами, встали по обе стороны от наказуемого и приготовились хлестать его по обнаженной спине.
Спокойно и буднично губернатор фон Валь приказал:
— Сечь медленно!
Каждый из наказываемых получал, смотря по выносливости, от двадцати пяти до пятидесяти розог. Казаки били так сильно, что после десятого удара, нанесенного гибкой, упругой розгой, от нее оставался только голый прут — без листьев и без коры.
Многие истязуемые через некоторое время теряли сознание.
Таких приводили в чувство, обливая водой, а затем продолжали порку. Один терял сознание дважды — после десятого и после семнадцатого удара!
При вторичном обмороке к нему подошел полицейский врач Михайлов. Пощупал пульс и сказал:
— Ничего, выдержит! Можно добавить ему до полной порции.
И истязаемому «додали» остальные восемь ударов: до двадцати пяти.
Некоторые под розгами кричали от боли. Большинство переносило истязание без криков. Были такие, что вынесли по пятидесяти розог, не издав и стона.
Один из высеченных, поляк-рабочий, погрозил фон Валю кулаком. Его избили снова. С трудом поднявшись после вторичной порки, он повернулся к фон Валю окровавленной спиной и сказал:
— Ты, волк!.. Хочешь крови? На, пей!
Его высекли в третий раз. Только тут он потерял сознание.
— Неужели это возможно? — спрашивает кто-то из находящихся у нас и слушающих рассказ о розгах в полиции. — Разве могут люди удержаться от крика под такой пыткой?
— Могут! — говорит папа. — Я вижу это часто при операциях. Есть люди, которые не кричат даже в самых страшных мучениях. Мне кажется, это бывает, когда какое-нибудь чувство пересиливает физическую боль… Мать не кричит, чтобы не испугать детей. Муж удерживается от криков — щадит жену. А тут, в полиции, избиваемым, наверное, помогала ненависть. «А, вы мучаете меня, вы хотите моего унижения перед вами, моих криков и слез, так вот нет, не дождетесь вы этого!..»
Когда экзекуция была закончена, фон Валь сказал истерзанным людям:
— Ну вот, вчера вы поздравили меня с Первым мая, а сегодня я поздравил вас.
Кто-то из арестованных крикнул фон Валю:
— Ты еще свое получишь!
Бросились искать крикнувшего, но не обнаружили.
Умер Александр Степанович.
Его больное сердце не выдержало удара нагайкой, падения на землю. Хоть и бережно несли его Шнир и Степа, но в иные минуты, когда вдали начинали маячить фигуры полицейских, приходилось прислонять Александра Степановича то к стене, то к дереву или забору. Пусть полицейские думают, будто три человека остановились на минуту, гуляя, беседуя.
Когда Александра Степановича внесли в домик Забелиных, он был еще жив. Он еще узнал папу, которого привела Варя. Он улыбнулся папе, даже попытался пожать ему руку.
После Александра Степановича не осталось никакого имущества. Потертый костюм был его единственным костюмом. Единственными были и пальто, и старая, измятая шляпа, и стоптанные ботинки. В кармане у него нашли кошелек — в нем было восемь рублей семьдесят копеек. Как профессиональный революционер, Александр Степанович жил на крохотную сумму, получаемую из партийной кассы.
В момент смерти у Александра Степановича не было постоянного жилья. Готовя первомайскую демонстрацию, ожидая возможного — даже вероятного — ареста, он съехал с квартиры, где жил. У него не было в эти дни даже имени: он перешел на нелегальное положение и жил по фальшивому паспорту. Странная случайность: паспорт этот был выдан на имя дворянина Семена Ивановича Забелина, приезжего из Калуги. Это обстоятельство облегчило положение Варвары Дмитриевны Забелиной. На вопросы полиции, кто был человек, скончавшийся в ее доме, и какое он имел отношение к ней, Варвара Дмитриевна показала, что умерший был якобы дальний родственник ее покойного мужа — Забелин. Он-де приехал из Калуги, но по дороге с вокзала натолкнулся на демонстрацию и в свалке был сшиблен с ног. Еле добравшись до ее дома, он слег и скончался.
Хоронили мы Александра Степановича в тихий весенний вечер. Только тут стало видно, что этот человек, добровольно обрекший себя на нищенское существование, был несказанно богат: его любило, уважало, горько оплакивало множество людей! Всю длинную дорогу от домика бабушки Варвары Дмитриевны до кладбища гроб несли на руках. Были, конечно, все члены нашего кружка, много незнакомых нам учащихся разных учебных заведений нашего города. Больше всего было рабочих.
Над свежей могилой поставили простой белооструганный крест с надписью:
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Надпись сделали неправильно — слишком близко к правому концу перекрестия. Из-за этого у левого конца оказался пробел размером буквы на три. Тогда кто-то прибавил к надписи эти три недостающие буквы: НАШ.
Вся надпись получилась теперь такая:
НАШ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
Для всех, кто шел за гробом Александра Степановича и стоял у свежей его могилы, — для всех нас он был именно НАШ.
Степу Разина и Азриэла Шнира несчастье с Александром Степановичем спасло от расправы в полиции. Пока они выносили Александра Степановича из толпы и доставили его к Варваре Дмитриевне Забелиной, толпу демонстрантов оцепили и увели.
Но Степа и Шнир пригодились для другого дела…
Через несколько дней социал-демократические группы — польская, литовская, русская, еврейская — выпустили прокламацию на четырех языках:
Товарищи рабочие!Эти прокламации набирали и печатали Степа и Шнир. В распространении их, разноске по лестницам и квартирам, расклейке на стенах и заборах помогали все мы.
В наш край, где живут презираемые правительством поляки, литовцы, евреи, оно посылает Муравьевых и фон Валей — извергов, которых нельзя послать в другие места. Удивительно ли, что у нас имели место те ужасы, какие мы пережили 18 и 19 апреля, что у нас применили такое отвратительное, позорное наказание, как розги?
Но опозорены не мы. Несмываемое пятно позора легло только на самодержавие и его гнусных слуг. Теперь общественное мнение за нас, и все возмущение направлено против фон Валя и его прислужников!
Мы выставляем к позорному столбу губернатора фон Валя, полицеймейстера Назимова, доктора Михайлова, давшего свое ученое благословение на экзекуцию, приставов Снитко и Кончинского, околоточного Мартынова, городовых Цыбулъского и Милушу…
Мы говорим этим людям: "Все вы равно виноваты, одинаково достойны вечного презрения. Каждого из вас настигнет месть!
Ваши имена будут прокляты во веки веков!"
Комитет социал-демократической партии Польши.
Комитет Литовской социал-демократической партии.
Группа Российской социал-демократической рабочей партии.
Социал-демократический комитет бунда.
Глава двадцать четвертая. ЧЕРНЯВЫЙ ХЛОПЧИК
Дни, наступившие после событий 18 — 19 апреля, какие-то странные. Внешне как бы полное успокоение. Город живет обычной жизнью. На улицах, как всегда, людно. Магазины и рынки торгуют. Работают фабрики. Все делают свое дело. В том числе и мы, учащиеся, — сдаем экзамены, зубрим, волнуемся.
Но во всем этом есть скрытое напряжение. Все словно ждут чего-то, что неизбежно должно случиться!
Первого мая, спустя тринадцать дней после событий 18 — 19 апреля, напряжение ощущается особенно сильно. Будет или нет новая первомайская демонстрация? Об этом с волнением думают и друзья революционеров, и их враги.
Будет — не будет? Будет — не будет?
Но день Первого мая проходит в полном спокойствии. В стане врагов это вызывает ликование. Не знаю, чем проявляют это ликование губернатор фон Валь и его соратники — его «совет нечестивых!» — но Юзефа слыхала, как дежурный городовой на рынке похвалялся открыто, вслух:
— Ишь как врагов царевых приструнили! Всыпали им жару на подхвостницу — они и носу на улицу не кажут! Спужались!
А люди все-таки ждут… Чего?
«Каждого из вас настигнет месть!» Эти слова из прокламации все читали, и этой угрозе всем хочется верить! Из уст в уста передается фраза: «Не пройдут фон Валю даром эти розги!»
О полицейском враче Михайлове люди распускают всякие басни.
Особенным успехом пользуется рассказ, будто революционеры напали на него ночью, в пустынном месте, сильно избили, причем один из них от времени до времени будто бы считал у Михайлова пульс и говорил остальным: «Ничего, выдержит! Добавьте ему до полной порции!» Все — и те, что рассказывают, и те, что слушают этот рассказ, — знают, что это выдумка, этого не было…
Но какое удорольствие и рассказывать про это и слушать!
Упорно держится слух, будто в Петербург доложено о событиях и настроениях в нашем городе:
«Здесь создана группа из поляков и евреев — их человек 8 — 10, они вооружены револьверами и кинжалами, следят за фон Валем…»
Никто не знает, правда это или нет, но это может быть правдой, — это тоже радует людей!
Такая накаленная атмосфера выматывает душу хуже, чем болезнь, хуже, чем случившаяся уже беда. А нас, выпускных, это угнетает и отупляет больше, чем экзамены.
— Ну что вы все ходите, как в воду опущенные?! — сердится папа. — Сегодня воскресенье — ступайте куда-нибудь! Хотя бы в цирк, что ли. Эх, стыдно сказать — десять лет собираюсь я в цирк и не могу: больные не пускают!
Послушавшись папиного совета, Иван Константинович посылает Леню взять на вечер ложу в цирк.
Начинается представление. Оно прерывает знакомство Сенечки с цирковыми лампами и запахами.
Под бравурную музыку на арене появляются униформисты — цирковые служители — в одинаковых фраках, обшитых серебряным позументом. Униформисты выстраиваются двумя шпалерами. В раздвинутый на две стороны цирковой барьер выходит на арену владелец цирка — господин Чинизелли. Он снимает с головы ослепительно сверкающий цилиндр и, как хозяин, молчаливым поклоном приветствует собравшуюся в его цирке публику.
По давным-давно заведенному обычаю публика отвечает ему аплодисментами, но…
Но сегодня торжественный выход на арену господина Чинизелли срывается… Внимание зрителей, начавших было аплодировать ему, переключается на другое: одновременно с выходом на арену хозяина цирка в губернаторской ложе появляется хозяин города — губернатор фон Валь. Аплодисменты, начавшиеся было в адрес господина Чинизелли, стихают, рассыпаясь брызгами, как пролитая вода.
Весь цирк, все глаза смотрят на губернатора фон Валя.
А на что тут смотреть? Смотреть-то, собственно, и не на что.
Обыкновенный генерал в светло-серой жандармской шинели.
Обыкновенное лицо, хорошо раскормленная ряжка «его высокопревосходительства» — ни мыслей, ни чувств. О, такой вполне мог с утра до вечера смотреть на кровавую расправу над безоружными рабочими! Наверное, он совершенно спокойно отдал жестокую команду: «Сечь медленно!» Глядя тяжелым взглядом каменных зрачков на истерзанных по его приказу людей, он мог тяжело и тупо острить: «Вчера вы поздравили меня с Первым мая, а сегодня я поздравил вас».
Представление на арене продолжается. Сенечка самозабвенно хохочет над остротами клоунов. Раскрыв рот, он смотрит на акробатов, наездников, канатоходца, на дрессированных лошадей и ученых собачек…
Но мы с Леней смотрим на фон Валя. Иногда мы переглядываемся и снова устремляем глаза на генерала в светло-серой шинели.
— Перестань… — шепчет мне мама. — Смотри на арену!
Глазами я показываю маме на круглый амфитеатр — большинство зрителей смотрит туда же, куда и мы с Леней.
Не знаю, о чем они думают. Может быть, иные из них восхищаются фон Валем как героем, подавляющим революцию. Но я уверена, что очень многие смотрят на него так же, как Леня и я: с ненавистью. Не знаю, не могу объяснить, почему меня так неудержимо тянет смотреть на губернатора. Когда я была маленькая, папа, идя к героическому летчику Древницкому, взял меня с собой. «Это надо видеть! Это надо видеть и запомнить!» — старый друг Яков Ефимович освободится раньше и приедет вечером в цирк? Хоть попозднее, хоть в середине представления!
До начала циркового представления мы ходим по только что открытой ежегодной ярмарке. Новенькие ее ряды, пахнущие свежим тесом и краской, выстроены на базарной площади, рядом с цирком. Мы, дети, всегда радуемся ярмарке. В однообразной жизни провинциального города словно распахиваются окна в далекий мир, другие города, другие климаты и широты. Волга приветствует нас в лавке ярославца-мороженщика Шульгина. Из лавки Масюма Хабибулина пахнет вкусным запахом казанского мыла всех цветов радуги: зеленого — хвойного, земляничного — розового, белого — из черемухи, лилового — из сирени. Еще торгует Масюм Хабибулин яркими татарскими халатами, пестрыми тюбетейками, шитыми золотом мягкими туфлями-чувяками. В другой лавчонке — хирургически-чистенькой — две аккуратненькие остзейские немочки предлагают вниманию покупателей пряники из Митавы и мятные лепешечки «пеппермент-бомбон». В ташкентской лавке люди в чалмах предлагают изюм-сабзу, сушеные абрикосы, чернослив, шепталу, а сам владелец лавки, маленький старичок сморчок, сухонький, как предлагаемые им компоты, продает «вйхель-хвост» и «пыжмы от молей» (очень действенные и невыносимо вонючие средства против моли). Ласковый старичок сморчок, увидев среди нас моего брата Сенечку, закивал седенькой головкой, зацокал языком:
— Ай, ай, ай! Беленький мальчик, волоса золотой, такой миленький, кисанька-соловейчик! — и, подавая ему крупную черносливину, говорит словно поет: — Куший, мальчик, куший! Расти большой-большой!
Сенечка взял черносливину, шаркнул ножкой, поблагодарил:
— Мерси!
Но мысли Сенечки не здесь, и мечтает он не о черносливе, а о том, что он сегодня увидит — в первый раз в жизни! — в цирке.
Больше всего Сенечка боится опоздать к началу циркового представления. Он поминутно смотрит на маму умоляющими глазами.
— Мамочка… а не опоздаем мы?
Из-за Сенечки мы приходим в цирк едва ли не первые. Но Сенечка счастлив. Не беда, что еще ничего не представляют, — тут и без представления масса интересного. Как удивительно зажигают цирковые лампы! Много десятков огромных — не таких, как дома! — круглых керосиновых ламп спускают на цепочках с потолка, зажигают и тем же путем поднимают обратно к потолку…
Но во всем этом есть скрытое напряжение. Все словно ждут чего-то, что неизбежно должно случиться!
Первого мая, спустя тринадцать дней после событий 18 — 19 апреля, напряжение ощущается особенно сильно. Будет или нет новая первомайская демонстрация? Об этом с волнением думают и друзья революционеров, и их враги.
Будет — не будет? Будет — не будет?
Но день Первого мая проходит в полном спокойствии. В стане врагов это вызывает ликование. Не знаю, чем проявляют это ликование губернатор фон Валь и его соратники — его «совет нечестивых!» — но Юзефа слыхала, как дежурный городовой на рынке похвалялся открыто, вслух:
— Ишь как врагов царевых приструнили! Всыпали им жару на подхвостницу — они и носу на улицу не кажут! Спужались!
А люди все-таки ждут… Чего?
«Каждого из вас настигнет месть!» Эти слова из прокламации все читали, и этой угрозе всем хочется верить! Из уст в уста передается фраза: «Не пройдут фон Валю даром эти розги!»
О полицейском враче Михайлове люди распускают всякие басни.
Особенным успехом пользуется рассказ, будто революционеры напали на него ночью, в пустынном месте, сильно избили, причем один из них от времени до времени будто бы считал у Михайлова пульс и говорил остальным: «Ничего, выдержит! Добавьте ему до полной порции!» Все — и те, что рассказывают, и те, что слушают этот рассказ, — знают, что это выдумка, этого не было…
Но какое удорольствие и рассказывать про это и слушать!
Упорно держится слух, будто в Петербург доложено о событиях и настроениях в нашем городе:
«Здесь создана группа из поляков и евреев — их человек 8 — 10, они вооружены револьверами и кинжалами, следят за фон Валем…»
Никто не знает, правда это или нет, но это может быть правдой, — это тоже радует людей!
Такая накаленная атмосфера выматывает душу хуже, чем болезнь, хуже, чем случившаяся уже беда. А нас, выпускных, это угнетает и отупляет больше, чем экзамены.
— Ну что вы все ходите, как в воду опущенные?! — сердится папа. — Сегодня воскресенье — ступайте куда-нибудь! Хотя бы в цирк, что ли. Эх, стыдно сказать — десять лет собираюсь я в цирк и не могу: больные не пускают!
Послушавшись папиного совета, Иван Константинович посылает Леню взять на вечер ложу в цирк.
Начинается представление. Оно прерывает знакомство Сенечки с цирковыми лампами и запахами.
Под бравурную музыку на арене появляются униформисты — цирковые служители — в одинаковых фраках, обшитых серебряным позументом. Униформисты выстраиваются двумя шпалерами. В раздвинутый на две стороны цирковой барьер выходит на арену владелец цирка — господин Чинизелли. Он снимает с головы ослепительно сверкающий цилиндр и, как хозяин, молчаливым поклоном приветствует собравшуюся в его цирке публику.
По давным-давно заведенному обычаю публика отвечает ему аплодисментами, но…
Но сегодня торжественный выход на арену господина Чинизелли срывается… Внимание зрителей, начавших было аплодировать ему, переключается на другое: одновременно с выходом на арену хозяина цирка в губернаторской ложе появляется хозяин города — губернатор фон Валь. Аплодисменты, начавшиеся было в адрес господина Чинизелли, стихают, рассыпаясь брызгами, как пролитая вода.
Весь цирк, все глаза смотрят на губернатора фон Валя.
А на что тут смотреть? Смотреть-то, собственно, и не на что.
Обыкновенный генерал в светло-серой жандармской шинели.
Обыкновенное лицо, хорошо раскормленная ряжка «его высокопревосходительства» — ни мыслей, ни чувств. О, такой вполне мог с утра до вечера смотреть на кровавую расправу над безоружными рабочими! Наверное, он совершенно спокойно отдал жестокую команду: «Сечь медленно!» Глядя тяжелым взглядом каменных зрачков на истерзанных по его приказу людей, он мог тяжело и тупо острить: «Вчера вы поздравили меня с Первым мая, а сегодня я поздравил вас».
Представление на арене продолжается. Сенечка самозабвенно хохочет над остротами клоунов. Раскрыв рот, он смотрит на акробатов, наездников, канатоходца, на дрессированных лошадей и ученых собачек…
Но мы с Леней смотрим на фон Валя. Иногда мы переглядываемся и снова устремляем глаза на генерала в светло-серой шинели.
— Перестань… — шепчет мне мама. — Смотри на арену!
Глазами я показываю маме на круглый амфитеатр — большинство зрителей смотрит туда же, куда и мы с Леней.
Не знаю, о чем они думают. Может быть, иные из них восхищаются фон Валем как героем, подавляющим революцию. Но я уверена, что очень многие смотрят на него так же, как Леня и я: с ненавистью. Не знаю, не могу объяснить, почему меня так неудержимо тянет смотреть на губернатора. Когда я была маленькая, папа, идя к героическому летчику Древницкому, взял меня с собой. «Это надо видеть! Это надо видеть и запомнить!» — старый друг Яков Ефимович освободится раньше и приедет вечером в цирк? Хоть попозднее, хоть в середине представления!
До начала циркового представления мы ходим по только что открытой ежегодной ярмарке. Новенькие ее ряды, пахнущие свежим тесом и краской, выстроены на базарной площади, рядом с цирком. Мы, дети, всегда радуемся ярмарке. В однообразной жизни провинциального города словно распахиваются окна в далекий мир, другие города, другие климаты и широты. Волга приветствует нас в лавке ярославца-мороженщика Шульгина. Из лавки Масюма Хабибулина пахнет вкусным запахом казанского мыла всех цветов радуги: зеленого — хвойного, земляничного — розового, белого — из черемухи, лилового — из сирени. Еще торгует Масюм Хабибулин яркими татарскими халатами, пестрыми тюбетейками, шитыми золотом мягкими туфлями-чувяками. В другой лавчонке — хирургически-чистенькой — две аккуратненькие остзейские немочки предлагают вниманию покупателей пряники из Митавы и мятные лепешечки «пеппермент-бомбон». В ташкентской лавке люди в чалмах предлагают изюм-сабзу, сушеные абрикосы, чернослив, шепталу, а сам владелец лавки, маленький старичок сморчок, сухонький, как предлагаемые им компоты, продает «вйхель-хвост» и «пыжмы от молей» (очень действенные и невыносимо вонючие средства против моли). Ласковый старичок сморчок, увидев среди нас моего брата Сенечку, закивал седенькой головкой, зацокал языком:
— Ай, ай, ай! Беленький мальчик, волоса золотой, такой миленький, кисанька-соловейчик! — и, подавая ему крупную черносливину, говорит словно поет: — Куший, мальчик, куший! Расти большой-большой!
Сенечка взял черносливину, шаркнул ножкой, поблагодарил:
— Мерси!
Но мысли Сенечки не здесь, и мечтает он не о черносливе, а о том, что он сегодня увидит — в первый раз в жизни! — в цирке.
Больше всего Сенечка боится опоздать к началу циркового представления. Он поминутно смотрит на маму умоляющими глазами.
— Мамочка… а не опоздаем мы?
Из-за Сенечки мы приходим в цирк едва ли не первые. Но Сенечка счастлив. Не беда, что еще ничего не представляют, — тут и без представления масса интересного. Как удивительно зажигают цирковые лампы! Много десятков огромных — не таких, как дома! — круглых керосиновых ламп спускают на цепочках с потолка, зажигают и тем же путем поднимают обратно к потолку…
