Страница:
Ну, где еще такое увидишь? В цирке и пахнет не так, как дома.
Чем это пахнет?
Расширив ноздри, Сенечка шепотом определяет цирковые ароматы:
— Песком… Лошадками… Зверями… — сказал тогда папа. Сейчас, когда я смотрю на фон Валя, у меня то же чувство: это надо видеть, надо запомнить! Это надо ненавидеть всегда, всю жизнь!
Так впервые входит в мою жизнь ненависть. Смутное представление о том, что такие люди — враги, их надо ненавидеть, с ними надо бороться.
В антракте Иван Константинович, переглянувшись с мамой, просит нас остаться в ложе, не выходить.
— А как же к лошадкам? — огорчается Сенечка.
Ему обещали, что в антракте его поведут за кулисы — смотреть красавцев цирковых коней.
Сенечке объясняют, что сегодня к лошадкам не пускают: у лошадок корь, это заразительно. Сенечка с грустью смиряется: он мнителен, а корь, он знает, «это очень вредно для здоровья»!
В середине представления в нашу ложу входит запоздалый гость: папа! Он освободился раньше и приехал.
— Папа, — шепчу я, — посмотри на ту ложу, самую большую, над входом…
— Знаю. Видел, — коротко бросает папа. И добавляет с детским огорчением: — Надо же такое! Десять лет собирался я в цирк — и вот… извольте радоваться!
Представление кончилось. Медленно вместе со всей толпой мы подвигаемся к выходу из цирка. Вот мы уже на площади.
Одновременно с нами, из особого выхода — прямо из губернаторской ложи — выходит фон Валь.
Мы приостанавливаемся. Папа переглядывается с мамой и Иваном Константиновичем. Мы с Леней перехватываем папин взгляд и понимаем его. «Подождем, — говорит он, — пусть сперва уедет тот!»
И тут, словно разрезая ножом вечерний сумрак на площади, раздаются один за другим два выстрела.
Стоящий впереди нас человек поворачивает к нам веселое лицо:
— Хтось губернатора стрелил! — И, энергично работая локтями, он пробирается к месту происшествия.
Наступившая было на секунду тишина внезапно взрывается шумом, криками, полицейскими свистками.
— Держи! Лови! — раздается в разных местах.
И все перекрывает звериный рев стояшего неподалеку от нас городового.
— Поймали-и-и! — торжествующе кричит он.
— Ох! — жалостливо кричит женщина, стоящая на ступеньках одной из лестниц, ведущих в цирк. Оттуда ей видно то, чего не видим мы. — Хлопчика чернявого… Он и стрелял… Ох и бьют они его! Ох и бьют! — Женщина на мгновение даже зажмуривается.
— Доктора! Доктора! Губернатор ранен! — кричат где-то очень близко от нас.
Подхватив на руки перепуганного Сенечку, папа кричит нам:
«Ступайте за мной» — и, резко повернув, идет по площади в противоположную от происшествия сторону.
Дома я спрашиваю:
— Папа, когда кричали: «Доктора! Доктора!» — может быть, это не губернатору надо было помочь, а тому, другому… Чернявому хлопчику… Тому, кто стрелял!
— Чернявому хлопчику!.. — говорит папа с горечью. — Ему уже никто помочь не может!
Назавтра утром газеты печатают экстренное сообщение «о злодейском покушении на жизнь губернатора фон Валя». «К счастью, — говорится в экстренном сообщении, — жизнь губернатора вне опасности: он лишь легко ранен в ногу и в руку…»
В ближайшие дни мы узнаем подробнее о чернявом хлопчике.
Зовут его Гирш Лекерт. Ему двадцать два года. Он сапожник.
Шнир и Разин знают Лекерта. Они говорят: хороший паренек.
Умный, очень способный, хотя совсем неграмотный. Был членом подпольного профессионального союза сапожников. Товарищи Лекерта очень любят его за милый нрав, за смелость и находчивость, за всегдашнюю веселость.
Два года назад, рассказывают Шнир и Степа, в одном из маленьких городков нашего края арестовали троих молодых людей — они разбрасывали революционные прокламации. Арестованных заперли в квартире урядника, с тем чтобы на следующий день отвезти их в городскую тюрьму. Но рано утром на дом урядника напала большая группа молодежи под предводительством веселого чернявого юноши Лекерта. Они подвезли к дому две тележки, груженные камнями, и, ловко орудуя этим нехитрым оружием и отбиваясь от полиции, освободили арестованных товарищей и убежали вместе с ними. Один из участников этого дела, друг Лекерта, был ранен. Полиция его схватила. Его положили в госпиталь.
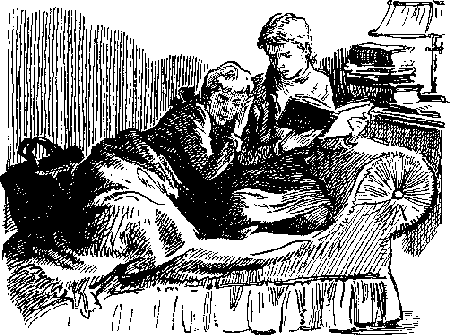 Казалось, помочь этому другу — арестованному, раненому — было невозможно: около его койки в госпитале день и ночь дежурил городовой. Через кого-то из персонала госпиталя Лекерт доставил раненому другу женское платье. Тот переоделся в уборной и спокойно вышел из госпиталя по черному ходу. На улице дожидалась телега, которая его и увезла.
Казалось, помочь этому другу — арестованному, раненому — было невозможно: около его койки в госпитале день и ночь дежурил городовой. Через кого-то из персонала госпиталя Лекерт доставил раненому другу женское платье. Тот переоделся в уборной и спокойно вышел из госпиталя по черному ходу. На улице дожидалась телега, которая его и увезла.
За все это — нападение на полицию, освобождение арестованных товарищей, за устройство побега раненого революционера из госпиталя, за участие в забастовках — Лекерта арестовали, посадили в тюрьму, а потом выслали в Екатеринославскую губернию под надзор полиции. Лекерт бежал оттуда и возвратился в наш город.
— Сюда, — говорит Шнир многозначительно, — Лекерта притягивал очень сильный магнит: молодая жена!
— Совсем девочка! — добавляет Степа Разин. — Семнадцать лет… И до чего красавица! Посмотришь — ослепнешь!
Жили Лекерт и его молодая жена очень трудно. Работы у него не было, сколько он ни искал… Прямо сказать — голодно жили! Но веселые были, счастливые, словно и не они голодают.
Лица Шнира и Степы омрачаются.
— Она, бедная, ребеночка ожидает, скоро уже должна родить! Подрастет он, спросит: «Где мой папа?» А папы его и на свете нет…
— А вы думаете, что… — спрашиваю я со страхом.
— Думать нечего. Затем и передали дело в военный суд, чтоб его повесили! Гражданский суд этого не может — ведь Лекерт не убил фон Валя, он только легко ранил его!
Дядя Мирон подтверждает: передача дела Лекерта в военный суд обещает самый тяжкий приговор. Да Лекерт и сам не облегчает, а отягощает свое положение. Дядя Мирон читал в суде копию с показаний, данных Лекертом. Все его показания пронизаны одним желанием: представить дело так, будто он был один, у него не было ни единомышленников, ни сообщников, никто ему не помогал, не влиял на него… "Я один задумал убить губернатора за подлые розги, которыми он хотел опозорить моих товарищей.
Для этого я купил револьвер с пятью боевыми патронами. Губернатора я в лицо не знал, поэтому и стал приходить каждый день в сквер и сидел на скамеечке против губернаторского дворца. Видел, как губернатор выезжает каждый день в своей пролетке и возвращается обратно. Поворачивая из ворот на улицу и обратно с улицы в ворота, пролетка всегда замедляет ход. Я хорошо рассмотрел лицо губернатора и запомнил его!" По словам дяди Мирона, от Лекерта все время добиваются признания, кто были его сообщники. Ему даже намекали, что, если он назовет их, это очень облегчит его участь. Но чернявый хлопчик упорно, твердо настаивает на том, что никаких сообщников у него не было.
Даже если бы Лекерт показал, что он не хотел убивать губернатора, а хотел только ранить, напугать его, это бы изменило его положение, но он упрямо и настойчиво повторяет: «Нет, я хотел убить губернатора!»
Сообщники у него были, это известно. Их было человек семьвосемь, целая группа. Они были вооружены, следили за выездами фон Валя, изучали маршруты его поездок. Но Лекерт упорно скрывает это.
Суд происходит 15 мая. Заседание суда длится всего несколько часов. Ведь это не суд, это комедия суда! Не вызван ни один свидетель! Суд не ищет, он и не хочет найти какие-нибудь новые обстоятельства, позволяющие ну хотя бы сослать Лекерта на вечную каторгу, но сохранить ему жизнь. Нет, суд имеет заранее принятое решение: казнить Лекерта и этим терроризировать революционную молодежь во всей России. Суд выносит приговор: смертная казнь через повешение.
Однако с приведением приговора в исполнение почему-то медлят. Ходит слух, что заминка эта объясняется отсутствием палача, Вообще-то, оказывается, по указу 1742 года даже всякий небольшой уездный город должен иметь своего профессионального палача, а губернскому городу полагаются целых два палача.
Палачей очень часто вербуют из числа наиболее тяжких уголовных преступников, осужденных, например, за особенно зверские убийства. Такой преступник, приговоренный к вечной каторге, берется исполнять обязанности палача — главным образом вешать — в расчете постепенно заработать себе смягчение участи.
Повесит некоторое — точно обусловленное — количество осужденных, и вечная каторга заменяется для него каторгой «на срок».
Повесит еще сколько-то осужденных (в большинстве — революционеров) — и срок каторги ему соответственно еще уменьшается. Кроме того, за каждого повешенного палач получает — особо — немалое денежное вознаграждение.
Так вот: исполнение приговора над Лекертом почему-то затягивается. Почему, никто не знает, но говорят, что причина заключается в том, что нет «хорошего палача»…
Как уже не раз случалось мне в этой книге, я сейчас забегу вперед. Через двадцать пять — тридцать лет после казни Лекерта, когда Советская власть нашла и раскрыла важнейшие, секретнейшие документы поверженного царского правительства, было найдено письмо одного из палачей-каторжников, А. Филипьева.
Этот зверь, сидя в петербургской пересыльной тюрьме, пишет «Господину Начальнику Охранного Отделения» нахальное безграмотное письмо… Почему, обижается он, ему, верой и правдой вешавшему людей, не стали «давать работу»? «В настоящее время, — пишет палач Филипьев, — вот май, а я томлюсь в одиночном заключении, мне кажется, что я не заслужил такого наказания, а одиночное заключение влияет на каждого человека и его органцым»[2]. Обиженный палач-каторжник просит сообщить ему, «сколько времени еще я должен буду содержатца в одиночном заключении на каких данных. Прошу сообщить мне не в продолжительное время и успокоить меня, мое положение в настоящее время очень незавидное».
Солнце всходило. Лекерт улыбнулся ему почти радостно. Этой улыбкой он встретил смерть…
Палач вышиб у него из-под ног скамейку. С криком «Готово!» палач с силой вцепился в ноги закачавшегося в петле тела и повис на них.
По требованию врача тело оставалось в петле в течение двадцати минут. После этого тело было вынуто из петли, и врач констатировал смерть.
Труп потащили к заранее вырытой яме. Один из городовых сказал палачу Филипьеву — тот был очень оживлен, помогал зарывать труп, — что на труп надо надеть заранее приготовленный саван.
Палач весело подмигнул:
— Обойдется жидюга и без савана! — и спрятал саван к себе за пазуху…
По тому месту, где зарыли тело Лекерта, дважды пронеслись две казачьи сотни, — они сровняли это место с землей.
Могилу эту искали многие и много. Ее так и не удалось найти.
Лекерт был повешен 28 мая (по старому стилю) 1902 года, в 3 часа 40 минут утра.
Все это, сейчас рассказанное, раскрылось лишь спустя много лет.
Но тогда, в ночь с 27 на 28 мая, мы об этом и не догадываемся. Мы даже не знаем, что именно в эту ночь происходит казнь чернявого хлопчика Гирша Лекерта.
Под утро я просыпаюсь на большом диване за ширмой, у папы в кабинете. Сюда меня переселили, когда начались выпускные экзамены: папин кабинет помещается на отшибе, он отделен от остальных комнат, и мои ночные «зубрильные» бдения (иногда с Люсей Сущевской или другой подругой) не мешают спать остальным обитателям нашей квартиры.
В эту ночь мы тоже занимались с Люсей. По ее выражению, мы «погибали над географией»… Перед рассветом Люся побежала домой, а я легла спать.
Просыпаюсь внезапно оттого, что в кабинет вошел папа и за ним еще кто-то — чужой, незнакомый.
Очевидно, папу пришли звать к больному. Папа — сам же называет себя «рассеянная башка!» — забыл, что я сплю в кабинете, и привел посетителя туда.
Сейчас, вероятно, часов пять утра. В комнате уже совсем светло. Притаившись за своей ширмой, ясно вижу в просветы между ее створками папу и незнакомого человека. Папа, заспанный, видно только что разбуженный, в накинутом на плечи пиджаке, стоит перед незнакомцем, не предлагая ему сесть. Тот растерянно оглядывается по сторонам, словно сам толком не понимает: куда это он забрел и зачем он это сделал? У него лицо, в Это письмо палача А. Филипьева, изливающего свои обиды и претензии, писано 15 мая 1902 года. Палача поспешили «успокоить», как он требовал в своем письме: через три дня его отправили в каш город — повесить Лекерта…
Помедлим еще немного — в том будущем, в которое мы забежали, — чтобы узнать о последних часах чернявого хлопчика Лекерта… Когда в ночь с 27 на 28 мая его везли на место казни, с ним в карете были раввин, пристав Снитко и конвой.
— Куда вы меня везете? — спросил Лекерт.
— На вокзал, — внушительно ответил Снитко. — На каторгу отправляем тебя.
Это был жестокий ответ. Дерево растет из семени десятки лет.
Но достаточно нескольких минут, чтобы из семечка надежды выросло в душе целое дерево радости, ожидания, жизни! Так было, наверное, и с Лекертом… Значит, не смерть? Значит, жить?
Это длилось всего минуту-другую. Лекерт увидел, что карета повернула не налево, не к вокзалу, как обещал пристав Снитко, а направо, к Военному Полю, где совершались казни.
— Вы меня обманули! — сказал Лекерт приставу.
— А конечно ж обманул! — подтвердил тот. — На виселицу везем. Куда же еще?
На Военном Поле уже был воздвигнут помост с виселицей.
Прибытия Лекерта уже дожидались представители суда, тюремный врач и другие лица, а также два полка пехоты и две казачьи сотни.
Секретарь суда прочитал приговор.
Лекерт выслушал его совершенно спокойно, словно и не о нем шла речь.
После оглашения приговора раввин обратился к Лекерту с увещанием раскаяться:
— Сын мой, ты преступил заповедь господа бога нашего — на горе Синайской он приказал нам: «Не убий!»
Лекерт посмотрел на раввина, — до этой минуты он слушал его равнодушно и ничего ему не отвечал.
— Раввин, почему вы говорите это мне, а не им? — Он кивнул на своих палачей. — Ведь они сейчас убьют меня!..
Товарищ прокурора предложил палачу Филипьеву привести приговор в исполнение.
Лекерту скрутили веревкой руки за спиной. Видимо, это причинило ему физическую боль — лицо его на миг исказилось, — но он ничего не сказал, не застонал. Со связанными руками он сам твердо взошел на помост.
Палач накинул петлю на его шею. Петля застряла на подбородке. Лекерт сделал движение головой, чтобы петля сползла на шею. Так стоял он несколько мгновений. Он казался совсем котором не на чем остановиться: ну, глаза, ну, нос, ну, ежик над узким лбом — в общем, как говорится, все, как у людей, — без особых примет. Это, видимо, очень нервный человек: в разговоре дергает плечом, иногда подбородком.
— Чем могу служить? — спрашивает папа неприязненно. — И почему, собственно, в такое неурочное время?..
Незнакомец опускается на стул и сидит с поникшей головой, как виноватый.
И вдруг, словно догадавшись, папа обеими руками берет незнакомца за плечи:
— Повесили?
— Повесили!.. Яков Ефимович, как он умер! Я ведь уже не раз видал…
— Да, — повторяет папа жестко, — вы уже, вероятно, не раз видали!
— Но этот… Как он умер! Как Христос на кресте!
Секунду папа и незнакомец молчат.
— И вы присутствовали при казни?
— По долгу службы, Яков Ефимович…
— Служба не нос, с ней не рождаются — ее берут или от нее отказываются!.. — строго говорит папа. — Вы осмотрели труп?
Констатировали смерть?
Незнакомец кивает.
— Так уходите! — кричит папа. — Слышите, уходите!
Незнакомец встает.
— Я уйду, Яков Ефимович. Я и оттуда уйду, даю вам слово!
— Вот когда уйдете оттуда — тогда и приходите сюда…
А сейчас вон из моего дома!
Заплетающимися, как у пьяного, ногами незнакомец долго, послепому, не попадает в дверь…
Потом слышно, как Юзефа выпускает его на лестницу и запирает входную дверь, громыхая цепочкой.
Я хочу выйти из-за ширмы, подойти к папе. Но он вдруг садится к письменному столу и — плачет. В первый раз в жизни я вижу, как плачет папа! И этот беспомощный, неумелый мужской плач, когда слезы стекают по носу и попадают в рот, поражает меня, как столбняком. Я стою за ширмой, я хочу к папе, все во мне рвется к нему, а ноги не слушаются.
Папа перестал плакать. Вздохнув, громко, как наплакавшийся ребенок, он вытирает глаза тыльной стороной обеих рук.
Тут только с меня спадает оцепенение. Я подхожу к папе и обнимаю его.
— Ты? — удивляется папа. — Что ты тут делаешь?
Ну что за человек! Ничего не помнит — я уже больше месяца ночую у него в кабинете…
— Папа, кто это был? Доктор Михайлов?
Папа безнадежно машет рукой:
— Нет, не Михайлов. Другая полицейская собака. Тюремный врач…
— А зачем он к тебе приходил?
— Спроси его! Я и руки ему не подаю. Уже давно…
Мы стоим с папой у раскрытого окна. В зелени больших деревьев на противоположном тротуаре громко перекликаются птицы — не то здороваются, не то ссорятся.
А солнце встает, такое сверкающее, такое новое, словно его сегодня в первый раз зажгли над землей!
— Пуговка… — Папа крепко обнимает меня. — Это надо помнить. Всегда, всю жизнь!
Глава двадцать пятая. ВЫПУСК
Чем это пахнет?
Расширив ноздри, Сенечка шепотом определяет цирковые ароматы:
— Песком… Лошадками… Зверями… — сказал тогда папа. Сейчас, когда я смотрю на фон Валя, у меня то же чувство: это надо видеть, надо запомнить! Это надо ненавидеть всегда, всю жизнь!
Так впервые входит в мою жизнь ненависть. Смутное представление о том, что такие люди — враги, их надо ненавидеть, с ними надо бороться.
В антракте Иван Константинович, переглянувшись с мамой, просит нас остаться в ложе, не выходить.
— А как же к лошадкам? — огорчается Сенечка.
Ему обещали, что в антракте его поведут за кулисы — смотреть красавцев цирковых коней.
Сенечке объясняют, что сегодня к лошадкам не пускают: у лошадок корь, это заразительно. Сенечка с грустью смиряется: он мнителен, а корь, он знает, «это очень вредно для здоровья»!
В середине представления в нашу ложу входит запоздалый гость: папа! Он освободился раньше и приехал.
— Папа, — шепчу я, — посмотри на ту ложу, самую большую, над входом…
— Знаю. Видел, — коротко бросает папа. И добавляет с детским огорчением: — Надо же такое! Десять лет собирался я в цирк — и вот… извольте радоваться!
Представление кончилось. Медленно вместе со всей толпой мы подвигаемся к выходу из цирка. Вот мы уже на площади.
Одновременно с нами, из особого выхода — прямо из губернаторской ложи — выходит фон Валь.
Мы приостанавливаемся. Папа переглядывается с мамой и Иваном Константиновичем. Мы с Леней перехватываем папин взгляд и понимаем его. «Подождем, — говорит он, — пусть сперва уедет тот!»
И тут, словно разрезая ножом вечерний сумрак на площади, раздаются один за другим два выстрела.
Стоящий впереди нас человек поворачивает к нам веселое лицо:
— Хтось губернатора стрелил! — И, энергично работая локтями, он пробирается к месту происшествия.
Наступившая было на секунду тишина внезапно взрывается шумом, криками, полицейскими свистками.
— Держи! Лови! — раздается в разных местах.
И все перекрывает звериный рев стояшего неподалеку от нас городового.
— Поймали-и-и! — торжествующе кричит он.
— Ох! — жалостливо кричит женщина, стоящая на ступеньках одной из лестниц, ведущих в цирк. Оттуда ей видно то, чего не видим мы. — Хлопчика чернявого… Он и стрелял… Ох и бьют они его! Ох и бьют! — Женщина на мгновение даже зажмуривается.
— Доктора! Доктора! Губернатор ранен! — кричат где-то очень близко от нас.
Подхватив на руки перепуганного Сенечку, папа кричит нам:
«Ступайте за мной» — и, резко повернув, идет по площади в противоположную от происшествия сторону.
Дома я спрашиваю:
— Папа, когда кричали: «Доктора! Доктора!» — может быть, это не губернатору надо было помочь, а тому, другому… Чернявому хлопчику… Тому, кто стрелял!
— Чернявому хлопчику!.. — говорит папа с горечью. — Ему уже никто помочь не может!
Назавтра утром газеты печатают экстренное сообщение «о злодейском покушении на жизнь губернатора фон Валя». «К счастью, — говорится в экстренном сообщении, — жизнь губернатора вне опасности: он лишь легко ранен в ногу и в руку…»
В ближайшие дни мы узнаем подробнее о чернявом хлопчике.
Зовут его Гирш Лекерт. Ему двадцать два года. Он сапожник.
Шнир и Разин знают Лекерта. Они говорят: хороший паренек.
Умный, очень способный, хотя совсем неграмотный. Был членом подпольного профессионального союза сапожников. Товарищи Лекерта очень любят его за милый нрав, за смелость и находчивость, за всегдашнюю веселость.
Два года назад, рассказывают Шнир и Степа, в одном из маленьких городков нашего края арестовали троих молодых людей — они разбрасывали революционные прокламации. Арестованных заперли в квартире урядника, с тем чтобы на следующий день отвезти их в городскую тюрьму. Но рано утром на дом урядника напала большая группа молодежи под предводительством веселого чернявого юноши Лекерта. Они подвезли к дому две тележки, груженные камнями, и, ловко орудуя этим нехитрым оружием и отбиваясь от полиции, освободили арестованных товарищей и убежали вместе с ними. Один из участников этого дела, друг Лекерта, был ранен. Полиция его схватила. Его положили в госпиталь.
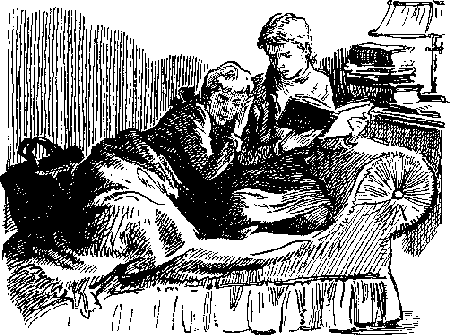
За все это — нападение на полицию, освобождение арестованных товарищей, за устройство побега раненого революционера из госпиталя, за участие в забастовках — Лекерта арестовали, посадили в тюрьму, а потом выслали в Екатеринославскую губернию под надзор полиции. Лекерт бежал оттуда и возвратился в наш город.
— Сюда, — говорит Шнир многозначительно, — Лекерта притягивал очень сильный магнит: молодая жена!
— Совсем девочка! — добавляет Степа Разин. — Семнадцать лет… И до чего красавица! Посмотришь — ослепнешь!
Жили Лекерт и его молодая жена очень трудно. Работы у него не было, сколько он ни искал… Прямо сказать — голодно жили! Но веселые были, счастливые, словно и не они голодают.
Лица Шнира и Степы омрачаются.
— Она, бедная, ребеночка ожидает, скоро уже должна родить! Подрастет он, спросит: «Где мой папа?» А папы его и на свете нет…
— А вы думаете, что… — спрашиваю я со страхом.
— Думать нечего. Затем и передали дело в военный суд, чтоб его повесили! Гражданский суд этого не может — ведь Лекерт не убил фон Валя, он только легко ранил его!
Дядя Мирон подтверждает: передача дела Лекерта в военный суд обещает самый тяжкий приговор. Да Лекерт и сам не облегчает, а отягощает свое положение. Дядя Мирон читал в суде копию с показаний, данных Лекертом. Все его показания пронизаны одним желанием: представить дело так, будто он был один, у него не было ни единомышленников, ни сообщников, никто ему не помогал, не влиял на него… "Я один задумал убить губернатора за подлые розги, которыми он хотел опозорить моих товарищей.
Для этого я купил револьвер с пятью боевыми патронами. Губернатора я в лицо не знал, поэтому и стал приходить каждый день в сквер и сидел на скамеечке против губернаторского дворца. Видел, как губернатор выезжает каждый день в своей пролетке и возвращается обратно. Поворачивая из ворот на улицу и обратно с улицы в ворота, пролетка всегда замедляет ход. Я хорошо рассмотрел лицо губернатора и запомнил его!" По словам дяди Мирона, от Лекерта все время добиваются признания, кто были его сообщники. Ему даже намекали, что, если он назовет их, это очень облегчит его участь. Но чернявый хлопчик упорно, твердо настаивает на том, что никаких сообщников у него не было.
Даже если бы Лекерт показал, что он не хотел убивать губернатора, а хотел только ранить, напугать его, это бы изменило его положение, но он упрямо и настойчиво повторяет: «Нет, я хотел убить губернатора!»
Сообщники у него были, это известно. Их было человек семьвосемь, целая группа. Они были вооружены, следили за выездами фон Валя, изучали маршруты его поездок. Но Лекерт упорно скрывает это.
Суд происходит 15 мая. Заседание суда длится всего несколько часов. Ведь это не суд, это комедия суда! Не вызван ни один свидетель! Суд не ищет, он и не хочет найти какие-нибудь новые обстоятельства, позволяющие ну хотя бы сослать Лекерта на вечную каторгу, но сохранить ему жизнь. Нет, суд имеет заранее принятое решение: казнить Лекерта и этим терроризировать революционную молодежь во всей России. Суд выносит приговор: смертная казнь через повешение.
Однако с приведением приговора в исполнение почему-то медлят. Ходит слух, что заминка эта объясняется отсутствием палача, Вообще-то, оказывается, по указу 1742 года даже всякий небольшой уездный город должен иметь своего профессионального палача, а губернскому городу полагаются целых два палача.
Палачей очень часто вербуют из числа наиболее тяжких уголовных преступников, осужденных, например, за особенно зверские убийства. Такой преступник, приговоренный к вечной каторге, берется исполнять обязанности палача — главным образом вешать — в расчете постепенно заработать себе смягчение участи.
Повесит некоторое — точно обусловленное — количество осужденных, и вечная каторга заменяется для него каторгой «на срок».
Повесит еще сколько-то осужденных (в большинстве — революционеров) — и срок каторги ему соответственно еще уменьшается. Кроме того, за каждого повешенного палач получает — особо — немалое денежное вознаграждение.
Так вот: исполнение приговора над Лекертом почему-то затягивается. Почему, никто не знает, но говорят, что причина заключается в том, что нет «хорошего палача»…
Как уже не раз случалось мне в этой книге, я сейчас забегу вперед. Через двадцать пять — тридцать лет после казни Лекерта, когда Советская власть нашла и раскрыла важнейшие, секретнейшие документы поверженного царского правительства, было найдено письмо одного из палачей-каторжников, А. Филипьева.
Этот зверь, сидя в петербургской пересыльной тюрьме, пишет «Господину Начальнику Охранного Отделения» нахальное безграмотное письмо… Почему, обижается он, ему, верой и правдой вешавшему людей, не стали «давать работу»? «В настоящее время, — пишет палач Филипьев, — вот май, а я томлюсь в одиночном заключении, мне кажется, что я не заслужил такого наказания, а одиночное заключение влияет на каждого человека и его органцым»[2]. Обиженный палач-каторжник просит сообщить ему, «сколько времени еще я должен буду содержатца в одиночном заключении на каких данных. Прошу сообщить мне не в продолжительное время и успокоить меня, мое положение в настоящее время очень незавидное».
Солнце всходило. Лекерт улыбнулся ему почти радостно. Этой улыбкой он встретил смерть…
Палач вышиб у него из-под ног скамейку. С криком «Готово!» палач с силой вцепился в ноги закачавшегося в петле тела и повис на них.
По требованию врача тело оставалось в петле в течение двадцати минут. После этого тело было вынуто из петли, и врач констатировал смерть.
Труп потащили к заранее вырытой яме. Один из городовых сказал палачу Филипьеву — тот был очень оживлен, помогал зарывать труп, — что на труп надо надеть заранее приготовленный саван.
Палач весело подмигнул:
— Обойдется жидюга и без савана! — и спрятал саван к себе за пазуху…
По тому месту, где зарыли тело Лекерта, дважды пронеслись две казачьи сотни, — они сровняли это место с землей.
Могилу эту искали многие и много. Ее так и не удалось найти.
Лекерт был повешен 28 мая (по старому стилю) 1902 года, в 3 часа 40 минут утра.
Все это, сейчас рассказанное, раскрылось лишь спустя много лет.
Но тогда, в ночь с 27 на 28 мая, мы об этом и не догадываемся. Мы даже не знаем, что именно в эту ночь происходит казнь чернявого хлопчика Гирша Лекерта.
Под утро я просыпаюсь на большом диване за ширмой, у папы в кабинете. Сюда меня переселили, когда начались выпускные экзамены: папин кабинет помещается на отшибе, он отделен от остальных комнат, и мои ночные «зубрильные» бдения (иногда с Люсей Сущевской или другой подругой) не мешают спать остальным обитателям нашей квартиры.
В эту ночь мы тоже занимались с Люсей. По ее выражению, мы «погибали над географией»… Перед рассветом Люся побежала домой, а я легла спать.
Просыпаюсь внезапно оттого, что в кабинет вошел папа и за ним еще кто-то — чужой, незнакомый.
Очевидно, папу пришли звать к больному. Папа — сам же называет себя «рассеянная башка!» — забыл, что я сплю в кабинете, и привел посетителя туда.
Сейчас, вероятно, часов пять утра. В комнате уже совсем светло. Притаившись за своей ширмой, ясно вижу в просветы между ее створками папу и незнакомого человека. Папа, заспанный, видно только что разбуженный, в накинутом на плечи пиджаке, стоит перед незнакомцем, не предлагая ему сесть. Тот растерянно оглядывается по сторонам, словно сам толком не понимает: куда это он забрел и зачем он это сделал? У него лицо, в Это письмо палача А. Филипьева, изливающего свои обиды и претензии, писано 15 мая 1902 года. Палача поспешили «успокоить», как он требовал в своем письме: через три дня его отправили в каш город — повесить Лекерта…
Помедлим еще немного — в том будущем, в которое мы забежали, — чтобы узнать о последних часах чернявого хлопчика Лекерта… Когда в ночь с 27 на 28 мая его везли на место казни, с ним в карете были раввин, пристав Снитко и конвой.
— Куда вы меня везете? — спросил Лекерт.
— На вокзал, — внушительно ответил Снитко. — На каторгу отправляем тебя.
Это был жестокий ответ. Дерево растет из семени десятки лет.
Но достаточно нескольких минут, чтобы из семечка надежды выросло в душе целое дерево радости, ожидания, жизни! Так было, наверное, и с Лекертом… Значит, не смерть? Значит, жить?
Это длилось всего минуту-другую. Лекерт увидел, что карета повернула не налево, не к вокзалу, как обещал пристав Снитко, а направо, к Военному Полю, где совершались казни.
— Вы меня обманули! — сказал Лекерт приставу.
— А конечно ж обманул! — подтвердил тот. — На виселицу везем. Куда же еще?
На Военном Поле уже был воздвигнут помост с виселицей.
Прибытия Лекерта уже дожидались представители суда, тюремный врач и другие лица, а также два полка пехоты и две казачьи сотни.
Секретарь суда прочитал приговор.
Лекерт выслушал его совершенно спокойно, словно и не о нем шла речь.
После оглашения приговора раввин обратился к Лекерту с увещанием раскаяться:
— Сын мой, ты преступил заповедь господа бога нашего — на горе Синайской он приказал нам: «Не убий!»
Лекерт посмотрел на раввина, — до этой минуты он слушал его равнодушно и ничего ему не отвечал.
— Раввин, почему вы говорите это мне, а не им? — Он кивнул на своих палачей. — Ведь они сейчас убьют меня!..
Товарищ прокурора предложил палачу Филипьеву привести приговор в исполнение.
Лекерту скрутили веревкой руки за спиной. Видимо, это причинило ему физическую боль — лицо его на миг исказилось, — но он ничего не сказал, не застонал. Со связанными руками он сам твердо взошел на помост.
Палач накинул петлю на его шею. Петля застряла на подбородке. Лекерт сделал движение головой, чтобы петля сползла на шею. Так стоял он несколько мгновений. Он казался совсем котором не на чем остановиться: ну, глаза, ну, нос, ну, ежик над узким лбом — в общем, как говорится, все, как у людей, — без особых примет. Это, видимо, очень нервный человек: в разговоре дергает плечом, иногда подбородком.
— Чем могу служить? — спрашивает папа неприязненно. — И почему, собственно, в такое неурочное время?..
Незнакомец опускается на стул и сидит с поникшей головой, как виноватый.
И вдруг, словно догадавшись, папа обеими руками берет незнакомца за плечи:
— Повесили?
— Повесили!.. Яков Ефимович, как он умер! Я ведь уже не раз видал…
— Да, — повторяет папа жестко, — вы уже, вероятно, не раз видали!
— Но этот… Как он умер! Как Христос на кресте!
Секунду папа и незнакомец молчат.
— И вы присутствовали при казни?
— По долгу службы, Яков Ефимович…
— Служба не нос, с ней не рождаются — ее берут или от нее отказываются!.. — строго говорит папа. — Вы осмотрели труп?
Констатировали смерть?
Незнакомец кивает.
— Так уходите! — кричит папа. — Слышите, уходите!
Незнакомец встает.
— Я уйду, Яков Ефимович. Я и оттуда уйду, даю вам слово!
— Вот когда уйдете оттуда — тогда и приходите сюда…
А сейчас вон из моего дома!
Заплетающимися, как у пьяного, ногами незнакомец долго, послепому, не попадает в дверь…
Потом слышно, как Юзефа выпускает его на лестницу и запирает входную дверь, громыхая цепочкой.
Я хочу выйти из-за ширмы, подойти к папе. Но он вдруг садится к письменному столу и — плачет. В первый раз в жизни я вижу, как плачет папа! И этот беспомощный, неумелый мужской плач, когда слезы стекают по носу и попадают в рот, поражает меня, как столбняком. Я стою за ширмой, я хочу к папе, все во мне рвется к нему, а ноги не слушаются.
Папа перестал плакать. Вздохнув, громко, как наплакавшийся ребенок, он вытирает глаза тыльной стороной обеих рук.
Тут только с меня спадает оцепенение. Я подхожу к папе и обнимаю его.
— Ты? — удивляется папа. — Что ты тут делаешь?
Ну что за человек! Ничего не помнит — я уже больше месяца ночую у него в кабинете…
— Папа, кто это был? Доктор Михайлов?
Папа безнадежно машет рукой:
— Нет, не Михайлов. Другая полицейская собака. Тюремный врач…
— А зачем он к тебе приходил?
— Спроси его! Я и руки ему не подаю. Уже давно…
Мы стоим с папой у раскрытого окна. В зелени больших деревьев на противоположном тротуаре громко перекликаются птицы — не то здороваются, не то ссорятся.
А солнце встает, такое сверкающее, такое новое, словно его сегодня в первый раз зажгли над землей!
— Пуговка… — Папа крепко обнимает меня. — Это надо помнить. Всегда, всю жизнь!
Глава двадцать пятая. ВЫПУСК
Говорят, в столичных институтах устраивают выпускные балы. Выпускницы могут приглашать на такой бал своих родных и знакомых. Институт сияет огнями. Под сверкающими люстрами актового зала, скользя по зеркальному паркету, кружатся в танцах пары.
А есть уже, говорят, в Петербурге и в Москве новые гимназии — не правительственные, а частные. Там выпуск справляют, как проводы которого-нибудь из членов доброй, дружной семьи.
На выпуск приходят все учителя и учительницы, директор, начальница, приходят и родные выпускных. Вечер проходит весело, непринужденно. Танцуют учителя с ученицами, выпускницы с приглашенными и друг с другом. Все знают: связь бывших учениц с гимназией не оборвется. Куда бы их ни забросила судьба, но, приезжая в родной город, они будут приходить в свою гимназию, к своим старым учителям, как в отчий дом.
Хорошо, верно, учиться в такой школе!
У нас, в нашем институте, выпуск обставлен на редкость бездарно.
— Скажем прямо, — говорит Люся Сущевская, — это не «проводы в жизнь», а похороны по пятому разряду: без музыки!
И правит погребальной колесницей сам покойник!
Торжественность только в том, что мы приходим в этот день в белых фартуках. Никого из наших учителей и учительниц нет.
Их, наверное, даже и не позвали. А возможно, у них самих не было желания проводить нас в жизнь.
Присутствует на выпуске одна только Мопся, и она очень взволнована. Ведь это ее выпуск, который она вела целых семь лет!
Мопся очень парадная: в новом синем платье, кружевное жабо заколото у ворота нарядной брошкой. На Мопсины глаза поминутно навертываются слезы. Я вдруг понимаю, как горько одиночество такой Мопси…
Церемония вручения нам аттестатов самая будничная. Ну вот как, например, нам всем, бывало, прививали в институте оспу, что ли…
Мы в последний раз строимся парами. Мопся в последний раз ведет нас в актовый зал.
Там, недалеко от входной двери, поставлен столик. На нем — стопка новеньких аттестатов. Около этого столика стоит наш директор — Федор Дмитриевич Миртов. Он у нас новый — всего с осени — и еще более чужой нам, чем прежний, ныне покойный директор Тупицын.
Федор Дмитриевич Миртов какой-то тускло-неуловимый.
Глаза его на тебя не смотрят. Говорит он скучно. За весь учебный год никто не видел, чтобы он улыбнулся или хотя бы разозлился.
«Амеба!» — прозвал его кто-то из девочек, и это очень метко.
Но вот мы вошли в зал. Нас остановили в нескольких шагах от столика с аттестатами. Не громко, тягуче-серо (так, наверное, говорила бы амеба, если бы ей была дана способность говорить!) директор вызывает по списку:
— Фейгель Мария.
Подошедшей к столику Мане Фейгель директор сообщает, словно читает по написанному:
— По постановлению Педагогического совета, воспитанница Фейгель Мария за благонравие и отличные успехи в науках награждается золотой медалью.
Среди выпускниц оживление. Маню мы все не просто любим, но уважительно любим, признаем ее превосходство над всеми нами.
Но директор уже сунул Мане аттестат и руку для пожатия:
— Поздравляю вас.
— Благодарю вас, — отвечает Маня, делает реверанс и отходит.
Становится уже скучно. Все одно и то же: выход каждой выпускницы к столику, вручение ей аттестата, рукопожатие директора, «поздравляю вас», «благодарю вас», реверанс и возвращение на место.
Жду своей очереди уже без всякого трепета — ведь все будет такое же, ничего нового…
А вот, оказывается, и нет! Когда директор вызывает меня и я подхожу к столику с аттестатом, меня все-таки ожидает новая подробность: рука директора оказывается холодной и слегка влажной — как большая сырая котлета!
Но вот аттестаты вручены. Директор слегка поднимает руку.
Сейчас он скажет речь.
— Поздравляю вас с окончанием курса наук. Будьте счастливы. Помните, что Россия — отечество наше — стоит на трех вечных основах: это православие, самодержавие и народность. Веруйте в бога, будьте хорошими семьянинками, избегайте зла. Да будет с вами мир и божия благодать…
Церемония кончена. Директор уходит, не взглянув в нашу сторону.
Мы в последний раз обходим классы, коридоры. Особенно сердечно прощаемся с Пингвином.
Тепло прощаемся с Мопсей. Она, бедняга, геройски борется со своим волнением. На лице ее пятна коричневого румянца; она поминутно подносит к губам нарядный кружевной платочек. Обнимает и целует каждую из нас — не только своих, из бывшего первого отделения, но и всех нас, из второго. Отбросив чопорное «вы», она говорит нам матерински:
— Ну, ну, Христос с тобой! Хорошая, хорошая девочка!..
Дай тебе, боже…
Вот и все. Весь выпускной праздник.
Нет, праздник, оказывается, впереди!
Внизу, в вестибюле, толпа народу. Мамы, тети, родные, младшие братья и сестры. Все они полны гордости за нас — ведь мы победили все трудности и выдержали все испытания!
Тут и Барина бабушка Варвара Дмитриевна Забелина.
И «тетечка» Мели Норейко, по обыкновению разряженная пестро, как попугай. Рядом с нею — Манина мама, Бэлла Михайловна, скромно одетая, приветливая, сияющая радостью за обеих своих дочек: Маню и Катеньку Кандаурову. Как васильки во ржи, цветут добротой наивные глаза «Фиктории Ифан», Люсиной мамы. Ей нелегко «выводить дочку в люди» — она, труженица, горбом и мозолями заработала сегодняшний светлый день!
Еще спускаясь по лестнице, я вижу в толпе родных мою маму.
Давно ли, кажется, привела она сюда меня, десятилетнюю, экзаменоваться в первый класс? Я тогда поднималась вверх по этой лестнице и, оглядываясь на маму, оставшуюся среди других мам, видела, как в ее дрожащих от волнения руках трепыхаются ленточки моей детской шляпы… Сегодня рядом с мамой стоит Сенечка с громадным букетом поздней персидской сирени. Папы, конечно, нет — в этот час он в госпитале, — но вместо папы пришел дедушка, мой милый, несносный скандалист дедушка. Он разглаживает на обе стороны бороду и строго смотрит на всех окружающих: всем своим видом дедушка напоминает о том, что человек должен быть человеком, а не свиньей! Завидев меня издали, Сенечка машет мне букетом в знак приветствия.
И, наверное, дедушка делает ему строгое замечание:
— Букет у тебя не для того, чтобы ковырять им в чужих носах!
Толпа выпускниц с их родными выливается на улицу.
У подъезда института стоит вереница экипажей, колясок, пролеток, извозчичьих дрожек.
Снова объятия и поцелуи — это уже выпускницы прощаются друг с другом, обещают писать письма, обмениваются адресами, зовут друг друга в гости. Приглашений — тьма! Даже при желании невозможно поспеть всюду.
Хорошенькая Леля Семилейская садится со своей мамой в пароконную коляску. Очень элегантная и милая Маня Ярошинская — дочь владельца того шикарного ателье мод, где шили для мадам Бурдес бальный туалет, испакощенный потом кошками, — уезжает в красивой пролетке с английской упряжью.
— Звощик! — визгливо зовет Мелина «тетечка» и важно громоздится с Мелей на узкое сиденье извозчичьих дрожек.
Обе — и тетя и племянница — пухленькие, кругленькие, как сладкие пончики с вареньем. На сытеньких личиках, словно сахарная пудра, сияет горделивое самодовольство: «Мы из выжших! Пусть нищие плетутся пешком, на то они и нищие. А мы можем себе позволить…»
У меня в голове толкаются неясные мысли: "А про Соню и ее маму папа сказал бы, что это «нужно помнить»? Вот про этот жестокий стыд за стоптанную обувь, за перелицованное платье?..
И про гордость Мели, тщеславящейся попугайным нарядом «тетечки», шикарным рестораном «папульки», возможностью не ходить пешком, а ездить хотя бы в измызганной извозчичьей пролетке?.. Да, да, это тоже надо запомнить! На всю жизнь!
Первый наш «визит» — на Шопеновскую улицу, к Гороховым. Со времени экзамена по алгебре сюда ходила только Маня — на свои ежедневные занятия с Досей Гороховой.
В подъезде, где живут Гороховы, Маня останавливает нас.
— Вот что! — заявляет она очень решительно. — Ни одного слова о том… Понимаете? Можете рассказывать, как кто сдал географию, как кто чуть не срезался по физике. Но ни геометрии, ни алгебры у вас не было. Понимаете? Не было! — еще раз подчеркивает Маня.
А есть уже, говорят, в Петербурге и в Москве новые гимназии — не правительственные, а частные. Там выпуск справляют, как проводы которого-нибудь из членов доброй, дружной семьи.
На выпуск приходят все учителя и учительницы, директор, начальница, приходят и родные выпускных. Вечер проходит весело, непринужденно. Танцуют учителя с ученицами, выпускницы с приглашенными и друг с другом. Все знают: связь бывших учениц с гимназией не оборвется. Куда бы их ни забросила судьба, но, приезжая в родной город, они будут приходить в свою гимназию, к своим старым учителям, как в отчий дом.
Хорошо, верно, учиться в такой школе!
У нас, в нашем институте, выпуск обставлен на редкость бездарно.
— Скажем прямо, — говорит Люся Сущевская, — это не «проводы в жизнь», а похороны по пятому разряду: без музыки!
И правит погребальной колесницей сам покойник!
Торжественность только в том, что мы приходим в этот день в белых фартуках. Никого из наших учителей и учительниц нет.
Их, наверное, даже и не позвали. А возможно, у них самих не было желания проводить нас в жизнь.
Присутствует на выпуске одна только Мопся, и она очень взволнована. Ведь это ее выпуск, который она вела целых семь лет!
Мопся очень парадная: в новом синем платье, кружевное жабо заколото у ворота нарядной брошкой. На Мопсины глаза поминутно навертываются слезы. Я вдруг понимаю, как горько одиночество такой Мопси…
Церемония вручения нам аттестатов самая будничная. Ну вот как, например, нам всем, бывало, прививали в институте оспу, что ли…
Мы в последний раз строимся парами. Мопся в последний раз ведет нас в актовый зал.
Там, недалеко от входной двери, поставлен столик. На нем — стопка новеньких аттестатов. Около этого столика стоит наш директор — Федор Дмитриевич Миртов. Он у нас новый — всего с осени — и еще более чужой нам, чем прежний, ныне покойный директор Тупицын.
Федор Дмитриевич Миртов какой-то тускло-неуловимый.
Глаза его на тебя не смотрят. Говорит он скучно. За весь учебный год никто не видел, чтобы он улыбнулся или хотя бы разозлился.
«Амеба!» — прозвал его кто-то из девочек, и это очень метко.
Но вот мы вошли в зал. Нас остановили в нескольких шагах от столика с аттестатами. Не громко, тягуче-серо (так, наверное, говорила бы амеба, если бы ей была дана способность говорить!) директор вызывает по списку:
— Фейгель Мария.
Подошедшей к столику Мане Фейгель директор сообщает, словно читает по написанному:
— По постановлению Педагогического совета, воспитанница Фейгель Мария за благонравие и отличные успехи в науках награждается золотой медалью.
Среди выпускниц оживление. Маню мы все не просто любим, но уважительно любим, признаем ее превосходство над всеми нами.
Но директор уже сунул Мане аттестат и руку для пожатия:
— Поздравляю вас.
— Благодарю вас, — отвечает Маня, делает реверанс и отходит.
Становится уже скучно. Все одно и то же: выход каждой выпускницы к столику, вручение ей аттестата, рукопожатие директора, «поздравляю вас», «благодарю вас», реверанс и возвращение на место.
Жду своей очереди уже без всякого трепета — ведь все будет такое же, ничего нового…
А вот, оказывается, и нет! Когда директор вызывает меня и я подхожу к столику с аттестатом, меня все-таки ожидает новая подробность: рука директора оказывается холодной и слегка влажной — как большая сырая котлета!
Но вот аттестаты вручены. Директор слегка поднимает руку.
Сейчас он скажет речь.
— Поздравляю вас с окончанием курса наук. Будьте счастливы. Помните, что Россия — отечество наше — стоит на трех вечных основах: это православие, самодержавие и народность. Веруйте в бога, будьте хорошими семьянинками, избегайте зла. Да будет с вами мир и божия благодать…
Церемония кончена. Директор уходит, не взглянув в нашу сторону.
Мы в последний раз обходим классы, коридоры. Особенно сердечно прощаемся с Пингвином.
Тепло прощаемся с Мопсей. Она, бедняга, геройски борется со своим волнением. На лице ее пятна коричневого румянца; она поминутно подносит к губам нарядный кружевной платочек. Обнимает и целует каждую из нас — не только своих, из бывшего первого отделения, но и всех нас, из второго. Отбросив чопорное «вы», она говорит нам матерински:
— Ну, ну, Христос с тобой! Хорошая, хорошая девочка!..
Дай тебе, боже…
Вот и все. Весь выпускной праздник.
Нет, праздник, оказывается, впереди!
Внизу, в вестибюле, толпа народу. Мамы, тети, родные, младшие братья и сестры. Все они полны гордости за нас — ведь мы победили все трудности и выдержали все испытания!
Тут и Барина бабушка Варвара Дмитриевна Забелина.
И «тетечка» Мели Норейко, по обыкновению разряженная пестро, как попугай. Рядом с нею — Манина мама, Бэлла Михайловна, скромно одетая, приветливая, сияющая радостью за обеих своих дочек: Маню и Катеньку Кандаурову. Как васильки во ржи, цветут добротой наивные глаза «Фиктории Ифан», Люсиной мамы. Ей нелегко «выводить дочку в люди» — она, труженица, горбом и мозолями заработала сегодняшний светлый день!
Еще спускаясь по лестнице, я вижу в толпе родных мою маму.
Давно ли, кажется, привела она сюда меня, десятилетнюю, экзаменоваться в первый класс? Я тогда поднималась вверх по этой лестнице и, оглядываясь на маму, оставшуюся среди других мам, видела, как в ее дрожащих от волнения руках трепыхаются ленточки моей детской шляпы… Сегодня рядом с мамой стоит Сенечка с громадным букетом поздней персидской сирени. Папы, конечно, нет — в этот час он в госпитале, — но вместо папы пришел дедушка, мой милый, несносный скандалист дедушка. Он разглаживает на обе стороны бороду и строго смотрит на всех окружающих: всем своим видом дедушка напоминает о том, что человек должен быть человеком, а не свиньей! Завидев меня издали, Сенечка машет мне букетом в знак приветствия.
И, наверное, дедушка делает ему строгое замечание:
— Букет у тебя не для того, чтобы ковырять им в чужих носах!
Толпа выпускниц с их родными выливается на улицу.
У подъезда института стоит вереница экипажей, колясок, пролеток, извозчичьих дрожек.
Снова объятия и поцелуи — это уже выпускницы прощаются друг с другом, обещают писать письма, обмениваются адресами, зовут друг друга в гости. Приглашений — тьма! Даже при желании невозможно поспеть всюду.
Хорошенькая Леля Семилейская садится со своей мамой в пароконную коляску. Очень элегантная и милая Маня Ярошинская — дочь владельца того шикарного ателье мод, где шили для мадам Бурдес бальный туалет, испакощенный потом кошками, — уезжает в красивой пролетке с английской упряжью.
— Звощик! — визгливо зовет Мелина «тетечка» и важно громоздится с Мелей на узкое сиденье извозчичьих дрожек.
Обе — и тетя и племянница — пухленькие, кругленькие, как сладкие пончики с вареньем. На сытеньких личиках, словно сахарная пудра, сияет горделивое самодовольство: «Мы из выжших! Пусть нищие плетутся пешком, на то они и нищие. А мы можем себе позволить…»
У меня в голове толкаются неясные мысли: "А про Соню и ее маму папа сказал бы, что это «нужно помнить»? Вот про этот жестокий стыд за стоптанную обувь, за перелицованное платье?..
И про гордость Мели, тщеславящейся попугайным нарядом «тетечки», шикарным рестораном «папульки», возможностью не ходить пешком, а ездить хотя бы в измызганной извозчичьей пролетке?.. Да, да, это тоже надо запомнить! На всю жизнь!
Первый наш «визит» — на Шопеновскую улицу, к Гороховым. Со времени экзамена по алгебре сюда ходила только Маня — на свои ежедневные занятия с Досей Гороховой.
В подъезде, где живут Гороховы, Маня останавливает нас.
— Вот что! — заявляет она очень решительно. — Ни одного слова о том… Понимаете? Можете рассказывать, как кто сдал географию, как кто чуть не срезался по физике. Но ни геометрии, ни алгебры у вас не было. Понимаете? Не было! — еще раз подчеркивает Маня.
