Страница:
И она снова засыпает.
Погасить лампу? Прервать чтение? И до самого утра не знать, что было дальше с этими удивительными героями? Нет, не могу я оторваться от книги.
Лампу я, конечно, погасила — пусть Юзефа и Сенечка спят.
Неслышно ступая босыми ногами, я ухожу из нашей комнаты.
Куда? Ну конечно, в единственное надежное убежище: в уборную. Вслед мне доносится сонный голос Юзефы — она заметила, что в комнате стало темно.
— Загасила лямпу? Ну и умница… Спи, спи!
Нет, я не сплю. Я сижу в уборной и при свете маленькой коптилки читаю свою книгу.
…Все пропало! Царский суд приговорил к повешению Бориса, его жену Зину и Василия, милого Василия, такого веселого затейника, такого верного товарища и железного революционера!
Привязанных веревками к позорной колеснице, их везут по городу к месту казни. Андрей Кожухов становится в толпе так, чтобы революционеры-смертники в последний час перед казнью увидели лицо друга. Вот колесница поравнялась с Андреем. Вот их взгляды скрещиваются в последний раз. Ветер развевает светлые волосы Зины вокруг ее милого лица… «Почему у нее стали короткие волосы? — думает Андрей. — Ах, да, — понимает он, — ее остригли для того, чтобы палачу было удобнее повесить ее…»
Возвратившиеся из гостей мама и папа, не найдя меня в кровати, встревоженные, отправляются искать меня. Мама сразу замечает полоску света, пробивающуюся из-под двери в уборную.
Открыв эту дверь, мама и папа пугаются еще больше. В длинной, до пят, ночной рубашке, поджимая озябшие босые ноги, я сижу на единственном в уборной седалище и плачу… Плачу так сильно, что даже не слышу, как на пороге появились мама и папа!
— Пуговка… — осторожно окликает меня папа полузабытым уже именем моего раннего детства. — Пуговка!..
Папа берет меня на руки, как маленькую, — и я, как маленькая, обнимаю его за шею, кладу голову на его плечо.
— Папа, их всех казнили… — шепчу я. — Всех!.. И самого Андрея Кожухова тоже!
Глава двенадцатая. КАК РОЖДАЕТСЯ КРУЖОК..
Погасить лампу? Прервать чтение? И до самого утра не знать, что было дальше с этими удивительными героями? Нет, не могу я оторваться от книги.
Лампу я, конечно, погасила — пусть Юзефа и Сенечка спят.
Неслышно ступая босыми ногами, я ухожу из нашей комнаты.
Куда? Ну конечно, в единственное надежное убежище: в уборную. Вслед мне доносится сонный голос Юзефы — она заметила, что в комнате стало темно.
— Загасила лямпу? Ну и умница… Спи, спи!
Нет, я не сплю. Я сижу в уборной и при свете маленькой коптилки читаю свою книгу.
…Все пропало! Царский суд приговорил к повешению Бориса, его жену Зину и Василия, милого Василия, такого веселого затейника, такого верного товарища и железного революционера!
Привязанных веревками к позорной колеснице, их везут по городу к месту казни. Андрей Кожухов становится в толпе так, чтобы революционеры-смертники в последний час перед казнью увидели лицо друга. Вот колесница поравнялась с Андреем. Вот их взгляды скрещиваются в последний раз. Ветер развевает светлые волосы Зины вокруг ее милого лица… «Почему у нее стали короткие волосы? — думает Андрей. — Ах, да, — понимает он, — ее остригли для того, чтобы палачу было удобнее повесить ее…»
Возвратившиеся из гостей мама и папа, не найдя меня в кровати, встревоженные, отправляются искать меня. Мама сразу замечает полоску света, пробивающуюся из-под двери в уборную.
Открыв эту дверь, мама и папа пугаются еще больше. В длинной, до пят, ночной рубашке, поджимая озябшие босые ноги, я сижу на единственном в уборной седалище и плачу… Плачу так сильно, что даже не слышу, как на пороге появились мама и папа!
— Пуговка… — осторожно окликает меня папа полузабытым уже именем моего раннего детства. — Пуговка!..
Папа берет меня на руки, как маленькую, — и я, как маленькая, обнимаю его за шею, кладу голову на его плечо.
— Папа, их всех казнили… — шепчу я. — Всех!.. И самого Андрея Кожухова тоже!
Глава двенадцатая. КАК РОЖДАЕТСЯ КРУЖОК..
Утром просыпаюсь разбитая. Голова болит и гудит, словно в нее, как в колокол, ударяют чугунным билом.
Сперва я даже радуюсь: вот как повезло — я заболела! Можно не идти сегодня в институт.
Но нет, это зряшная надежда. В горле у меня при глотании не саднит, голова хоть и болит, но не горячая: просто читала полночи «Андрея Кожухова», не выспалась… Даже под ложечкой не сосет. Нет, к сожалению, я здорова.
А как бы хорошо — остаться дома, лежать с закрытыми глазами, снова и снова перебирая в памяти все, что я узнала ночью про Андрея Кожухова и его товарищей! В воображении можно даже самой участвовать во всех событиях, описанных в книге.
Вот, например, я Зина. У меня есть маленький сынишка, и, конечно, я его обожаю. Но он живет не при мне, и это очень горько. Я вообще нигде не живу: я революционер-подпольщик, и потому у меня нет постоянного пристанища. Скрываюсь от ареста, ночую где придется: нынче у одних, завтра у других, иногда в лесу или в поле… Разве можно при такой жизни таскать за собой сынишку? Ребенок — это ребенок: ему нужна своя постоянная кроватка, и молоко вовремя, и котлетка, и конфетка… Вот и живет мой сынишка не со мной, а у моих мамы и папы (они ведь ему дедушка и бабушка). Мне даже нельзя приехать хоть на один день в город, где они живут. Меня могут там арестовать, а от этого пострадает самое важное — моя революционная работа.
И вот однажды, мечтаю я, меня посылают с революционным поручением (опасным ужасно!) и как раз в тот город, где живет у мамы и папы мой сынишка. И вот я приезжаю в этот город. До тех пор, пока не исполнено революционное поручение, я даже не позволяю себе вспомнить о свидании со своими. Наконец, продолжаю я мечтать, я исполнила все, что мне поручили, исполнила хорошо. Теперь я могу в сумерки прокрасться в наш дом. Это, конечно, тот же дом, где мы живем теперь. Я издали узнаю наш подъезд, узнаю вербы, растущие цепочкой на противоположной стороне нашей улицы… «На пять минут! Только на пять минут!» — говорю я себе.
Подхожу к нашему подъезду, а там засада: полиция, жандармы… Сейчас они меня схватят! Но я проворно и незаметно проскальзываю в магазинчик часовщика Свенцянера рядом с нашим подъездом. Полицейские, конечно, врываются туда вслед за мной.
Бедный старик Свенцянер, конечно, страшно пугается, но я говорю ему совершенно спокойно: «Господин часовщик, вы уже починили мои часики?» Вот какая я толковая: я не называю его по фамилии, я как будто и не знаю, что его зовут «господин Свенцянер». Просто я отдала в починку мои часики первому попавшемуся часовщику, а теперь пришла за ними… Вот какая я сообразительная! А сама смотрю на Свенцянера пронзительно-выразительно, словно хочу сказать ему: «Поймите! Поймите! Я как будто бы отдала вам в починку часики!» И Свенцянер — чудный старик! — он сразу все понимает. Он не говорит: «Ах, мадмазель Яновская, как вы поживаете? Как папа? Как мама?», или «Какие часики вы мне давали? В первый раз слышу!» Нет, Свенцянер смотрит на меня равнодушно-вежливо, словно он видит меня в первый раз в жизни. Он отвечает совершенно холодно, как незнакомой заказчице: «Приходите завтра, часики будут готовы…»
А сам глазами показывает мне на дверь в глубине. Она ведет в чуланчик за магазином, где Свенцянер живет со своей семьей.
В мгновение ока я бросаюсь туда, вижу там дверку, ведущую прямо во двор, и ускользаю через эту дверку. Позади себя я слышу крик Свенцянера: «Помогите! Она толкнула меня и убежала!..» Ну не чудесный ли старик?
Или еще так: я — Таня, и мой любимый, Андрей Кожухов, прощается со мной — он уходит на подвиг, на смерть… «Андрей, — говорю я, — я буду любить тебя до самой смерти!»
Меня и Бориса вводят на помост. Сейчас нас повесят. «Прощай, Борис! — говорю я. — Мы счастливые: мы умрем вместе за революцию!..»
В общем, все очень похоже на те мечты, которые волновали меня в детстве. Тогда я мечтала, что я укротительница тигров и львов мисс Ирма или рыцарь Роланд, погибающий в Ронсевальском ущелье. Это было очень интересно для меня, но совершенно недостижимо: в клетку с хищниками я так же не могла попасть, как и в Ронсевальское ущелье. Мужая, человек начинает мечтать о вещах достижимых. И вот о революции можно мечтать: это вполне осуществимо!
Но довольно витать в облаках мечты — надо отправляться в институт.
Выхожу на улицу. Часовщик Свенцянер — не воображаемый, а живой — стоит на пороге своего магазинчика и равнодушновежливо раскланивается со мной. «Чудный старик! — думаю я, окончательно смешав мечты и действительность. — Как он хорошо играет свою роль!» И, поравнявшись со Свенцянером, я смотрю на него пронзительно-выразительно. «Спасибо вам, — думаю, — чудный Свенцянер! Вы помогли мне убежать от жандармов!..» Свенцянер, конечно, смотрит на меня как на сумасшедшую.
Придя в институт, я увожу Маню для секретного разговора в Пингвин.
— Маня, ты читала такую книгу: «Андрей Кожухов»?
Маня отвечает не сразу. Она смотрит мне в глаза, словно раздумывает: можно отвечать откровенно или нельзя? Ну конечно, можно: я своя, я друг.
— Читала, — отвечает Маня. — И ты?
— Да… Маня, какие люди! Ох, какие люди!
— Кто дал тебе книжку?
— Из «летучей библиотеки»… А тебе?
— Мне Матвей давал, мой брат. Он тоже из «летучей библиотеки» брал.
— А есть там еще и другие книжки? Ты читала их, Маня?
Маня снова отвечает не сразу.
— …Только знаешь, Шура, о таких вещах…
— Знаю, знаю! — отмахиваюсь я. — Слава богу, не маленькая, где не надо, там не сболтну!.. Маня, я бы хотела перечитать все, какие только есть! Знаешь, я прочитала «Кожухова» ночью и стала сама не своя!
В коридоре, перед концом большой перемены, ко мне неожиданно подходит Зоя Ганнибал. Она из последнего класса, выпускница… Что ей может быть нужно от меня, пятиклассницы?
Зоя Ганнибал у нас самая красивая ученица. Глаза, ротик, носик — все как у красавиц, нарисованных на обертках березового крема «Энглунд» для белизны кожи. Впрочем, носиком своим Зоя Ганнибал не совсем довольна — какое-то, считает она, есть в нем еле заметное утолщение. Для того чтобы исправить этот недостаток, Зоя на ночь надевает на носик шпильку — так и спит с зажатым носиком! Кто-то, вероятно в шутку, предложил Зое вместо шпильки надевать на носик деревянный зажим, каким укрепляют на веревке белье, развешанное для просушки. Зое очень понравилась эта мысль, и она умоляет всех приходящих учениц принести ей такой деревянный зажим, чтобы надевать его на носик… Может быть, она и меня хочет попросить об этом?
Зоя Ганнибал уводит меня в Пингвин и там, глядя мне в самую печенку своими глубокими глазами, спрашивает:
— Вы Шура? Да, да, я знаю! Вы Шура!
Отвечать на это мне нечего — я ведь и в самом деле Шура.
Но что ей от меня нужно? И какое имеет значение, Шура я или Мура?
— Шура! — продолжает Зоя. — Вы прэлэстная, да?
Еще того не легче!
— Не знаю… — отвечаю я с самым глупым видом. И правда, откуда я знаю, «прэлэстная» я или нет?
— Нет, нет! Вы прэлэстная, прэлэстная! — капризно настаивает Зоя и даже топает ножкой. — Вы прэлэстная, и вы исполните мою просьбу. Да?
Она протягивает мне письмо в розовом конверте. От письма пахнет духами. На конверте написано:
Местное
Его Высокоблагородию
Леониду Ивановичу
Корнееву
Георгиевский пр., дом Монтвилл
— Что мне с этим делать? — недоумеваю я. — Письмо-то ведь не ко мне?
— Ну конечно, не к вам. Какая вы смешная! Просто комик!
— Так что же мне с ним делать?
— Ох, недогадливая… Вам на-а-до, — тянет Зоя нараспев, — взя-я-ять письмо, хорошенько спря-я-ятать его, чтобы синявки не увидали! Потом выйти на у-у-улицу и опустить письмо в почтовый ящик… Вот и все!
Прячу письмо в карман. Поручение мне не нравится. И папе я про это не расскажу. Он рассердится на то, что мне, как пуделю, дают поноску: «На, пудель, неси в почтовый ящик!» И я, пудель, несу…
Зоя Ганнибал видит, что я недовольна. Ей хочется доказать мне, что исполнить ее поручение — доброе дело.
— Шура, если бы вы знали, как я его люблю! Он красавец!
И когда в шубе — красавец, и в летнем пальто, и в цилиндре, и в фетровой шляпе…
— Он ваш жених?
— Ой, что вы! — Зоя машет руками. — Я с ним даже не знакома. Просто увидела из окна и влюбилась. Страшно влюбилась!
И… мечтаю! Вот он приходит домой обедать — я, его жена, в кружевном капоте, говорю ему лукаво: «А я тебе приготовила сюрприз: твое любимое блюдо». А он смеется: «Я тоже приготовил тебе сюрприз — твое любимое». И подает мне дивную брошку!
Брильянтовую! — Помолчав секунду, Зоя продолжает мечтательно: — Я всегда смотрю на него из окна, когда он идет со службы. Как-то он с дамой шел под ручку, можете себе представить, какой негодяй! Я, как увидела, вся застряслась! Ужас, какая я ревнивая, Шура!
— Как Пушкин… — вдруг вспоминаю я. — Пушкин ведь тоже был Ганнибал.
— Какой же он Ганнибал, если он Пушкин! — смеется Зоя над моей глупостью. — Вы что-то путаете, Шурочка.
Зоя не знает, что Пушкин был из рода Ганнибалов, что в его жилах была негритянская кровь. Ничего она не знает… Ну и я тоже хороша! С кем вздумала равнять Пушкина!
В общем, обычное развлечение наших пансионерок-старшеклассниц. В закрашенных окнах дортуаров они выскабливают маленькие кружочки — величиной с двугривенный. И смотрят сквозь эти кружочки на большой мир. Кто как одет, кто красавец, кто урод, влюбляются в проходящих по улице мужчин. Если удается узнать имя, отчество и фамилию, пишут этим незнакомцам письма…
— Вы не подумайте… — словно оправдывается Зоя. — Я своей фамилии не подписала. Все-таки я не кто-нибудь: Ганнибалы — старинный дворянский род. Я подписалась знаете как?
«Любящая вас до гроба прекрасная незнакомка». Правда, красиво?
«До гроба» она любящая! Понимает она, что такое любовь, да еще до гроба!
В этот же день мне закатывает скандал другая любительница таинственности — Меля Норейко.
Перед уроком она подходит к моей парте и бросает мне торжественно и мрачно:
— Я с тобой больше не водюсь!
Я отвечаю ей в тон — мрачно и торжественно:
— Я этого не переживу!
Вокруг нас собираются девочки.
— Ты врунья! — продолжает Меля. — Что ты мне наболтала про птицу киви-киви, про тирли-тирли из мексиканской яичницы, про золотые деньги? Я вчера была у Сущевской, нарочно пришла, когда Люси дома не было. Я у ее матери обо всем расспросила… Все — вранье!
Но тут на Мелю нападает Люся Сущевская.
— Так это ты вчера к нам приходила, когда меня дома не было? — спрашивает она. — Ну спасибо! Напугала мою маму до полусмерти… Прихожу домой, а мама плачет-разливается, вся трясется! "Приходила, говорит, какая-то подозрительная личность (это ты, Мелька, подозрительная личность!) — и ну выспрашивать, и ну выспрашивать! Где вы золотые яйца держите?
Хорошо ли у вас деньги спрятаны? И все подмигивает мне, все подмаргивает, и слова у нее все какие-то непонятные: «Трилитрили! киф-киф!» Мама ведь у меня — как дети малые… — Лицо Люси освещается доброй улыбкой, как всегда, когда она говорит о своей матери. — Мама никак успокоиться не могла, все плакала и все уверяла: «Поверь мне, Люсенька, она шпионка, она приходила из полиции…» А это, оказывается, Меля Норейко была!
Теперь хохочут уже все кругом. Если бы не раздался звонок к началу урока, они хохотали бы еще целый час.
В тот же день, открывая передо мной дверь на улицу, старый институтский швейцар Иван Федотыч — мы его зовем «Данетотыч» — говорит мне почти шепотом:
— Вам, барышня, письмо. Из дому принесли…
Переборщил Данетотыч — переложил таинственности. Если письмо в самом деле принесли из дому, зачем говорить об этом шепотом да еще озираясь по сторонам, не слышит ли кто?
Недоверчиво протягиваю руку за письмом. Но тут Данетотыч делает еще одну ошибку, на этот раз роковую:
— Приказали вам беспеременно прочитать. И чтоб распечатывали осторожно. Чтоб не мяли…
Все ясно: очередная Ленькина проделка! Я уж получала от него такие «письма»: распечатаешь конверт, а в нем живая муха.
Ошеломленная своим пребыванием в запечатанном конверте, муха не вылетала, а как-то сконфуженно, осторожно перебирала ножками, встряхивая крылышками, как дама, оправляющая растрепавшуюся прическу. Был даже такой случай: из одного Ленькиного «письма» выполз… живой червяк!
Я уже протянула руку, чтобы отстранить письмо. И еще хочу сказать Данетотычу какие-нибудь величественно-гордые слова: отдайте, мол, обратно, мне это не нужно! Но слаб человек. Ведь знаю же, знаю, что это Ленька чудит. Ну, а вдруг не он? Вдруг там что-нибудь путное — вроде указания долготы и широты в запечатанной бутылке, найденной в желудке акулы в первой главе «Детей капитана Гранта»?
И я беру письмо. Не распечатываю, только ощупываю пальцами. В нем какой-то предметик, маленький, по форме вроде флакончика. Если это Ленина работа, то во флакончик, может быть, налито что-нибудь противное, вонючее, от чего расчихаешься, как от нашатырного спирта.
На улице опускаю в почтовый ящик дурацкое письмо Зои Ганнибал, потом иду к тому месту за углом кондитерской, где, я уже знаю, наверное, дожидается меня Леня.
Ну конечно, он там. Ухмыляется издали.
Мрачно подаю ему нераспечатанное письмо:
— Барыня сказал: «Ответа не будет!»
Эту фразу мы с Леней незадолго перед тем слыхали в театре.
Там ее произносил актер, изображавший лакея в ливрее с блестящим позументом.
— Ах, господин лакей, какая глупая лошадь — ваша барыня! — декламирует Леня так громко, что на нас оглядываются прохожие. — Если бы она распечатала письмо, она была бы в восторге!
Слегка надавливаю на продолговатую штучку, вложенную в конверт. Штучка словно подается, становится мягче.
— Что ты делаешь? — сердится Леня. — Не мни лапой, раздавишь!
Но я уже достаю из конверта завернутую во много бумажек шоколадную конфету — ликерную бутылочку…
— Слава богу, догадалась! Я тебе послал чудный подарок, а ты… И с чего это ты сегодня такая?
— Какая еще — такая?
— Ну… такая, словно ты уксусу нанюхалась!.. Хочешь, я тебе еще один подарок сделаю? Роскошный!
Мы как раз поравнялись с магазином музыкальных инструментов. В витрине среди балалаек, мандолин, скрипок, как богач среди бедных родственников, возвышается огромный барабан.
— Хочешь? — спрашивает Леня так, словно речь идет о какой-нибудь свистульке. — Самый нарядный из всех музыкальных инструментов! И самый громкий из всех. Хочешь — подарю?
Для друга ничего не жалко!
И, не давая мне опомниться, Леня мгновенно вталкивает меня в дверь магазина.
— Чем могу служить? — приветливо обращается к нам продавец.
Леня указывает на барабан:
— Сколько стоит эта штука? Ну, вон та, круглая, пузатая, а?
— Барабан? — удивляется приказчик.
— Ага, ага! Вот именно — барабан. Сколько он стоит, а?
Приказчик отчеканивает, словно предлагая прекратить неуместные шутки:
— Вы желали бы приобрести барабан?
— Ага… Желали бы… — отвечает Леня все с той же глупой интонацией.
— Вы играете на барабане? Умеете?
— Не-е-ет! Я пианист. А барабан — это для нее, — показывает Леня на меня. — Она умеет. Она барабанщик. Понимаете, отставной козы барабанщик…
Продолжения этого разговора я уже не слышу, потому что пулей вылетаю из магазина на улицу. Через минуту меня догоняет Леня.
— В последний раз! — обрушиваюсь я на него. — Никогда в жизни никуда с тобой не пойду! Одно безобразие, один срам!..
Леня преувеличенно наивно хлопает глазами:
— Ну почему-у-у? Что я такого сделал? Вижу, ты сегодня какая-то наизнанку вывернутая. Я и захотел купить тебе хорошенькую, веселенькую игрушечку. Барабанчик, тамбур-мажорчик. Пыхта-пыхта-пыхта тру-де-ру-де-рум!..
Я молчу. Потом говорю тихо:
— Ленечка, я вчера прочитала такую книжку! Ни о чем, ну просто ни о чем думать не могу после этого!
Леня сразу становится серьезным. Это одна из самых милых его особенностей. Вот, кажется, только сейчас он безудержно дурачился, озорничал — можно было подумать: пустейший мальчишка! Но тут же услыхал какое-нибудь невзначай брошенное слово — и сразу преобразился: он весь внимание, а глаза (красивые «бабушкины» глаза, как говорит Иван Константинович) светятся умом, мыслью.
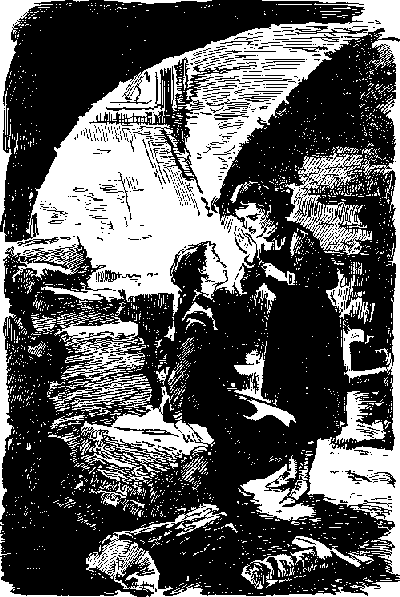 — Книжку? — переспрашивает Леня. — А какую это книжку ты прочитала?
— Книжку? — переспрашивает Леня. — А какую это книжку ты прочитала?
Я беспомощно озираюсь. Нет, об этом, о таком нельзя говорить на улице. А дома будут мешать. Даже не столько мешать, сколько перебивать настроение. Юзефа усадит нас в кухне за чисто выскобленный стол и станет угощать нашим любимым блюдом: картошкой, испеченной в мундире. К этому квашеная капуста и постное масло. Ну разве можно говорить о серьезном, когда наслаждаешься, перекатывая с ладони на ладонь горячие картофелины с кожицей, сморщенной, как покоробившиеся, приотставшие от стен обои в старой даче. А Юзефа, сияя, будет подкладывать нам еще и еще.
— Ешь, Леня! Ешь, дорогой! И ты, бродяга, ешь, — будет она приговаривать, любовно приглаживая рукой мои волосы. — Всю ночь не спала, читала… Люди в уборную за делом ходят, а она там книжки читает!
Сенечка тоже помешает нам с Леней разговаривать. Он будет увиваться около Лени, который ему, маленькому мальчуге, кажется хватом, образцом «мужчинской» доблести.
Нет, дома настоящего разговора у нас не получится.
— Пойдем, Леня, на камень, а? — предлагаю я.
И вот мы с Леней на камне. Это у нас главное прибежище во всех случаях жизни, веселых и печальных. Камень — это что-то вроде сверх-Пингвина.
Огромный серый валун прочно, как брильянт в оправу, вделан в холмистый откос над железнодорожными рельсами. На камне с легкостью усаживается несколько человек, а счастливцы, кому повезет, устраиваются в естественной впадине — углубление посреди камня, — как в кресле!
Здесь, на камне над железнодорожными путями, можно говорить о самых заветных вещах — никто не подслушает. Говорить надо, понизив голос, — звуки тут гулки, громкий голос кажется чрезмерным.
Рельсовый путь делает в этом месте поворот, так что приближающиеся поезда слышны раньше, чем видны. Оторвавшийся от трубы паровозный дым клочьями растекается по окрестностям.
Дым бредет без дороги, спотыкаясь, словно оглушенный горем, цепляясь за кусты и деревья…
Я негромко рассказываю Лене об «Андрее Кожухове». Леня слушает хорошо, внимательно, взволнованно — он уже любит замечательных героев этой повести.
— Ты достанешь мне эту книгу, Шашура?
— Непременно!
— Надо всем дать. Пусть все прочитают.
Мы долго сидим на камне. Молчим. Далекие гудки напоминают о том, как огромен мир. И — как трудно понимать жизнь!
Число читателей «летучей библиотеки» быстро увеличивается. Леня и его товарищи гимназисты, я и мои подруги по институту — все мы с жадностью читаем эти книжки, такие новые для нас, увлекательные, раскрывающие перед нашими глазами мир, до этих пор для нас неведомый.
Спустя день-два Лене приходит в голову замечательная мысль: собрать у себя вечерком своих товарищей по гимназии и моих подруг по институту, для того чтобы "поговорить об «Андрее Кожухове».
Скоро сказка сказывается: собрать людей, чтобы поговорить.
А сколько времени ушло хотя бы на то, чтобы составить список: кого звать на этот разговор?
Шнир и Степа Разин — я им рассказала о нашей затее — отнеслись к этому очень серьезно и сочувственно. Но они — в два голоса! — предупреждали меня: такие дела надо делать с умом.
— Вы же людей не на танцы зовете! — несколько раз напоминал мне Шнир. — Для танцев годен всякий, у кого есть ноги… Но ведь вы зовете людей для разговора. Для серьезного разговора, не забудьте! И еще для разговора о запрещенной книге, — об этом тоже надо помнить. Это уже политический разговор…
— Тут набалмошь, с бухты-барахты, нельзя! — вторит Шниру Степа Разин. — Обдумайте крепко, кого зовете!
— Одним словом, — заключил Шнир, — звать только верных людей: про которых вы знаете, что они не станут болтать чего не надо, и где не надо, и перед кем не надо.
Из моих подруг мы позвали Варю Забелину, Маню Фейгель с Катюшей Кандауровой и Люсю Сущевскую. Относительно Люси — звать ее или нет — мы с Леней немножко поспорили. Сама Люся, говорил Леня, конечно, не вызывает сомнений: она своя.
Но мама ее, Виктория Ивановна!.. Она какая-то блаженненькая, всем доверяет, — она может проболтаться. Ведь она даже Мелю Норейко приняла за «шпионку из полиции», испугалась Мели до слез.
Что же будет, если к ней явится всамделишный полицейский чин и станет ее допрашивать: где ее дочь бывает, у кого, для чего? Виктория Ивановна может с перепугу ляпнуть:
«Ах, Люсенька со знакомыми девочками и мальчиками книжки читает!»
— «А-а-а… — рычит Леня, зверски выпучив глаза. — Они книжки читают? А подать сюда Ляпкиных-Тяпкиных с их книжками!..»
— Глупости! — вступаюсь я за Люсю. — Да, мама ее наивная и доверчивая, как ребенок. Но откуда мы это знаем? Да от самой Люси знаем. Люся так относится к Виктории Ивановне, словно та ей не мать, а внучка. Ничего секретного она матери не говорит, чтобы мать не тревожилась, чтобы не проболталась…
Нет, по-моему, Люсю обязательно надо позвать.
Так и решаем: позвать.
Из своих товарищей Леня зовет прежде всего Гришу Ярчука.
Это очень умный, развитой мальчик, рыжий, как огонь. Гриша начитанный, много знает, и вообще «симпатяга», как говорит Леня.
Гриша, наверное, об «Андрее Кожухове» так интересно скажет, как другому и в башку не залетит. Еще зовет Леня одного-двух мальчиков-гимназистов. Среди них — Макс со своей сестрой Диночкой. Диночка моложе нас, девочек, на один класс, учится в нашем институте.
— И Макс и Диночка — оба симпатяги! — с увлечением рассказывает Леня. — Макс к тому же еще и отличный скрипач, и сам музыку сочиняет. Он и математик тоже отличный. Хочет после гимназии учиться одновременно в университете и в консерватории. И Диночка тоже славная, умненькая, стихи сочиняет.
Дружные они оба — брат и сестра, — всюду вместе ходят. Увидишь, будет очень интересно. Сперва поговорим о книге, поспорим. Потом Макс нам на скрипке поиграет. Я буду аккомпанировать.
И вот в минувшую субботу вес мы собрались у Лени (вместе с ним было одиннадцать человек). Иван Константинович предоставил в наше распоряжение всю квартиру (кроме тех комнат, где у него живут всякие звери). «Располагайтесь, будьте как дома!..»
Сам Иван Константинович в этот вечер был почему-то невеселый.
Шарафут, улучив минутку, сказал мне, кивая издали на Ивана Константиновича:
— Ихням благородиям — невеселая… Сдыхаит и сдыхаит…
(в Шарафутовом словаре «сдыхаит» значит «вздыхает»)… Ана Тамарам спаминаит!
Мы чинно расселись в кабинете Ивана Константиновича. Девочки стайкой — к нам присоединилась и Диночка — расположились на большом диване. Мальчики — вокруг письменного стола.
Посидели. Помолчали…
— Что ж, начнем, что ли? — спросил Леня.
Но никто не начинал. Никто ничего не говорил. Даже удивительно. Шла я сюда, думала, вот это я скажу, и еще вот это, и непременно еще про то, — а пришла и молчу. Потому что стесняюсь. И все, видимо, стесняются, немножко дичатся одни других.
— Как же так? — недоумевает Леня. — Мы прочитали замечательную книгу, собрались, чтобы поговорить о ней, и почему-то молчим! Это не дело!
Сперва я даже радуюсь: вот как повезло — я заболела! Можно не идти сегодня в институт.
Но нет, это зряшная надежда. В горле у меня при глотании не саднит, голова хоть и болит, но не горячая: просто читала полночи «Андрея Кожухова», не выспалась… Даже под ложечкой не сосет. Нет, к сожалению, я здорова.
А как бы хорошо — остаться дома, лежать с закрытыми глазами, снова и снова перебирая в памяти все, что я узнала ночью про Андрея Кожухова и его товарищей! В воображении можно даже самой участвовать во всех событиях, описанных в книге.
Вот, например, я Зина. У меня есть маленький сынишка, и, конечно, я его обожаю. Но он живет не при мне, и это очень горько. Я вообще нигде не живу: я революционер-подпольщик, и потому у меня нет постоянного пристанища. Скрываюсь от ареста, ночую где придется: нынче у одних, завтра у других, иногда в лесу или в поле… Разве можно при такой жизни таскать за собой сынишку? Ребенок — это ребенок: ему нужна своя постоянная кроватка, и молоко вовремя, и котлетка, и конфетка… Вот и живет мой сынишка не со мной, а у моих мамы и папы (они ведь ему дедушка и бабушка). Мне даже нельзя приехать хоть на один день в город, где они живут. Меня могут там арестовать, а от этого пострадает самое важное — моя революционная работа.
И вот однажды, мечтаю я, меня посылают с революционным поручением (опасным ужасно!) и как раз в тот город, где живет у мамы и папы мой сынишка. И вот я приезжаю в этот город. До тех пор, пока не исполнено революционное поручение, я даже не позволяю себе вспомнить о свидании со своими. Наконец, продолжаю я мечтать, я исполнила все, что мне поручили, исполнила хорошо. Теперь я могу в сумерки прокрасться в наш дом. Это, конечно, тот же дом, где мы живем теперь. Я издали узнаю наш подъезд, узнаю вербы, растущие цепочкой на противоположной стороне нашей улицы… «На пять минут! Только на пять минут!» — говорю я себе.
Подхожу к нашему подъезду, а там засада: полиция, жандармы… Сейчас они меня схватят! Но я проворно и незаметно проскальзываю в магазинчик часовщика Свенцянера рядом с нашим подъездом. Полицейские, конечно, врываются туда вслед за мной.
Бедный старик Свенцянер, конечно, страшно пугается, но я говорю ему совершенно спокойно: «Господин часовщик, вы уже починили мои часики?» Вот какая я толковая: я не называю его по фамилии, я как будто и не знаю, что его зовут «господин Свенцянер». Просто я отдала в починку мои часики первому попавшемуся часовщику, а теперь пришла за ними… Вот какая я сообразительная! А сама смотрю на Свенцянера пронзительно-выразительно, словно хочу сказать ему: «Поймите! Поймите! Я как будто бы отдала вам в починку часики!» И Свенцянер — чудный старик! — он сразу все понимает. Он не говорит: «Ах, мадмазель Яновская, как вы поживаете? Как папа? Как мама?», или «Какие часики вы мне давали? В первый раз слышу!» Нет, Свенцянер смотрит на меня равнодушно-вежливо, словно он видит меня в первый раз в жизни. Он отвечает совершенно холодно, как незнакомой заказчице: «Приходите завтра, часики будут готовы…»
А сам глазами показывает мне на дверь в глубине. Она ведет в чуланчик за магазином, где Свенцянер живет со своей семьей.
В мгновение ока я бросаюсь туда, вижу там дверку, ведущую прямо во двор, и ускользаю через эту дверку. Позади себя я слышу крик Свенцянера: «Помогите! Она толкнула меня и убежала!..» Ну не чудесный ли старик?
Или еще так: я — Таня, и мой любимый, Андрей Кожухов, прощается со мной — он уходит на подвиг, на смерть… «Андрей, — говорю я, — я буду любить тебя до самой смерти!»
Меня и Бориса вводят на помост. Сейчас нас повесят. «Прощай, Борис! — говорю я. — Мы счастливые: мы умрем вместе за революцию!..»
В общем, все очень похоже на те мечты, которые волновали меня в детстве. Тогда я мечтала, что я укротительница тигров и львов мисс Ирма или рыцарь Роланд, погибающий в Ронсевальском ущелье. Это было очень интересно для меня, но совершенно недостижимо: в клетку с хищниками я так же не могла попасть, как и в Ронсевальское ущелье. Мужая, человек начинает мечтать о вещах достижимых. И вот о революции можно мечтать: это вполне осуществимо!
Но довольно витать в облаках мечты — надо отправляться в институт.
Выхожу на улицу. Часовщик Свенцянер — не воображаемый, а живой — стоит на пороге своего магазинчика и равнодушновежливо раскланивается со мной. «Чудный старик! — думаю я, окончательно смешав мечты и действительность. — Как он хорошо играет свою роль!» И, поравнявшись со Свенцянером, я смотрю на него пронзительно-выразительно. «Спасибо вам, — думаю, — чудный Свенцянер! Вы помогли мне убежать от жандармов!..» Свенцянер, конечно, смотрит на меня как на сумасшедшую.
Придя в институт, я увожу Маню для секретного разговора в Пингвин.
— Маня, ты читала такую книгу: «Андрей Кожухов»?
Маня отвечает не сразу. Она смотрит мне в глаза, словно раздумывает: можно отвечать откровенно или нельзя? Ну конечно, можно: я своя, я друг.
— Читала, — отвечает Маня. — И ты?
— Да… Маня, какие люди! Ох, какие люди!
— Кто дал тебе книжку?
— Из «летучей библиотеки»… А тебе?
— Мне Матвей давал, мой брат. Он тоже из «летучей библиотеки» брал.
— А есть там еще и другие книжки? Ты читала их, Маня?
Маня снова отвечает не сразу.
— …Только знаешь, Шура, о таких вещах…
— Знаю, знаю! — отмахиваюсь я. — Слава богу, не маленькая, где не надо, там не сболтну!.. Маня, я бы хотела перечитать все, какие только есть! Знаешь, я прочитала «Кожухова» ночью и стала сама не своя!
В коридоре, перед концом большой перемены, ко мне неожиданно подходит Зоя Ганнибал. Она из последнего класса, выпускница… Что ей может быть нужно от меня, пятиклассницы?
Зоя Ганнибал у нас самая красивая ученица. Глаза, ротик, носик — все как у красавиц, нарисованных на обертках березового крема «Энглунд» для белизны кожи. Впрочем, носиком своим Зоя Ганнибал не совсем довольна — какое-то, считает она, есть в нем еле заметное утолщение. Для того чтобы исправить этот недостаток, Зоя на ночь надевает на носик шпильку — так и спит с зажатым носиком! Кто-то, вероятно в шутку, предложил Зое вместо шпильки надевать на носик деревянный зажим, каким укрепляют на веревке белье, развешанное для просушки. Зое очень понравилась эта мысль, и она умоляет всех приходящих учениц принести ей такой деревянный зажим, чтобы надевать его на носик… Может быть, она и меня хочет попросить об этом?
Зоя Ганнибал уводит меня в Пингвин и там, глядя мне в самую печенку своими глубокими глазами, спрашивает:
— Вы Шура? Да, да, я знаю! Вы Шура!
Отвечать на это мне нечего — я ведь и в самом деле Шура.
Но что ей от меня нужно? И какое имеет значение, Шура я или Мура?
— Шура! — продолжает Зоя. — Вы прэлэстная, да?
Еще того не легче!
— Не знаю… — отвечаю я с самым глупым видом. И правда, откуда я знаю, «прэлэстная» я или нет?
— Нет, нет! Вы прэлэстная, прэлэстная! — капризно настаивает Зоя и даже топает ножкой. — Вы прэлэстная, и вы исполните мою просьбу. Да?
Она протягивает мне письмо в розовом конверте. От письма пахнет духами. На конверте написано:
Местное
Его Высокоблагородию
Леониду Ивановичу
Корнееву
Георгиевский пр., дом Монтвилл
— Что мне с этим делать? — недоумеваю я. — Письмо-то ведь не ко мне?
— Ну конечно, не к вам. Какая вы смешная! Просто комик!
— Так что же мне с ним делать?
— Ох, недогадливая… Вам на-а-до, — тянет Зоя нараспев, — взя-я-ять письмо, хорошенько спря-я-ятать его, чтобы синявки не увидали! Потом выйти на у-у-улицу и опустить письмо в почтовый ящик… Вот и все!
Прячу письмо в карман. Поручение мне не нравится. И папе я про это не расскажу. Он рассердится на то, что мне, как пуделю, дают поноску: «На, пудель, неси в почтовый ящик!» И я, пудель, несу…
Зоя Ганнибал видит, что я недовольна. Ей хочется доказать мне, что исполнить ее поручение — доброе дело.
— Шура, если бы вы знали, как я его люблю! Он красавец!
И когда в шубе — красавец, и в летнем пальто, и в цилиндре, и в фетровой шляпе…
— Он ваш жених?
— Ой, что вы! — Зоя машет руками. — Я с ним даже не знакома. Просто увидела из окна и влюбилась. Страшно влюбилась!
И… мечтаю! Вот он приходит домой обедать — я, его жена, в кружевном капоте, говорю ему лукаво: «А я тебе приготовила сюрприз: твое любимое блюдо». А он смеется: «Я тоже приготовил тебе сюрприз — твое любимое». И подает мне дивную брошку!
Брильянтовую! — Помолчав секунду, Зоя продолжает мечтательно: — Я всегда смотрю на него из окна, когда он идет со службы. Как-то он с дамой шел под ручку, можете себе представить, какой негодяй! Я, как увидела, вся застряслась! Ужас, какая я ревнивая, Шура!
— Как Пушкин… — вдруг вспоминаю я. — Пушкин ведь тоже был Ганнибал.
— Какой же он Ганнибал, если он Пушкин! — смеется Зоя над моей глупостью. — Вы что-то путаете, Шурочка.
Зоя не знает, что Пушкин был из рода Ганнибалов, что в его жилах была негритянская кровь. Ничего она не знает… Ну и я тоже хороша! С кем вздумала равнять Пушкина!
В общем, обычное развлечение наших пансионерок-старшеклассниц. В закрашенных окнах дортуаров они выскабливают маленькие кружочки — величиной с двугривенный. И смотрят сквозь эти кружочки на большой мир. Кто как одет, кто красавец, кто урод, влюбляются в проходящих по улице мужчин. Если удается узнать имя, отчество и фамилию, пишут этим незнакомцам письма…
— Вы не подумайте… — словно оправдывается Зоя. — Я своей фамилии не подписала. Все-таки я не кто-нибудь: Ганнибалы — старинный дворянский род. Я подписалась знаете как?
«Любящая вас до гроба прекрасная незнакомка». Правда, красиво?
«До гроба» она любящая! Понимает она, что такое любовь, да еще до гроба!
В этот же день мне закатывает скандал другая любительница таинственности — Меля Норейко.
Перед уроком она подходит к моей парте и бросает мне торжественно и мрачно:
— Я с тобой больше не водюсь!
Я отвечаю ей в тон — мрачно и торжественно:
— Я этого не переживу!
Вокруг нас собираются девочки.
— Ты врунья! — продолжает Меля. — Что ты мне наболтала про птицу киви-киви, про тирли-тирли из мексиканской яичницы, про золотые деньги? Я вчера была у Сущевской, нарочно пришла, когда Люси дома не было. Я у ее матери обо всем расспросила… Все — вранье!
Но тут на Мелю нападает Люся Сущевская.
— Так это ты вчера к нам приходила, когда меня дома не было? — спрашивает она. — Ну спасибо! Напугала мою маму до полусмерти… Прихожу домой, а мама плачет-разливается, вся трясется! "Приходила, говорит, какая-то подозрительная личность (это ты, Мелька, подозрительная личность!) — и ну выспрашивать, и ну выспрашивать! Где вы золотые яйца держите?
Хорошо ли у вас деньги спрятаны? И все подмигивает мне, все подмаргивает, и слова у нее все какие-то непонятные: «Трилитрили! киф-киф!» Мама ведь у меня — как дети малые… — Лицо Люси освещается доброй улыбкой, как всегда, когда она говорит о своей матери. — Мама никак успокоиться не могла, все плакала и все уверяла: «Поверь мне, Люсенька, она шпионка, она приходила из полиции…» А это, оказывается, Меля Норейко была!
Теперь хохочут уже все кругом. Если бы не раздался звонок к началу урока, они хохотали бы еще целый час.
В тот же день, открывая передо мной дверь на улицу, старый институтский швейцар Иван Федотыч — мы его зовем «Данетотыч» — говорит мне почти шепотом:
— Вам, барышня, письмо. Из дому принесли…
Переборщил Данетотыч — переложил таинственности. Если письмо в самом деле принесли из дому, зачем говорить об этом шепотом да еще озираясь по сторонам, не слышит ли кто?
Недоверчиво протягиваю руку за письмом. Но тут Данетотыч делает еще одну ошибку, на этот раз роковую:
— Приказали вам беспеременно прочитать. И чтоб распечатывали осторожно. Чтоб не мяли…
Все ясно: очередная Ленькина проделка! Я уж получала от него такие «письма»: распечатаешь конверт, а в нем живая муха.
Ошеломленная своим пребыванием в запечатанном конверте, муха не вылетала, а как-то сконфуженно, осторожно перебирала ножками, встряхивая крылышками, как дама, оправляющая растрепавшуюся прическу. Был даже такой случай: из одного Ленькиного «письма» выполз… живой червяк!
Я уже протянула руку, чтобы отстранить письмо. И еще хочу сказать Данетотычу какие-нибудь величественно-гордые слова: отдайте, мол, обратно, мне это не нужно! Но слаб человек. Ведь знаю же, знаю, что это Ленька чудит. Ну, а вдруг не он? Вдруг там что-нибудь путное — вроде указания долготы и широты в запечатанной бутылке, найденной в желудке акулы в первой главе «Детей капитана Гранта»?
И я беру письмо. Не распечатываю, только ощупываю пальцами. В нем какой-то предметик, маленький, по форме вроде флакончика. Если это Ленина работа, то во флакончик, может быть, налито что-нибудь противное, вонючее, от чего расчихаешься, как от нашатырного спирта.
На улице опускаю в почтовый ящик дурацкое письмо Зои Ганнибал, потом иду к тому месту за углом кондитерской, где, я уже знаю, наверное, дожидается меня Леня.
Ну конечно, он там. Ухмыляется издали.
Мрачно подаю ему нераспечатанное письмо:
— Барыня сказал: «Ответа не будет!»
Эту фразу мы с Леней незадолго перед тем слыхали в театре.
Там ее произносил актер, изображавший лакея в ливрее с блестящим позументом.
— Ах, господин лакей, какая глупая лошадь — ваша барыня! — декламирует Леня так громко, что на нас оглядываются прохожие. — Если бы она распечатала письмо, она была бы в восторге!
Слегка надавливаю на продолговатую штучку, вложенную в конверт. Штучка словно подается, становится мягче.
— Что ты делаешь? — сердится Леня. — Не мни лапой, раздавишь!
Но я уже достаю из конверта завернутую во много бумажек шоколадную конфету — ликерную бутылочку…
— Слава богу, догадалась! Я тебе послал чудный подарок, а ты… И с чего это ты сегодня такая?
— Какая еще — такая?
— Ну… такая, словно ты уксусу нанюхалась!.. Хочешь, я тебе еще один подарок сделаю? Роскошный!
Мы как раз поравнялись с магазином музыкальных инструментов. В витрине среди балалаек, мандолин, скрипок, как богач среди бедных родственников, возвышается огромный барабан.
— Хочешь? — спрашивает Леня так, словно речь идет о какой-нибудь свистульке. — Самый нарядный из всех музыкальных инструментов! И самый громкий из всех. Хочешь — подарю?
Для друга ничего не жалко!
И, не давая мне опомниться, Леня мгновенно вталкивает меня в дверь магазина.
— Чем могу служить? — приветливо обращается к нам продавец.
Леня указывает на барабан:
— Сколько стоит эта штука? Ну, вон та, круглая, пузатая, а?
— Барабан? — удивляется приказчик.
— Ага, ага! Вот именно — барабан. Сколько он стоит, а?
Приказчик отчеканивает, словно предлагая прекратить неуместные шутки:
— Вы желали бы приобрести барабан?
— Ага… Желали бы… — отвечает Леня все с той же глупой интонацией.
— Вы играете на барабане? Умеете?
— Не-е-ет! Я пианист. А барабан — это для нее, — показывает Леня на меня. — Она умеет. Она барабанщик. Понимаете, отставной козы барабанщик…
Продолжения этого разговора я уже не слышу, потому что пулей вылетаю из магазина на улицу. Через минуту меня догоняет Леня.
— В последний раз! — обрушиваюсь я на него. — Никогда в жизни никуда с тобой не пойду! Одно безобразие, один срам!..
Леня преувеличенно наивно хлопает глазами:
— Ну почему-у-у? Что я такого сделал? Вижу, ты сегодня какая-то наизнанку вывернутая. Я и захотел купить тебе хорошенькую, веселенькую игрушечку. Барабанчик, тамбур-мажорчик. Пыхта-пыхта-пыхта тру-де-ру-де-рум!..
Я молчу. Потом говорю тихо:
— Ленечка, я вчера прочитала такую книжку! Ни о чем, ну просто ни о чем думать не могу после этого!
Леня сразу становится серьезным. Это одна из самых милых его особенностей. Вот, кажется, только сейчас он безудержно дурачился, озорничал — можно было подумать: пустейший мальчишка! Но тут же услыхал какое-нибудь невзначай брошенное слово — и сразу преобразился: он весь внимание, а глаза (красивые «бабушкины» глаза, как говорит Иван Константинович) светятся умом, мыслью.
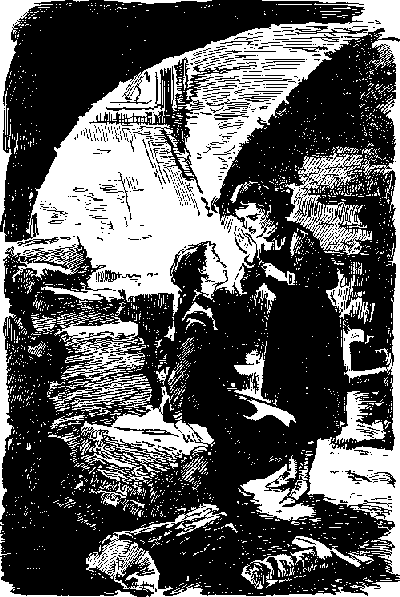
Я беспомощно озираюсь. Нет, об этом, о таком нельзя говорить на улице. А дома будут мешать. Даже не столько мешать, сколько перебивать настроение. Юзефа усадит нас в кухне за чисто выскобленный стол и станет угощать нашим любимым блюдом: картошкой, испеченной в мундире. К этому квашеная капуста и постное масло. Ну разве можно говорить о серьезном, когда наслаждаешься, перекатывая с ладони на ладонь горячие картофелины с кожицей, сморщенной, как покоробившиеся, приотставшие от стен обои в старой даче. А Юзефа, сияя, будет подкладывать нам еще и еще.
— Ешь, Леня! Ешь, дорогой! И ты, бродяга, ешь, — будет она приговаривать, любовно приглаживая рукой мои волосы. — Всю ночь не спала, читала… Люди в уборную за делом ходят, а она там книжки читает!
Сенечка тоже помешает нам с Леней разговаривать. Он будет увиваться около Лени, который ему, маленькому мальчуге, кажется хватом, образцом «мужчинской» доблести.
Нет, дома настоящего разговора у нас не получится.
— Пойдем, Леня, на камень, а? — предлагаю я.
И вот мы с Леней на камне. Это у нас главное прибежище во всех случаях жизни, веселых и печальных. Камень — это что-то вроде сверх-Пингвина.
Огромный серый валун прочно, как брильянт в оправу, вделан в холмистый откос над железнодорожными рельсами. На камне с легкостью усаживается несколько человек, а счастливцы, кому повезет, устраиваются в естественной впадине — углубление посреди камня, — как в кресле!
Здесь, на камне над железнодорожными путями, можно говорить о самых заветных вещах — никто не подслушает. Говорить надо, понизив голос, — звуки тут гулки, громкий голос кажется чрезмерным.
Рельсовый путь делает в этом месте поворот, так что приближающиеся поезда слышны раньше, чем видны. Оторвавшийся от трубы паровозный дым клочьями растекается по окрестностям.
Дым бредет без дороги, спотыкаясь, словно оглушенный горем, цепляясь за кусты и деревья…
Я негромко рассказываю Лене об «Андрее Кожухове». Леня слушает хорошо, внимательно, взволнованно — он уже любит замечательных героев этой повести.
— Ты достанешь мне эту книгу, Шашура?
— Непременно!
— Надо всем дать. Пусть все прочитают.
Мы долго сидим на камне. Молчим. Далекие гудки напоминают о том, как огромен мир. И — как трудно понимать жизнь!
Число читателей «летучей библиотеки» быстро увеличивается. Леня и его товарищи гимназисты, я и мои подруги по институту — все мы с жадностью читаем эти книжки, такие новые для нас, увлекательные, раскрывающие перед нашими глазами мир, до этих пор для нас неведомый.
Спустя день-два Лене приходит в голову замечательная мысль: собрать у себя вечерком своих товарищей по гимназии и моих подруг по институту, для того чтобы "поговорить об «Андрее Кожухове».
Скоро сказка сказывается: собрать людей, чтобы поговорить.
А сколько времени ушло хотя бы на то, чтобы составить список: кого звать на этот разговор?
Шнир и Степа Разин — я им рассказала о нашей затее — отнеслись к этому очень серьезно и сочувственно. Но они — в два голоса! — предупреждали меня: такие дела надо делать с умом.
— Вы же людей не на танцы зовете! — несколько раз напоминал мне Шнир. — Для танцев годен всякий, у кого есть ноги… Но ведь вы зовете людей для разговора. Для серьезного разговора, не забудьте! И еще для разговора о запрещенной книге, — об этом тоже надо помнить. Это уже политический разговор…
— Тут набалмошь, с бухты-барахты, нельзя! — вторит Шниру Степа Разин. — Обдумайте крепко, кого зовете!
— Одним словом, — заключил Шнир, — звать только верных людей: про которых вы знаете, что они не станут болтать чего не надо, и где не надо, и перед кем не надо.
Из моих подруг мы позвали Варю Забелину, Маню Фейгель с Катюшей Кандауровой и Люсю Сущевскую. Относительно Люси — звать ее или нет — мы с Леней немножко поспорили. Сама Люся, говорил Леня, конечно, не вызывает сомнений: она своя.
Но мама ее, Виктория Ивановна!.. Она какая-то блаженненькая, всем доверяет, — она может проболтаться. Ведь она даже Мелю Норейко приняла за «шпионку из полиции», испугалась Мели до слез.
Что же будет, если к ней явится всамделишный полицейский чин и станет ее допрашивать: где ее дочь бывает, у кого, для чего? Виктория Ивановна может с перепугу ляпнуть:
«Ах, Люсенька со знакомыми девочками и мальчиками книжки читает!»
— «А-а-а… — рычит Леня, зверски выпучив глаза. — Они книжки читают? А подать сюда Ляпкиных-Тяпкиных с их книжками!..»
— Глупости! — вступаюсь я за Люсю. — Да, мама ее наивная и доверчивая, как ребенок. Но откуда мы это знаем? Да от самой Люси знаем. Люся так относится к Виктории Ивановне, словно та ей не мать, а внучка. Ничего секретного она матери не говорит, чтобы мать не тревожилась, чтобы не проболталась…
Нет, по-моему, Люсю обязательно надо позвать.
Так и решаем: позвать.
Из своих товарищей Леня зовет прежде всего Гришу Ярчука.
Это очень умный, развитой мальчик, рыжий, как огонь. Гриша начитанный, много знает, и вообще «симпатяга», как говорит Леня.
Гриша, наверное, об «Андрее Кожухове» так интересно скажет, как другому и в башку не залетит. Еще зовет Леня одного-двух мальчиков-гимназистов. Среди них — Макс со своей сестрой Диночкой. Диночка моложе нас, девочек, на один класс, учится в нашем институте.
— И Макс и Диночка — оба симпатяги! — с увлечением рассказывает Леня. — Макс к тому же еще и отличный скрипач, и сам музыку сочиняет. Он и математик тоже отличный. Хочет после гимназии учиться одновременно в университете и в консерватории. И Диночка тоже славная, умненькая, стихи сочиняет.
Дружные они оба — брат и сестра, — всюду вместе ходят. Увидишь, будет очень интересно. Сперва поговорим о книге, поспорим. Потом Макс нам на скрипке поиграет. Я буду аккомпанировать.
И вот в минувшую субботу вес мы собрались у Лени (вместе с ним было одиннадцать человек). Иван Константинович предоставил в наше распоряжение всю квартиру (кроме тех комнат, где у него живут всякие звери). «Располагайтесь, будьте как дома!..»
Сам Иван Константинович в этот вечер был почему-то невеселый.
Шарафут, улучив минутку, сказал мне, кивая издали на Ивана Константиновича:
— Ихням благородиям — невеселая… Сдыхаит и сдыхаит…
(в Шарафутовом словаре «сдыхаит» значит «вздыхает»)… Ана Тамарам спаминаит!
Мы чинно расселись в кабинете Ивана Константиновича. Девочки стайкой — к нам присоединилась и Диночка — расположились на большом диване. Мальчики — вокруг письменного стола.
Посидели. Помолчали…
— Что ж, начнем, что ли? — спросил Леня.
Но никто не начинал. Никто ничего не говорил. Даже удивительно. Шла я сюда, думала, вот это я скажу, и еще вот это, и непременно еще про то, — а пришла и молчу. Потому что стесняюсь. И все, видимо, стесняются, немножко дичатся одни других.
— Как же так? — недоумевает Леня. — Мы прочитали замечательную книгу, собрались, чтобы поговорить о ней, и почему-то молчим! Это не дело!
