Страница:
— Да, да, — воскликнул, оживляясь, герцог, — я должен оставить этого юношу человеческому правосудию, впрочем, не я вынесу ему приговор, для этого есть судьи, и решать будут они, и потом, — добавил он, улыбаясь, — ведь у меня есть право помилования!
И, обретя внутреннюю уверенность благодаря этой королевской привилегии, которой он пользовался от имени Людовика XV, он быстро подписал документ, позвонил камердинеру и ушел в другую комнату для завершения своего туалета. Через десять минут после того, как он вышел из комнаты, где имела место вся описанная сцена, дверь отворилась снова. Дюбуа медленно и осторожно просунул в щель свою кунью мордочку, убедился, что комната пуста, тихонько подошел к столу, за которым до этого сидел герцог, взглянул на приказ, победно улыбнулся, увидев, что регент его подписал, неспешно сложил лист в четыре раза, положил его в карман и с видом глубокого удовлетворения вышел из комнаты.
XXI. КРОВЬ ПРОСЫПАЕТСЯ
XXII. ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ДОМЕ НА ПАРОМНОЙ УЛИЦЕ, ПОКА ТАМ ЖДАЛИ ГАСТОНА
И, обретя внутреннюю уверенность благодаря этой королевской привилегии, которой он пользовался от имени Людовика XV, он быстро подписал документ, позвонил камердинеру и ушел в другую комнату для завершения своего туалета. Через десять минут после того, как он вышел из комнаты, где имела место вся описанная сцена, дверь отворилась снова. Дюбуа медленно и осторожно просунул в щель свою кунью мордочку, убедился, что комната пуста, тихонько подошел к столу, за которым до этого сидел герцог, взглянул на приказ, победно улыбнулся, увидев, что регент его подписал, неспешно сложил лист в четыре раза, положил его в карман и с видом глубокого удовлетворения вышел из комнаты.
XXI. КРОВЬ ПРОСЫПАЕТСЯ
Когда Гастон вернулся с заставы Конферанс и вошел в свою комнату на улице Бурдоне, он увидел, что у печки устроился Ла Жонкьер и потягивает аликанте из только что откупоренной бутылки.
— А, шевалье, — сказал он, увидев Гастона, — ну, и как вам моя комната? Удобно, правда? Садитесь-ка и попробуйте вино, оно стоит лучших вин Руссо. А вы, вы-то знали Руссо? Хотя нет, вы же из провинции, а в Бретани, я думаю, вина не пьют, там пьют сидр, пикет, пиво. Я сам мог там пить только водку, больше ничего не смог себе найти.
Гастон не ответил, потому что вообще не слушал, что говорит Ла Жонкьер, — настолько был занят своими мыслями. Он упал в кресло в совершенном отчаянии, судорожно комкая в кармане камзола письмо Элен.
«Где она? — мысленно спрашивал он себя. — Этот огромный Париж может скрыть ее от меня навеки. О, не слишком ли много препятствий для одного человека, у которого к тому же нет ни власти, ни опыта?»
— Да, кстати, — произнес Ла Жонкьер, так легко читавший в сердце молодого человека, словно телесная оболочка его была прозрачна, как стекло, — кстати, шевалье, тут для вас письмо.
— Из Бретани? — спросил, дрожа, шевалье.
— Да нет, из Парижа, и почерк мелкий и очаровательный, и мне сдается, что женский, повеса вы эдакий!
— Где оно? — воскликнул Гастон.
— Спросите у нашего хозяина. Когда я вошел, он вертел его в руках.
— Давайте! Давайте! — закричал Гастон, бросаясь в общий зал.
— Что желает господин шевалье? — спросил Тапен с обычной своей вежливостью.
— Письмо!
— Какое письмо?
— То, что вы получили для меня.
— Ах, извините, сударь, правда, я совсем о нем забыл! ' И он вынул письмо из кармана и вручил его Гастону.
— Бедный глупец! — говорил себе в это время мнимый Ла Жонкьер, — и такие дураки лезут в заговоры! Как тот д'Арманталь, хотят одновременно заниматься политикой и любовью! Трижды дураки! Если бы они вторым делом занимались у Фийон, так первое не приводило бы их на Гревскую площадь. Но для нас-то, раз в нас они не влюблены, лучше, чтобы они такими и были.
Гастон вошел в комнату, светясь радостью. Он читал, перечитывал и снова чуть не по буквам читал письмо Элен:
«Улица Фобур-Сент-Антуан, дом белый, за деревьями, кажется тополями; номера я не смогла заметить, но это тридцать первый или тридцать второй дом по левой стороне улицы, считая от ее начала, причем нужно оставить позади себя по правую руку замок с башнями, похожий на тюрьму».
— О, — воскликнул Гастон, — теперь-то я найду этот замок, это — Бастилия.
Дюбуа расслышал его последние слова и сказал в сторону: «Уж точно найдешь, черт возьми, коли я сам тебя туда доставлю».
Гастон посмотрел на часы: до свидания на Паромной улице ему оставалось еще больше двух часов, он взял шляпу, которую, войдя, положил на стул, и собрался уходить.
— Ну что, летим со всех ног? — спросил Дюбуа.
— Неотложное дело.
— А как же наше свидание в одиннадцать?
— Еще и десяти нет, будьте спокойны, я вернусь.
— Я вам не нужен?
— Спасибо, нет.
— Если вдруг вы собираетесь кого похитить, то я в этом деле дока и могу помочь.
— Благодарю, — сказал Гастон, невольно краснея, — но речь идет не об этом.
Дюбуа тихонько присвистнул, как человек, понимающий, чего стоит такой ответ.
— Я найду вас здесь? — спросил Гастон.
— Не знаю, я тоже думаю, не заняться ли и мне какой-нибудь красивой дамой, проявляющей интерес к моей персоне, но, в любом случае, вы найдете здесь в назначенный час вчерашнего провожатого и ту же карету с тем же кучером.
Гастон поспешно распрощался со своим посетителем. Около кладбища Избиенных Младенцев он взял фиакр и приказал везти себя на улицу Фобур-Сент-Антуан.
Отсчитав двадцатый дом от угла, он вышел, приказал кучеру ехать за ним и пошел вперед, тщательно осматривая всю левую сторону улицы. Вскоре он оказался у толстой стены, из-за которой виднелись густые раскидистые тополя. Этот дом настолько соответствовал описанию, которое ему дала Элен, что Гастон больше не сомневался — девушку прячут именно там. Но здесь начинались трудности: в стене не было никаких отверстий, а у двери — ни молотка, ни колокольчика. Да для франтов они и не нужны были, потому что обычно перед каждым из них бежал скороход и стучал в нужные двери тростью с серебряным набалдашником. Гастон прекрасно обошелся бы и без скорохода и постучал бы в дверь ногой или камнем, но он боялся, что привратник получил специальные распоряжения и может задержать его у дверей, поэтому он приказал кучеру остановиться и, желая предупредить Элен, что он здесь, хорошо известным ей условным сигналом, пошел по переулку, на который дом выходил боковым фасадом. Подойдя к выходившему в сад окну как можно ближе, он поднес руки ко рту и громко закричал совой. Элен вздрогнула: она узнала этот крик, который разносился в бретонских дроковых лугах на одну-две мили, и ей показалось, что она снова в клисонском монастыре августинок и что лодка, в которой стоит шевалье, беззвучно скользя на веслах, сейчас причалит под ее окном среди тростников и лилий. Этот крик отразился от стен и достиг ее ушей, возвещая о присутствии того, кого она ждала, и она тут же подбежала к окну. Молодой человек был тут.
Они с Элен обменялись знаком, который сказал ему: «Я вас ждала», а ей: «Я здесь». Потом она прошла в глубь комнаты, взяла колокольчик, который вручила ей госпожа Дерош совсем в других целях, и позвонила в него так громко, что мгновенно прибежали не только госпожа Дерош, но и лакей с камеристкой.
— Откройте уличную дверь, — повелительно сказала Элен, — у дверей стоит человек, которого я жду.
— Останьтесь, — обратилась госпожа Дерош к лакею, который собирался исполнить приказание, — я сама посмотрю, кто там.
— Бесполезно, сударыня, я знаю, кто это, и уже сказала вам, что это тот, кого я ждала.
— Но, может быть, мадемуазель не следовало бы его принимать? — не сдавалась дуэнья.
— Я уже не в монастыре, сударыня, и еще не в тюрьме, — ответила Элен, — и буду принимать кого сочту нужным.
— Но, по крайней мере, могу я узнать, кто это?
— Не вижу в этом ничего непозволительного, это тот же человек, которого я принимала в Рамбуйе.
— Господин де Ливри?
— Господин де Ливри.
— Я получила твердый приказ никогда не допускать к вам этого молодого человека.
— А я вам приказываю немедленно провести его сюда.
— Мадемуазель, вы отказываетесь повиноваться своему отцу, — возразила полупочтительно, полусердито госпожа Дерош.
— Моему отцу не следует в это вмешиваться, и особенно через ваше посредство, сударыня.
— Тогда кто же распоряжается вашей судьбой?
— Я сама, только я! — воскликнула Элен, сразу взбунтовавшись против насилия над собой.
— Мадемуазель, я клянусь вам, что ваш отец…
— Мой отец одобрит мои поступки, если он мой отец.
Эти слова, в которых звучала гордость императрицы, заставили своей повелительностью склониться госпожу Дерош: она замолкла и осталась стоять неподвижно, как и лакеи, присутствовавшие при этой сцене.
— Так что же, — сказала Элен, — я приказала отпереть дверь, а мне здесь не повинуются?
Никто не шелохнулся, ожидая распоряжений гувернантки.
Элен презрительно улыбнулась и, не желая умалять свой авторитет в глазах прислуги, сделала столь повелительный жест, что госпожа Дерош отошла от двери, которую заслоняла собой, и дала ей дорогу. Тогда Элен медленно и с достоинством спустилась по лестнице в сопровождении госпожи Дерош, до глубины души потрясенной тем, что девушка, всего двенадцать дней назад вышедшая из монастыря, проявляет такую волю.
— Но это настоящая королева, — сказала горничная, идя следом за госпожой Дерош. — Я-то уж точно пошла бы отпереть дверь, если бы она не пошла сама.
— Увы! — произнесла старая гувернантка, — в этой семье все женщины таковы.
— Значит, вы знали эту семью? — удивленно спросила горничная.
— Да, — ответила госпожа Дерош, поняв, что она сказала больше, чем хотела, — да, я знала когда-то господина маркиза, ее отца.
Элен за это время спустилась с крыльца, прошла по двору и властно приказала отпереть дверь: на пороге стоял Гастон.
— Входите, друг мой, — пригласила его Элен. Гастон пошел за ней.
Они вошли в комнаты первого этажа, и дверь за ними закрылась.
— Вы звали меня, Элен, и я тут, — сказал ей молодой человек, — вы чего-то боитесь? Какая опасность вам угрожает?
— Посмотрите вокруг, — ответила Элен, — и судите сами.
Молодые люди находились в тех комнатах, где мы с читателем уже были вместе с регентом и Дюбуа, когда тот хотел показать регенту, как его сын приобщается к светской жизни.
Это был прелестный будуар, примыкающий к столовой, с которой он сообщался, как помнит читатель, не только через две двери, но и через проем посередине стены, декорированный редкими цветами, прекрасными и благоухающими. Стены будуара были обиты голубым шелком, усеянным серебряными розами; четыре работы Клода Одрана, помещенные над дверями, изображали четыре эпизода мифа о Венере: рождение, где она нагая возникает из пены волн, ее любовь к Адонису, соперничество с Психеей, которую богиня приказывает высечь розгами, и, наконец, ее пробуждение в объятиях Марса в сетях, расставленных ее супругом Вулканом. Настенные панно рассказывали другие эпизоды той же истории, и контуры фигур были столь пленительны, а выражение лиц столь сладострастно, что назначение этого уголка не оставляло никаких сомнений.
Картин, о которых Носе в простоте души своей сказал регенту, что они написаны в чистейшем стиле Ментенон, хватило, чтобы привести в ужас молодую девушку.
— Гастон, — сказала она, — неужели вы были правы, когда советовали опасаться этого человека, который представился мне как мой отец? И в самом деле, здесь еще страшнее, чем в Рамбуйе.
Гастон внимательно рассматривал картины одну за другой, краснея и бледнея при мысли о том, что нашелся человек, пытавшийся такими способами смутить чувства Элен; потом он перешел в столовую и оглядел ее во всех деталях, как и будуар: тут были те же эротические картины, столь же соблазнительные. Оттуда они спустились в сад, в котором стояло множество статуй и скульптурных групп, которые продолжали ту же тему и изображали эпизоды, опущенные живописцем. Возвращаясь, они прошли мимо госпожи Дерош, все это время не выпускавшей их из виду, она воздела руки к небу, и у нее невольно вырвалось:
— О Боже мой, что подумает монсеньер?
Буря чувств, которые Гастон до этих пор сдерживал, при этих словах вырвалась наружу.
— Монсеньер! — воскликнул он. — Вы слышали, Элен: монсеньер! Вы имели все основания бояться, инстинкт целомудрия предупредил вас об опасности. Мы с вами находимся в доме одного из тех знатных развратников, которые покупают наслаждения ценой чести. Я никогда не видел этих гибельных жилищ, Элен, но я так себе их и представлял. Картины, статуи, фрески, таинственный полумрак в комнатах, башни, отданные прислуге, чтоб лакеи не мешали развлечениям хозяина, — этого более чем достаточно, чтоб я все понял. Во имя Неба, не дайте себя обманывать дальше, Элен. Я был прав, когда предвидел эту опасность в Рамбуйе, и вы правы, что здесь испытываете страх.
— Боже мой! — сказала Элен. — А вдруг этот человек приедет и прикажет лакеям задержать нас силой?
— Успокойтесь, Элен, — ответил Гастон, — ведь я тут!
— О Господи, Господи, отказаться от сладкой мысли об отце, защитнике, друге!
— Увы! И в такую минуту, когда вы остаетесь в мире одна, — сказал Гастон, невольно выдавая часть своей тайны.
— Что вы говорите, Гастон? Что означают эти зловещие слова?
— Ничего, ничего, — ответил молодой человек, — просто бессвязные слова, не стоит искать в них смысла.
— Гастон, вы, несомненно, скрываете от меня что-то ужасное, раз в ту минуту, когда я теряю отца, говорите, что расстаетесь со мной.
— О, Элен, я расстанусь с вами только вместе со своей жизнью!
— Значит, — прервала его молодая девушка, — ваша жизнь подвергается опасности, и вы боитесь, что умрете и покинете меня. Гастон, вы выдали себя, вы больше не прежний Гастон! Увидев меня сегодня, вы обрадовались как-то принужденно, а расставаясь со мной вчера, не испытали уж такого глубокого горя, ваш ум занят более важными делами, чем ваше сердце. Что-то в вас — гордость ли, честолюбие ли — берет верх над любовью? Вот смотрите, вы и сейчас побледнели! Не молчите, вы разбиваете мне сердце!
— О нет, ничего серьезного, Элен, клянусь вам! Разве всего, что с нами случилось, недостаточно, чтоб привести меня в смятение, разве мало того, что в этом вероломном доме вы одна, вы беззащитны, и я не знаю, как вас от всего этого оградить? В Бретани мне помогли бы защититься друзья и две сотни моих крестьян, а здесь у меня никого нет.
— Только это, Гастон?
— Более чем достаточно, как мне кажется.
— Нет, Гастон, потому что мы сейчас же покинем этот дом. Гастон побледнел, Элен опустила глаза и, вложив свою руку в холодные и влажные руки своего возлюбленного, произнесла:
— Перед всеми этими людьми и на глазах этой продажной женщины, которая может замышлять по отношению ко мне только предательство, мы уйдем отсюда вместе, Гастон.
В глазах Гастона блеснула радость, но тут же ее погасило облако мрачных мыслей.
Элен внимательно следила за сменой чувств на его лице.
— Разве я не ваша жена, Гастон? — спросила она. — И разве моя честь — не ваша честь? Уйдем отсюда!
— Но что делать, — спросил Гастон, — и где поселить вас?
— Гастон, — ответила Элен, — я не знаю ничего и ничего не могу, я не знаю Парижа, не знаю света, но я знаю себя и вас. Вы же мне открыли глаза, и теперь я не верю никому и ничему, кроме вашей преданности и любви.
Сердце Гастона разрывалось; еще шесть месяцев тому назад он отдал бы жизнь за благородную преданность этой мужественной девушки.
— Подумайте, Элен, — упорствовал он, — а если мы ошибаемся и этот человек действительно ваш отец…
— Гастон, вы забываете, что сами внушили мне страх перед этим отцом.
— О да, Элен, да! — воскликнул молодой человек. — Уйдем, чего бы это ни стоило!
— Куда мы пойдем? — спросила Элен. — Впрочем, не нужно ответа, Гастон, лишь бы вы сами это знали, и этого достаточно. И все же еще одна просьба. Вот лики Христа и Богоматери, каким-то чудом попавшие сюда к этим нечестивым картинам. Поклянитесь на этих святых образах блюсти честь своей жены, Гастон.
— Элен, — ответил Гастон, — я оскорбил бы вас такой клятвой, вы первая сегодня предложили мне то, что я колебался предложить вам уже давно. Богатый и счастливый, уверенный в будущем, вручив Господу нашу судьбу, я бы все сложил к вашим ногам: и богатство, и удачу, и счастье; но в эту решительную минуту я должен признаться вам: вы не ошиблись, мое сегодня, возможно, отделено от моего завтра ужасным событием. И вот, Элен, все, что я могу вам предложить: если удача будет мне сопутствовать, может быть, я получу высокое положение и власть, но если удача изменит мне, нам грозят бегство, изгнание и, может быть, нищета. Достаточно ли вы любите меня, Элен, и достаточно ли вы любите вашу честь, чтобы пойти на это?
— Я готова, Гастон, прикажите мне следовать за вами, и я последую.
— Ну что же, Элен, я не обману вашего доверия, будьте спокойны, вы поедете не ко мне, но к одному моему знакомому, он, в случае необходимости, сможет вас защитить и в мое отсутствие заменит вам отца, которого вы было нашли и потеряли во второй раз.
— Но кто этот человек, Гастон? Это не подозрения, — добавила девушка с очаровательной улыбкой, — это любопытство.
— Это человек, который ни в чем не может мне отказать, Элен, его судьба связана с моей судьбой и его жизнь зависит от моей жизни, и он сочтет, что я прошу небольшой платы, требуя обеспечить ваш покой и безопасность.
— Опять какие-то тайны, Гастон, по правде говоря, вы заставляете меня бояться будущего.
— Это последняя тайна, Элен, отныне вся моя жизнь будет открыта вам.
— Спасибо, Гастон.
— Теперь приказывайте, Элен.
— Идем.
Элен взяла шевалье под руку и прошла через гостиную; посредине ее стояла госпожа Дерош с перекошенным от негодования лицом и комкала в руках письмо, о назначении которого читатель может догадаться.
— О Боже, — воскликнула она, — мадемуазель, куда вы? Что вы делаете?
— Куда я?.. Я уезжаю. Что я делаю? Я бегу из дома, где под угрозой моя честь.
— Как?! — вскричала старая дама, выпрямляясь, как на пружинах. — Вы уходите с любовником?
— Ошибаетесь, сударыня, — ответила с достоинством Элен, — это мой муж. Госпожа Дерош в ужасе всплеснула руками.
— А теперь, — продолжала Элен, — если известная вам особа попросит свидания со мной, вы скажете ему так: хоть я и провинциалка и монастырская воспитанница, я поняла, что попала в западню, и я из нее вырвалась, и если меня будут искать, то, по крайней мере, рядом со мной будет защитник.
— Но вы не выйдете отсюда, мадемуазель! — воскликнула госпожа Дерош. — Даже если мне придется применить силу.
— Попробуйте, сударыня, — произнесла Элен тоном королевы, который, казалось, был ей свойствен от природы.
— Эй, Пикар, Кутюрье, Бланшо! Прибежали лакеи.
— Первого, кто преградит мне путь, я убью, — произнес холодно Гастон, обнажая шпагу.
— Какой адский характер! — воскликнула Дерош. — О, узнаю вас в ней, мадемуазель де Шартр и мадемуазель де Валуа!
Молодые люди слышали эти слова, но не поняли их.
— Мы уходим, — сказала Элен, — не забудьте повторить слово в слово то, что я вам сказала.
И, опершись на руку Гастона, покрасневшая от радости и гордости, неустрашимая, как древняя амазонка, девушка приказала отпереть дверь на улицу. Швейцар не осмелился сопротивляться, Гастон, держа Элен за руку, закрыл дверь, окликнул фиакр, в котором приехал, и увидев, что слуги собираются их преследовать, обернулся к ним и громко произнес:
— Еще два шага, и я предам эту историю огласке, чтобы общество защитило мадемуазель и меня.
Дерош решила, что Гастон знает тайну и может назвать настоящие имена; она испугалась и поспешно вернулась в дом в сопровождении всей челяди.
И понятливый кучер пустил лошадей в галоп.
— А, шевалье, — сказал он, увидев Гастона, — ну, и как вам моя комната? Удобно, правда? Садитесь-ка и попробуйте вино, оно стоит лучших вин Руссо. А вы, вы-то знали Руссо? Хотя нет, вы же из провинции, а в Бретани, я думаю, вина не пьют, там пьют сидр, пикет, пиво. Я сам мог там пить только водку, больше ничего не смог себе найти.
Гастон не ответил, потому что вообще не слушал, что говорит Ла Жонкьер, — настолько был занят своими мыслями. Он упал в кресло в совершенном отчаянии, судорожно комкая в кармане камзола письмо Элен.
«Где она? — мысленно спрашивал он себя. — Этот огромный Париж может скрыть ее от меня навеки. О, не слишком ли много препятствий для одного человека, у которого к тому же нет ни власти, ни опыта?»
— Да, кстати, — произнес Ла Жонкьер, так легко читавший в сердце молодого человека, словно телесная оболочка его была прозрачна, как стекло, — кстати, шевалье, тут для вас письмо.
— Из Бретани? — спросил, дрожа, шевалье.
— Да нет, из Парижа, и почерк мелкий и очаровательный, и мне сдается, что женский, повеса вы эдакий!
— Где оно? — воскликнул Гастон.
— Спросите у нашего хозяина. Когда я вошел, он вертел его в руках.
— Давайте! Давайте! — закричал Гастон, бросаясь в общий зал.
— Что желает господин шевалье? — спросил Тапен с обычной своей вежливостью.
— Письмо!
— Какое письмо?
— То, что вы получили для меня.
— Ах, извините, сударь, правда, я совсем о нем забыл! ' И он вынул письмо из кармана и вручил его Гастону.
— Бедный глупец! — говорил себе в это время мнимый Ла Жонкьер, — и такие дураки лезут в заговоры! Как тот д'Арманталь, хотят одновременно заниматься политикой и любовью! Трижды дураки! Если бы они вторым делом занимались у Фийон, так первое не приводило бы их на Гревскую площадь. Но для нас-то, раз в нас они не влюблены, лучше, чтобы они такими и были.
Гастон вошел в комнату, светясь радостью. Он читал, перечитывал и снова чуть не по буквам читал письмо Элен:
«Улица Фобур-Сент-Антуан, дом белый, за деревьями, кажется тополями; номера я не смогла заметить, но это тридцать первый или тридцать второй дом по левой стороне улицы, считая от ее начала, причем нужно оставить позади себя по правую руку замок с башнями, похожий на тюрьму».
— О, — воскликнул Гастон, — теперь-то я найду этот замок, это — Бастилия.
Дюбуа расслышал его последние слова и сказал в сторону: «Уж точно найдешь, черт возьми, коли я сам тебя туда доставлю».
Гастон посмотрел на часы: до свидания на Паромной улице ему оставалось еще больше двух часов, он взял шляпу, которую, войдя, положил на стул, и собрался уходить.
— Ну что, летим со всех ног? — спросил Дюбуа.
— Неотложное дело.
— А как же наше свидание в одиннадцать?
— Еще и десяти нет, будьте спокойны, я вернусь.
— Я вам не нужен?
— Спасибо, нет.
— Если вдруг вы собираетесь кого похитить, то я в этом деле дока и могу помочь.
— Благодарю, — сказал Гастон, невольно краснея, — но речь идет не об этом.
Дюбуа тихонько присвистнул, как человек, понимающий, чего стоит такой ответ.
— Я найду вас здесь? — спросил Гастон.
— Не знаю, я тоже думаю, не заняться ли и мне какой-нибудь красивой дамой, проявляющей интерес к моей персоне, но, в любом случае, вы найдете здесь в назначенный час вчерашнего провожатого и ту же карету с тем же кучером.
Гастон поспешно распрощался со своим посетителем. Около кладбища Избиенных Младенцев он взял фиакр и приказал везти себя на улицу Фобур-Сент-Антуан.
Отсчитав двадцатый дом от угла, он вышел, приказал кучеру ехать за ним и пошел вперед, тщательно осматривая всю левую сторону улицы. Вскоре он оказался у толстой стены, из-за которой виднелись густые раскидистые тополя. Этот дом настолько соответствовал описанию, которое ему дала Элен, что Гастон больше не сомневался — девушку прячут именно там. Но здесь начинались трудности: в стене не было никаких отверстий, а у двери — ни молотка, ни колокольчика. Да для франтов они и не нужны были, потому что обычно перед каждым из них бежал скороход и стучал в нужные двери тростью с серебряным набалдашником. Гастон прекрасно обошелся бы и без скорохода и постучал бы в дверь ногой или камнем, но он боялся, что привратник получил специальные распоряжения и может задержать его у дверей, поэтому он приказал кучеру остановиться и, желая предупредить Элен, что он здесь, хорошо известным ей условным сигналом, пошел по переулку, на который дом выходил боковым фасадом. Подойдя к выходившему в сад окну как можно ближе, он поднес руки ко рту и громко закричал совой. Элен вздрогнула: она узнала этот крик, который разносился в бретонских дроковых лугах на одну-две мили, и ей показалось, что она снова в клисонском монастыре августинок и что лодка, в которой стоит шевалье, беззвучно скользя на веслах, сейчас причалит под ее окном среди тростников и лилий. Этот крик отразился от стен и достиг ее ушей, возвещая о присутствии того, кого она ждала, и она тут же подбежала к окну. Молодой человек был тут.
Они с Элен обменялись знаком, который сказал ему: «Я вас ждала», а ей: «Я здесь». Потом она прошла в глубь комнаты, взяла колокольчик, который вручила ей госпожа Дерош совсем в других целях, и позвонила в него так громко, что мгновенно прибежали не только госпожа Дерош, но и лакей с камеристкой.
— Откройте уличную дверь, — повелительно сказала Элен, — у дверей стоит человек, которого я жду.
— Останьтесь, — обратилась госпожа Дерош к лакею, который собирался исполнить приказание, — я сама посмотрю, кто там.
— Бесполезно, сударыня, я знаю, кто это, и уже сказала вам, что это тот, кого я ждала.
— Но, может быть, мадемуазель не следовало бы его принимать? — не сдавалась дуэнья.
— Я уже не в монастыре, сударыня, и еще не в тюрьме, — ответила Элен, — и буду принимать кого сочту нужным.
— Но, по крайней мере, могу я узнать, кто это?
— Не вижу в этом ничего непозволительного, это тот же человек, которого я принимала в Рамбуйе.
— Господин де Ливри?
— Господин де Ливри.
— Я получила твердый приказ никогда не допускать к вам этого молодого человека.
— А я вам приказываю немедленно провести его сюда.
— Мадемуазель, вы отказываетесь повиноваться своему отцу, — возразила полупочтительно, полусердито госпожа Дерош.
— Моему отцу не следует в это вмешиваться, и особенно через ваше посредство, сударыня.
— Тогда кто же распоряжается вашей судьбой?
— Я сама, только я! — воскликнула Элен, сразу взбунтовавшись против насилия над собой.
— Мадемуазель, я клянусь вам, что ваш отец…
— Мой отец одобрит мои поступки, если он мой отец.
Эти слова, в которых звучала гордость императрицы, заставили своей повелительностью склониться госпожу Дерош: она замолкла и осталась стоять неподвижно, как и лакеи, присутствовавшие при этой сцене.
— Так что же, — сказала Элен, — я приказала отпереть дверь, а мне здесь не повинуются?
Никто не шелохнулся, ожидая распоряжений гувернантки.
Элен презрительно улыбнулась и, не желая умалять свой авторитет в глазах прислуги, сделала столь повелительный жест, что госпожа Дерош отошла от двери, которую заслоняла собой, и дала ей дорогу. Тогда Элен медленно и с достоинством спустилась по лестнице в сопровождении госпожи Дерош, до глубины души потрясенной тем, что девушка, всего двенадцать дней назад вышедшая из монастыря, проявляет такую волю.
— Но это настоящая королева, — сказала горничная, идя следом за госпожой Дерош. — Я-то уж точно пошла бы отпереть дверь, если бы она не пошла сама.
— Увы! — произнесла старая гувернантка, — в этой семье все женщины таковы.
— Значит, вы знали эту семью? — удивленно спросила горничная.
— Да, — ответила госпожа Дерош, поняв, что она сказала больше, чем хотела, — да, я знала когда-то господина маркиза, ее отца.
Элен за это время спустилась с крыльца, прошла по двору и властно приказала отпереть дверь: на пороге стоял Гастон.
— Входите, друг мой, — пригласила его Элен. Гастон пошел за ней.
Они вошли в комнаты первого этажа, и дверь за ними закрылась.
— Вы звали меня, Элен, и я тут, — сказал ей молодой человек, — вы чего-то боитесь? Какая опасность вам угрожает?
— Посмотрите вокруг, — ответила Элен, — и судите сами.
Молодые люди находились в тех комнатах, где мы с читателем уже были вместе с регентом и Дюбуа, когда тот хотел показать регенту, как его сын приобщается к светской жизни.
Это был прелестный будуар, примыкающий к столовой, с которой он сообщался, как помнит читатель, не только через две двери, но и через проем посередине стены, декорированный редкими цветами, прекрасными и благоухающими. Стены будуара были обиты голубым шелком, усеянным серебряными розами; четыре работы Клода Одрана, помещенные над дверями, изображали четыре эпизода мифа о Венере: рождение, где она нагая возникает из пены волн, ее любовь к Адонису, соперничество с Психеей, которую богиня приказывает высечь розгами, и, наконец, ее пробуждение в объятиях Марса в сетях, расставленных ее супругом Вулканом. Настенные панно рассказывали другие эпизоды той же истории, и контуры фигур были столь пленительны, а выражение лиц столь сладострастно, что назначение этого уголка не оставляло никаких сомнений.
Картин, о которых Носе в простоте души своей сказал регенту, что они написаны в чистейшем стиле Ментенон, хватило, чтобы привести в ужас молодую девушку.
— Гастон, — сказала она, — неужели вы были правы, когда советовали опасаться этого человека, который представился мне как мой отец? И в самом деле, здесь еще страшнее, чем в Рамбуйе.
Гастон внимательно рассматривал картины одну за другой, краснея и бледнея при мысли о том, что нашелся человек, пытавшийся такими способами смутить чувства Элен; потом он перешел в столовую и оглядел ее во всех деталях, как и будуар: тут были те же эротические картины, столь же соблазнительные. Оттуда они спустились в сад, в котором стояло множество статуй и скульптурных групп, которые продолжали ту же тему и изображали эпизоды, опущенные живописцем. Возвращаясь, они прошли мимо госпожи Дерош, все это время не выпускавшей их из виду, она воздела руки к небу, и у нее невольно вырвалось:
— О Боже мой, что подумает монсеньер?
Буря чувств, которые Гастон до этих пор сдерживал, при этих словах вырвалась наружу.
— Монсеньер! — воскликнул он. — Вы слышали, Элен: монсеньер! Вы имели все основания бояться, инстинкт целомудрия предупредил вас об опасности. Мы с вами находимся в доме одного из тех знатных развратников, которые покупают наслаждения ценой чести. Я никогда не видел этих гибельных жилищ, Элен, но я так себе их и представлял. Картины, статуи, фрески, таинственный полумрак в комнатах, башни, отданные прислуге, чтоб лакеи не мешали развлечениям хозяина, — этого более чем достаточно, чтоб я все понял. Во имя Неба, не дайте себя обманывать дальше, Элен. Я был прав, когда предвидел эту опасность в Рамбуйе, и вы правы, что здесь испытываете страх.
— Боже мой! — сказала Элен. — А вдруг этот человек приедет и прикажет лакеям задержать нас силой?
— Успокойтесь, Элен, — ответил Гастон, — ведь я тут!
— О Господи, Господи, отказаться от сладкой мысли об отце, защитнике, друге!
— Увы! И в такую минуту, когда вы остаетесь в мире одна, — сказал Гастон, невольно выдавая часть своей тайны.
— Что вы говорите, Гастон? Что означают эти зловещие слова?
— Ничего, ничего, — ответил молодой человек, — просто бессвязные слова, не стоит искать в них смысла.
— Гастон, вы, несомненно, скрываете от меня что-то ужасное, раз в ту минуту, когда я теряю отца, говорите, что расстаетесь со мной.
— О, Элен, я расстанусь с вами только вместе со своей жизнью!
— Значит, — прервала его молодая девушка, — ваша жизнь подвергается опасности, и вы боитесь, что умрете и покинете меня. Гастон, вы выдали себя, вы больше не прежний Гастон! Увидев меня сегодня, вы обрадовались как-то принужденно, а расставаясь со мной вчера, не испытали уж такого глубокого горя, ваш ум занят более важными делами, чем ваше сердце. Что-то в вас — гордость ли, честолюбие ли — берет верх над любовью? Вот смотрите, вы и сейчас побледнели! Не молчите, вы разбиваете мне сердце!
— О нет, ничего серьезного, Элен, клянусь вам! Разве всего, что с нами случилось, недостаточно, чтоб привести меня в смятение, разве мало того, что в этом вероломном доме вы одна, вы беззащитны, и я не знаю, как вас от всего этого оградить? В Бретани мне помогли бы защититься друзья и две сотни моих крестьян, а здесь у меня никого нет.
— Только это, Гастон?
— Более чем достаточно, как мне кажется.
— Нет, Гастон, потому что мы сейчас же покинем этот дом. Гастон побледнел, Элен опустила глаза и, вложив свою руку в холодные и влажные руки своего возлюбленного, произнесла:
— Перед всеми этими людьми и на глазах этой продажной женщины, которая может замышлять по отношению ко мне только предательство, мы уйдем отсюда вместе, Гастон.
В глазах Гастона блеснула радость, но тут же ее погасило облако мрачных мыслей.
Элен внимательно следила за сменой чувств на его лице.
— Разве я не ваша жена, Гастон? — спросила она. — И разве моя честь — не ваша честь? Уйдем отсюда!
— Но что делать, — спросил Гастон, — и где поселить вас?
— Гастон, — ответила Элен, — я не знаю ничего и ничего не могу, я не знаю Парижа, не знаю света, но я знаю себя и вас. Вы же мне открыли глаза, и теперь я не верю никому и ничему, кроме вашей преданности и любви.
Сердце Гастона разрывалось; еще шесть месяцев тому назад он отдал бы жизнь за благородную преданность этой мужественной девушки.
— Подумайте, Элен, — упорствовал он, — а если мы ошибаемся и этот человек действительно ваш отец…
— Гастон, вы забываете, что сами внушили мне страх перед этим отцом.
— О да, Элен, да! — воскликнул молодой человек. — Уйдем, чего бы это ни стоило!
— Куда мы пойдем? — спросила Элен. — Впрочем, не нужно ответа, Гастон, лишь бы вы сами это знали, и этого достаточно. И все же еще одна просьба. Вот лики Христа и Богоматери, каким-то чудом попавшие сюда к этим нечестивым картинам. Поклянитесь на этих святых образах блюсти честь своей жены, Гастон.
— Элен, — ответил Гастон, — я оскорбил бы вас такой клятвой, вы первая сегодня предложили мне то, что я колебался предложить вам уже давно. Богатый и счастливый, уверенный в будущем, вручив Господу нашу судьбу, я бы все сложил к вашим ногам: и богатство, и удачу, и счастье; но в эту решительную минуту я должен признаться вам: вы не ошиблись, мое сегодня, возможно, отделено от моего завтра ужасным событием. И вот, Элен, все, что я могу вам предложить: если удача будет мне сопутствовать, может быть, я получу высокое положение и власть, но если удача изменит мне, нам грозят бегство, изгнание и, может быть, нищета. Достаточно ли вы любите меня, Элен, и достаточно ли вы любите вашу честь, чтобы пойти на это?
— Я готова, Гастон, прикажите мне следовать за вами, и я последую.
— Ну что же, Элен, я не обману вашего доверия, будьте спокойны, вы поедете не ко мне, но к одному моему знакомому, он, в случае необходимости, сможет вас защитить и в мое отсутствие заменит вам отца, которого вы было нашли и потеряли во второй раз.
— Но кто этот человек, Гастон? Это не подозрения, — добавила девушка с очаровательной улыбкой, — это любопытство.
— Это человек, который ни в чем не может мне отказать, Элен, его судьба связана с моей судьбой и его жизнь зависит от моей жизни, и он сочтет, что я прошу небольшой платы, требуя обеспечить ваш покой и безопасность.
— Опять какие-то тайны, Гастон, по правде говоря, вы заставляете меня бояться будущего.
— Это последняя тайна, Элен, отныне вся моя жизнь будет открыта вам.
— Спасибо, Гастон.
— Теперь приказывайте, Элен.
— Идем.
Элен взяла шевалье под руку и прошла через гостиную; посредине ее стояла госпожа Дерош с перекошенным от негодования лицом и комкала в руках письмо, о назначении которого читатель может догадаться.
— О Боже, — воскликнула она, — мадемуазель, куда вы? Что вы делаете?
— Куда я?.. Я уезжаю. Что я делаю? Я бегу из дома, где под угрозой моя честь.
— Как?! — вскричала старая дама, выпрямляясь, как на пружинах. — Вы уходите с любовником?
— Ошибаетесь, сударыня, — ответила с достоинством Элен, — это мой муж. Госпожа Дерош в ужасе всплеснула руками.
— А теперь, — продолжала Элен, — если известная вам особа попросит свидания со мной, вы скажете ему так: хоть я и провинциалка и монастырская воспитанница, я поняла, что попала в западню, и я из нее вырвалась, и если меня будут искать, то, по крайней мере, рядом со мной будет защитник.
— Но вы не выйдете отсюда, мадемуазель! — воскликнула госпожа Дерош. — Даже если мне придется применить силу.
— Попробуйте, сударыня, — произнесла Элен тоном королевы, который, казалось, был ей свойствен от природы.
— Эй, Пикар, Кутюрье, Бланшо! Прибежали лакеи.
— Первого, кто преградит мне путь, я убью, — произнес холодно Гастон, обнажая шпагу.
— Какой адский характер! — воскликнула Дерош. — О, узнаю вас в ней, мадемуазель де Шартр и мадемуазель де Валуа!
Молодые люди слышали эти слова, но не поняли их.
— Мы уходим, — сказала Элен, — не забудьте повторить слово в слово то, что я вам сказала.
И, опершись на руку Гастона, покрасневшая от радости и гордости, неустрашимая, как древняя амазонка, девушка приказала отпереть дверь на улицу. Швейцар не осмелился сопротивляться, Гастон, держа Элен за руку, закрыл дверь, окликнул фиакр, в котором приехал, и увидев, что слуги собираются их преследовать, обернулся к ним и громко произнес:
— Еще два шага, и я предам эту историю огласке, чтобы общество защитило мадемуазель и меня.
Дерош решила, что Гастон знает тайну и может назвать настоящие имена; она испугалась и поспешно вернулась в дом в сопровождении всей челяди.
И понятливый кучер пустил лошадей в галоп.
XXII. ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ДОМЕ НА ПАРОМНОЙ УЛИЦЕ, ПОКА ТАМ ЖДАЛИ ГАСТОНА
— Как, монсеньер, вы здесь? — воскликнул Дюбуа, войдя в гостиную дома на Паромной и увидев регента на том же месте, что вчера.
— Да, я здесь, — ответил регент, — ну и что в этом удивительного? Разве я не назначил шевалье свидание на полдень?
— Но мне казалось, что приказ, который вы подписали, положил конец совещаниям.
— Ошибаешься, Дюбуа. Я хотел бы последний раз поговорить с этим беднягой и попытаться отвратить от его намерений.
— И если он от них откажется?
— И прекрасно, если он от них откажется, все будет кончено, значит, заговора не было, ибо намерения ненаказуемы.
— Ну, с другим человеком я бы вам этого делать не дал, а с этим скажу: попробуйте.
— Ты думаешь, что он от своих планов не откажется?
— О, я успокоюсь, только если он совершенно оставит их, но если вы убедитесь, что он упорствует в своем намерении убить вас, вы предоставите его мне, правда?
— Но только не здесь.
— Почему не здесь?
— Мне кажется, что его лучше арестовать в гостинице.
— Там, в «Бочке Амура», Тапеном и людьми д'Аржансона? Невозможно, монсеньер, скандал из-за ареста Бургиньона еще свеж в памяти, квартал бурлил целый день. С тех пор как Тапен начал точно отмеривать вино, они уже не так верят в то, что его предшественника хватил удар. Уж лучше здесь, когда он будет выходить, монсеньер. Дом стоит уединенно, у него хорошая репутация; мне кажется, я говорил вашему высочеству, что здесь жила одна из моих любовниц. С этим бретонцем легко справятся четыре человека, и они уже спрятаны в этой комнате. Я просто размещу их с другой стороны, раз ваше высочество хочет обязательно увидеть его. Вместо того чтобы задержать при входе, его арестуют при выходе, вот и все. У дверей будет готов другой экипаж — не тот, что привезет его сюда, а который доставит шевалье в Бастилию таким образом, что даже кучер не будет знать, что с ним сталось. В курсе дела будет только господин де Лонэ, а он не болтлив, ручаюсь вам.
— Делай как знаешь.
— Монсеньер знает, что я почти всегда так и поступаю.
— Наглец ты!
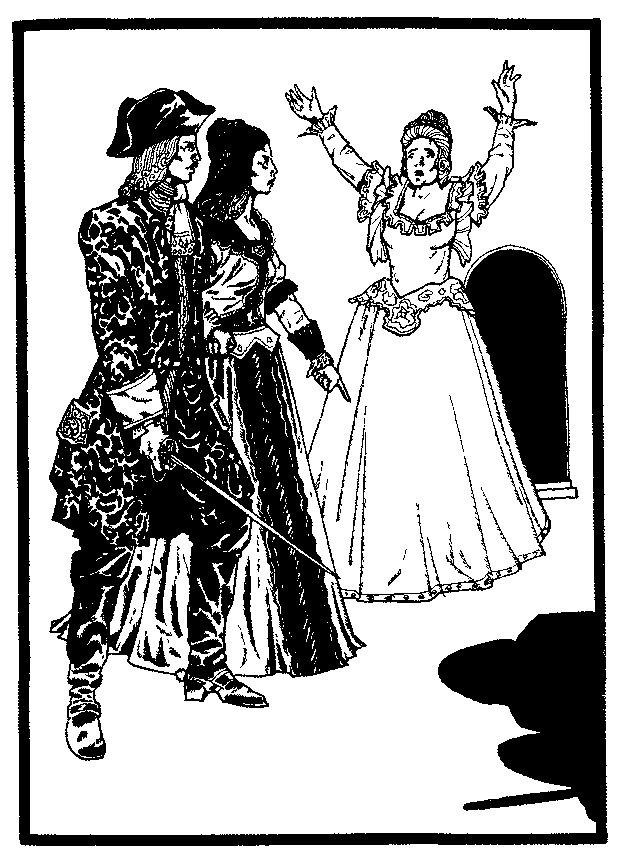 — Но, кажется, моя наглость не сделала монсеньеру ничего худого?
— Но, кажется, моя наглость не сделала монсеньеру ничего худого?
— О, я знаю, что ты всегда прав.
— А что с другими?
— Какими другими?
— С нашими бретонцами в провинции: с Понкалеком, Куэдиком, Талуэ и Монлуи?
— Вот несчастные! Ты знаешь их имена?
— Ну а чем, по-вашему, я занимался столько времени в гостинице «Бочка Амура»?
— Они узнают об аресте своего сообщника.
— От кого?
— Ну, увидят, что их корреспондент в Париже не отвечает, и поймут, что с ним что-то случилось.
— Ба! А разве нет капитана Ла Жонкьера, чтоб их успокоить?
— Есть-то он есть, но они, наверное, знают его почерк?
— Ну-ну, неплохо, монсеньер начинает кое-что понимать в этом, но ваше высочество проявляет напрасную заботу, как говорит Расин, в этот час господа бретонцы уже должны быть арестованы.
— А кто отправил приказ?
— Я, черт возьми! Я недаром ем хлеб министра, впрочем, вы этот приказ подписали.
— Как, я? Ты с ума сошел!
— Конечно, вы. Те господа заговорщики виновны ровно столько же, как здешний, и дав мне разрешение арестовать одного, вы, тем самым, разрешили мне арестовать и других.
— А когда ты отправил гонца с приказом? Дюбуа вынул часы.
— Ровно три часа назад, таким образом, я допустил поэтическую вольность, сказав вашему высочеству, что они уже арестованы: их арестуют только завтра утром.
— Бретань будет роптать, Дюбуа.
— Ба! Я принял меры.
— Бретонские суды не захотят судить соотечественников.
— Я это предвидел.
— Если их приговорят к смерти, не найдется палача, чтобы привести приговор в исполнение, и мы получим второе издание дела Шале. Ведь это дело тоже слушалось в Нанте, не забывай, Дюбуа. Говорю тебе, с бретонцами трудно жить.
— Скажите лучше, что их трудно заставить умереть, но это еще один пункт, который надо обговорить с нашими комиссарами, список которых я вам представляю. Трех или четырех палачей я пошлю из Парижа, это все люди, привычные к благородной работе, сохранившие добрые традиции кардинала Ришелье.
— О черт! — воскликнул регент. — Кровь в мое правление! Не люблю я этого. Ну, можно еще было пролить кровь графа Горна — он был вор, или Дюшофура — тот был подлец. Я чувствителен, Дюбуа.
— Нет, монсеньер, вы не чувствительны, вы нерешительны и слабы. Я говорил, когда вы были еще моим учеником, и повторяю сегодня, когда вы стали моим господином: при крещении феи, ваши крестные, одарили вас всем: красотой, силой, храбростью и умом, но одну фею не пригласили — она была стара, и, наверное, тогда уже было ясно, что старые женщины будут вам неприятны, — она, однако, явилась последней, преподнесла вам в дар легкость характера и все испортила.
— Кто рассказал тебе эту прелестную сказку? Перро или Сен-Симон?
— Принцесса Пфальцская, ваша матушка. Регент рассмеялся.
— И кого же мы назначим комиссарами? — спросил он.
— О, будьте спокойны, монсеньер, людей умных и решительных, совсем не провинциалов, людей слабочувствительных к семейным сценам, состарившихся в судейской пыли, заскорузлых сердцем и поднаторевших в крючкотворстве, которых не испугают страшные глаза бретонцев и не соблазнят прекрасные заплаканные глаза бретонок.
Регент молчал, он только кивал головой и покачивал ногой.
— А вообще-то, — продолжал Дюбуа, который понимал, что регент с ним не согласен, — может быть, эти люди и не так виновны, как нам кажется. Что они замышляли? Перечислим еще раз факты. Ба! Сущие пустяки! Вернуть испанцев во Францию — ну, подумаешь! Назвать Филиппа V, отступника родины, «мой король», отменить все законы государства… Уж эти мне добрые бретонцы!
— Все это хорошо, — высокомерно прервал его регент, — я не хуже вас знаю государственные законы.
— Тогда, монсеньер, если это действительно так, вам осталось только одобрить список выбранных мной комиссаров.
— Сколько их?
— Двенадцать.
— И их зовут?..
— Мабруль, Бертен, Барийон, Париссо, Брюне-д'Арси, Пагон, Фейдо-де-Бру, Мадорж, Эбэр-де-Бук, Сент-Обен, де Боссан и Обри де Вальтон.
— Да, я здесь, — ответил регент, — ну и что в этом удивительного? Разве я не назначил шевалье свидание на полдень?
— Но мне казалось, что приказ, который вы подписали, положил конец совещаниям.
— Ошибаешься, Дюбуа. Я хотел бы последний раз поговорить с этим беднягой и попытаться отвратить от его намерений.
— И если он от них откажется?
— И прекрасно, если он от них откажется, все будет кончено, значит, заговора не было, ибо намерения ненаказуемы.
— Ну, с другим человеком я бы вам этого делать не дал, а с этим скажу: попробуйте.
— Ты думаешь, что он от своих планов не откажется?
— О, я успокоюсь, только если он совершенно оставит их, но если вы убедитесь, что он упорствует в своем намерении убить вас, вы предоставите его мне, правда?
— Но только не здесь.
— Почему не здесь?
— Мне кажется, что его лучше арестовать в гостинице.
— Там, в «Бочке Амура», Тапеном и людьми д'Аржансона? Невозможно, монсеньер, скандал из-за ареста Бургиньона еще свеж в памяти, квартал бурлил целый день. С тех пор как Тапен начал точно отмеривать вино, они уже не так верят в то, что его предшественника хватил удар. Уж лучше здесь, когда он будет выходить, монсеньер. Дом стоит уединенно, у него хорошая репутация; мне кажется, я говорил вашему высочеству, что здесь жила одна из моих любовниц. С этим бретонцем легко справятся четыре человека, и они уже спрятаны в этой комнате. Я просто размещу их с другой стороны, раз ваше высочество хочет обязательно увидеть его. Вместо того чтобы задержать при входе, его арестуют при выходе, вот и все. У дверей будет готов другой экипаж — не тот, что привезет его сюда, а который доставит шевалье в Бастилию таким образом, что даже кучер не будет знать, что с ним сталось. В курсе дела будет только господин де Лонэ, а он не болтлив, ручаюсь вам.
— Делай как знаешь.
— Монсеньер знает, что я почти всегда так и поступаю.
— Наглец ты!
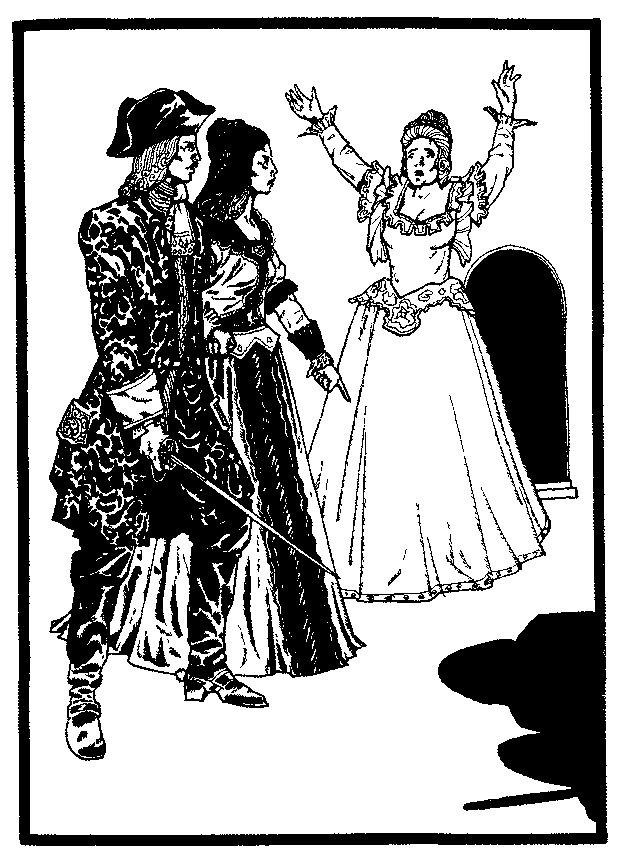
— О, я знаю, что ты всегда прав.
— А что с другими?
— Какими другими?
— С нашими бретонцами в провинции: с Понкалеком, Куэдиком, Талуэ и Монлуи?
— Вот несчастные! Ты знаешь их имена?
— Ну а чем, по-вашему, я занимался столько времени в гостинице «Бочка Амура»?
— Они узнают об аресте своего сообщника.
— От кого?
— Ну, увидят, что их корреспондент в Париже не отвечает, и поймут, что с ним что-то случилось.
— Ба! А разве нет капитана Ла Жонкьера, чтоб их успокоить?
— Есть-то он есть, но они, наверное, знают его почерк?
— Ну-ну, неплохо, монсеньер начинает кое-что понимать в этом, но ваше высочество проявляет напрасную заботу, как говорит Расин, в этот час господа бретонцы уже должны быть арестованы.
— А кто отправил приказ?
— Я, черт возьми! Я недаром ем хлеб министра, впрочем, вы этот приказ подписали.
— Как, я? Ты с ума сошел!
— Конечно, вы. Те господа заговорщики виновны ровно столько же, как здешний, и дав мне разрешение арестовать одного, вы, тем самым, разрешили мне арестовать и других.
— А когда ты отправил гонца с приказом? Дюбуа вынул часы.
— Ровно три часа назад, таким образом, я допустил поэтическую вольность, сказав вашему высочеству, что они уже арестованы: их арестуют только завтра утром.
— Бретань будет роптать, Дюбуа.
— Ба! Я принял меры.
— Бретонские суды не захотят судить соотечественников.
— Я это предвидел.
— Если их приговорят к смерти, не найдется палача, чтобы привести приговор в исполнение, и мы получим второе издание дела Шале. Ведь это дело тоже слушалось в Нанте, не забывай, Дюбуа. Говорю тебе, с бретонцами трудно жить.
— Скажите лучше, что их трудно заставить умереть, но это еще один пункт, который надо обговорить с нашими комиссарами, список которых я вам представляю. Трех или четырех палачей я пошлю из Парижа, это все люди, привычные к благородной работе, сохранившие добрые традиции кардинала Ришелье.
— О черт! — воскликнул регент. — Кровь в мое правление! Не люблю я этого. Ну, можно еще было пролить кровь графа Горна — он был вор, или Дюшофура — тот был подлец. Я чувствителен, Дюбуа.
— Нет, монсеньер, вы не чувствительны, вы нерешительны и слабы. Я говорил, когда вы были еще моим учеником, и повторяю сегодня, когда вы стали моим господином: при крещении феи, ваши крестные, одарили вас всем: красотой, силой, храбростью и умом, но одну фею не пригласили — она была стара, и, наверное, тогда уже было ясно, что старые женщины будут вам неприятны, — она, однако, явилась последней, преподнесла вам в дар легкость характера и все испортила.
— Кто рассказал тебе эту прелестную сказку? Перро или Сен-Симон?
— Принцесса Пфальцская, ваша матушка. Регент рассмеялся.
— И кого же мы назначим комиссарами? — спросил он.
— О, будьте спокойны, монсеньер, людей умных и решительных, совсем не провинциалов, людей слабочувствительных к семейным сценам, состарившихся в судейской пыли, заскорузлых сердцем и поднаторевших в крючкотворстве, которых не испугают страшные глаза бретонцев и не соблазнят прекрасные заплаканные глаза бретонок.
Регент молчал, он только кивал головой и покачивал ногой.
— А вообще-то, — продолжал Дюбуа, который понимал, что регент с ним не согласен, — может быть, эти люди и не так виновны, как нам кажется. Что они замышляли? Перечислим еще раз факты. Ба! Сущие пустяки! Вернуть испанцев во Францию — ну, подумаешь! Назвать Филиппа V, отступника родины, «мой король», отменить все законы государства… Уж эти мне добрые бретонцы!
— Все это хорошо, — высокомерно прервал его регент, — я не хуже вас знаю государственные законы.
— Тогда, монсеньер, если это действительно так, вам осталось только одобрить список выбранных мной комиссаров.
— Сколько их?
— Двенадцать.
— И их зовут?..
— Мабруль, Бертен, Барийон, Париссо, Брюне-д'Арси, Пагон, Фейдо-де-Бру, Мадорж, Эбэр-де-Бук, Сент-Обен, де Боссан и Обри де Вальтон.
