Страница:
Наум Давидович Фогель
Капитан флагмана


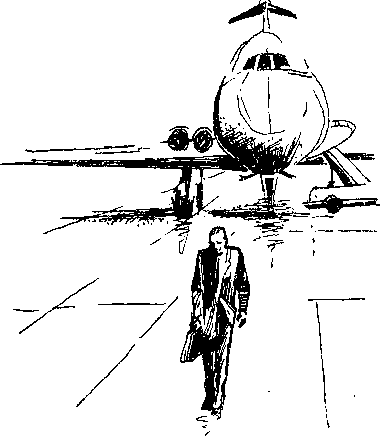
1
Самолет стал крениться на правое крыло. Знакомый вираж перед посадкой. Бунчужный смотрел в иллюминатор. Город лежал внизу, ярко освещенный утренним солнцем. Отсюда, с высоты, хорошо видно, как он привольно раскинулся на крутом берегу большой реки, видны его площади и улицы – в центре прямые, как стрелы, у прибережья слегка изогнутые, на окраинах узкие, извилистые. И дома. Старые, крытые железом или давно вышедшей из моды черепицей. В районе Зареченской слободы – почти все под шифером, с небольшими зелеными двориками и верандами, увитыми виноградом. И новые – из белого силикатного кирпича. Эти стоят массивными четырехугольниками и многоугольниками. Они так и называются – жилмассивы. Кое-где десяти– и шестнадцатиэтажные строения вздымаются и в старом городе. Рядом со своими соседями они кажутся великанами, случайно вставшими в одну шеренгу с карликами.
Самолет разворачивается над рекой. Она была хороша в этот утренний час – широкая, темно-синяя. Здесь начиналась ее дельта. На юг и запад, сколько глазом окинешь, до самого горизонта, подернутого сизой дымкой, вода и зелень, зелень и вода. Десятки речушек, ериков и озер, островов, совсем крохотных и таких огромных, как тот, что под самолетом сейчас, Крамольный.
На нем раскинулось несколько верфей и заводов, в том числе и его, Бунчужного, самый крупный – ордена Ленина судостроительный. Теперь – дважды ордена Ленина. В Комсомольске-на-Амуре – тоже дважды ордена Ленина, но тот еще до войны построен, а этому – семнадцать стукнуло. Мальчишка. Дважды орденоносный мальчишка.
Вручение второго ордена было намечено на вторник. «Хорошо, если б и на этот раз министр прилетел, – думал Бунчужный. – Он, когда орден вручает, становится чуточку сентиментальным, и тут, если не растеряться… Надо будет послать Константина Иннокентьевича в Отрадное. Пусть все подготовит. Наш министр любит раньше своими глазами посмотреть, а уж потом деньги давать. Очень кстати нам был бы сейчас пятиэтажный корпус для дома отдыха. Бетонная дамба. За ней – полоса деревьев. А за ними уже – это пятиэтажное здание».
Отсюда, с высоты, хорошо виден стапель, упирающийся в железные ворота док-камеры, огромные цеха, административный корпус, многоэтажные дома поселка корабелов, расположенного рядом с заводом…
Бунчужный присмотрелся. Двести шестой на стапеле еще… А его нужно было сбросить на воду еще три дня назад. Сухогруз для Кувейта передвинут на новую позицию, надстройки закончены. Хоть за это спасибо тебе, Лорд. А за то, что двести шестой задержал… Экая досада: была задумка сбросить на воду в этом месяце не две, а три «коробочки». Очень важно не просто выполнить, а перевыполнить план. Именно сейчас.
Взгляд Бунчужного упал на крытый эллинг соседнего завода, что стоял на западной окраине Крамольного, у просторного затона. Рядом с эллингом красовался выведенный для спуска на воду ледокольный сухогруз.
«Вытолкал все же Романов свое детище из эллинга. С опозданием на два месяца, но вытолкал. Если б вовремя спихнул, может быть, не пришлось бы сейчас… Вот у кого не хотелось бы принимать завод!»
Правое крыло самолета еще больше ушло вниз. Под ним теперь убегал густо поросший осокорями, развесистыми ивами да непролазным тальником левый берег Вербовой. На фарватере виднелась вся облитая солнцем белоснежная «Ракета». Отсюда она казалась почти неподвижной, только белый бурун за кормой… На рейде у элеватора дремлют два иностранца: один свежевыкрашенный, нарядно-белый, другой – похожий на огромный утюг с рыжими подтеками на боках, истосковавшийся по ремонту.
Самолет шел над городом, выравниваясь и продолжая снижаться. Справа – центральная улица, проспект Победы. Эта улица пролегла широкой лентой от вокзала до реки, разрезая город на две части. А вот и девятая больница, терапевтический корпус… Тут, в небольшой палате рядом с ординаторской, вот уже третий месяц мается жена. С Галиной удалось поговорить только около полуночи. Узнав, что отец на рассвете вылетает, она обрадовалась. И в этой радости ему почудилась тревога. Он хотел спросить, не успокаивает ли она его, но вместо этого спросил, все ли в порядке у нее дома и как себя чувствует Сергей. «Надо было мне Сергею позвонить, – подумал Бунчужный. – Он бы не стал скрывать». Но зятю Тарас Игнатьевич звонить не хотел. С тем, что Галина вышла замуж за этого уже немолодого человека, примирился, а вот неприязни своей к нему преодолеть не мог.
…Аэропорт. На черной полосе асфальта, обрамляющей привокзальный сквер, Бунчужный узнал среди других машин свою вороную «Волгу». И Диму, шофера, тоже узнал. Он стоял и, отгораживаясь ладонью от солнца, глядел в небо.
Самолет пошел на посадку. У выхода из аэровокзала Бунчужного встретил радостно улыбающийся Дима, загорелый, тщательно выбритый. Ворот его рубахи был расстегнут. Мускулистая шея – напоказ. Он поздоровался с Тарасом Игнатьевичем, забрал у него небольшой чемодан. Садясь в машину, Бунчужный посмотрел на часы.
– Домой? – спросил Дима, запустив мотор.
– На завод, – бросил Бунчужный.
Главная улица лежала меж двух стен пирамидальных тополей, вымахавших на добрых двадцать пять – тридцать метров. Только что политый асфальт жирно лоснился. Деревья отражались в нем, как в слегка затуманенном зеркале.
Машина подъезжала к больнице. Дима покосился на Бунчужного, сбавил скорость.
– Не будем, слишком рано, – сказал Тарас Игнатьевич и вдруг увидел Галину. Она тоже заметила отца и побежала к нему. Тарас Игнатьевич вышел из машины, сделал несколько шагов навстречу, обнял. – Как мама?
– Ты же видишь, я была дома. Позавтракала, поболтала с Сергеем и вот иду в больницу.
– А все же?
– К утру ей стало лучше. Утихли боли. Она даже заснула перед рассветом. Как у тебя там?
Это короткое «там» каждый раз обозначало что-нибудь другое. Сейчас – министерство.
– «Там» у меня о'кэй. А у вас дома?
– Дома тоже все о'кэй.
Она улыбнулась. Что-то не понравилось Бунчужному в этой улыбке.
– Ты плохо выглядишь, Галина.
– Пустяки. Немного устала, и только. Вчера маму осматривали главный хирург области, профессор из Киева и Остап Филиппович. Они решили, что повторная операция не нужна.
«Опять консилиум, значит, – с тоской подумал Бунчужный. – Профессор из Киева, главный хирург области, Чумаченко Остап Филиппович… киты!» А вслух спросил:
– Что думает Андрей Григорьевич?
Для Тараса Игнатьевича превыше всего было мнение Андрея Григорьевича Багрия – заведующего терапевтическим отделением. Он знал его еще с детства. И жизнью был обязан ему.
– Что думает Андрей Григорьевич? – переспросила Галина. – Я уже говорила: он посоветовал увеличить дозу наркотала. После этого маме сразу же легче стало.
– Это было еще до моего отъезда. Ладно, я к нему загляну. – И, как бы оправдываясь за это «я к нему загляну», добавил шутливо: – От тебя ведь все равно правды не узнаешь. У мамы буду в четыре.
Бунчужный забрался на свое место, оглянулся вслед Галине и громче обычного хлопнул дверцей.
Дима вел машину ровно, спокойно: знал, что Тарас Игнатьевич терпеть не может суетливой езды по городу. Линия тополей внезапно оборвалась, открылась центральная площадь. Площадь Героев. На заднем плане – высокое здание обкома, массивное и в то же время легкое. Глядя на него, Бунчужный всегда думал, что архитектор, безусловно, решил соединить в этом здании воедино незыблемость и простоту. В центре площади – могила Неизвестного солдата. На беломраморном, слегка наклоненном постаменте – большая звезда. Из отверстия посредине в потускневшей позолоте граней бьется, чуть вздрагивая, голубизна Вечного огня. К постаменту от линии тротуара ведет вымощенная плитами красного полированного мрамора дорожка. По краям площади обелиски, тоже красного мрамора. На них имена земляков – участников Отечественной войны, Героев Советского Союза. Цветники на площади лежат где узкими, где широкими прямоугольниками, напоминая ковры. Их много – этих ковров. Сейчас, после полива, цветные узоры на них искрились, словно вышитые самоцветами по малахитовому бархату. Промелькнули универмаг, кинотеатр, высотное здание гостиницы, почтамт… Широкие массивные двери его были по просьбе секретаря обкома сделаны на судостроительном, как и облицовка из плиток нержавеющей стали на колоннах городской библиотеки.
Машина, чуть замедлив ход, свернула на Степную. Вот и дом, где живет доктор Багрий. Может, заглянуть?.. Не стоит, он сейчас собирается в больницу, торопится. Нет хуже разговора наспех.
Дима чуть притормозил, потом снова прибавил газу. Тарас Игнатьевич покосился на него. «Почему он пошел в шоферы? Такой мастер…»
– Чего это ты решил за баранку взяться? Слесарь высшего разряда и вдруг – за баранку?
– Наследственность, – не поворачивая головы, ответил Дима. – Дед в ломовых извозчиках всю жизнь проходил. Батя в Гужтрансе маялся на биндюге в две лошадиные силы. А мне «Волга» досталась. Да еще директорская. Генетика!
– Увиливаешь?
– На легкие хлеба потянуло, захотелось чистенькой работы. Чтоб при галстучке. И еще захотелось к вам присмотреться. Присмотрюсь и, гляди, в директора выбьюсь. Славы захотелось. Славы и почета.
– Смотри, чтоб не плакать потом. Слава, она, брат, на крепкую голову рассчитана.
– Так я же присматриваюсь только.
– Присматривайся, присматривайся. Чем черт не шутит. Может, в министры выберешься.
– В министры – это потом, а пока вполне устраивает и директором судостроительного. Хотя бы такого, как наш. Заводик первоклассный. Что надо заводик! Дважды орденоносный! Немного подиректорствую, а потом уже – в министры.
– Давай, давай. Я тогда к тебе водителем пойду. Лады?
– Лады. Вот шуму-то будет! Димка, скажут, вон как вымахал. Бунчужный у него шофером. Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда у Димки – шофером!
Машина вышла на Стапельную площадь. Линию тротуара тут резко отграничивала от мостовой белая кайма бордюра.
– Бордюрчик, пока вас не было, Ширинкин вон как отделал, – усмехнулся Дима.
Стапельная площадь нелегко далась Бунчужному. Пришлось убрать больше двух десятков старых домов, освободившееся место выровнять, покрыть асфальтом. В центре – огромная клумба. Она, как и цветники на площади Героев, была похожа на вытканный разноцветными узорами ковер и тоже искрилась. Прежде трамваи, автобусы и грузовики вечно скапливались тут перед мостом через Бинду. Особенно в часы «пик». А сейчас…
Ровным потоком вливался сюда транспорт из пяти улиц. Огибая клумбу, машины устремлялись к бетонному мосту. Мост назывался Кузнечным. Когда-то здесь было множество кузниц – и у причалов, и неподалеку на склоне, и выше, на кривых улочках, где ютился рабочий и торговый люд. В старину здесь было царство извозчиков. Тут ковали лошадей, обивали железом тяжелые грузовые повозки, так называемые биндюги, арбы и шарабаны, натягивали железные шины на колеса, ремонтировали баркасы и шаланды. В память об этих кузнях и назвали мост Кузнечным. Прежде он был деревянный. После того как «отгрохали» площадь, поставили этот – железобетонный. Перила его напоминают чугунную вязь оград ленинградских парков.
Не умещаясь на тротуарах, захватывая порой проезжую часть, к заводу валил народ – с ближайших улиц и отдаленных. Даже из центра. Эти тоже нередко предпочитали идти пешком. С транспортом в городе, сколько помнит Бунчужный, всегда было трудно. Людской поток с моста выплескивался на широкую Корабельную улицу, что на Крамольном острове уже. Машина вышла сюда, потом свернула в глухой Вымпельный переулок, ведущий к центральной проходной. И тут бордюр тротуара был выкрашен в белый цвет. «Ширин, как всегда, перестарался, – думал Бунчужный. – Бордюр можно бы и не красить».
– Долго нам еще с чистой шеей ходить? – спросил Дима с насмешкой в голосе.
Тарас Игнатьевич хотел было сказать, что гостей положено встречать в прибранном помещении, около дома подмести и шею вымыть… Но вместо этого покосился на белый бордюр, на котором чья-то варварская рука вывела углем короткие и выразительные в своем неприличии слова.
– А шея-то уже подзагрязнилась, – бросил он сердито и добавил: – Сукины дети, даже буквы писать как следует не научились.
– Прикажите Ширинкину. Он в два счета перекрасит заново. Только надо не в белый, а в черный, чтоб художества углем не так в глаза бросались.
– Мелом напишут. Изловить бы одного да всыпать хорошенько, чтоб другим неповадно было.
– А вы тому же товарищу Ширинкину скажите, чтоб распорядился патруль из военизированной охраны выставить. Пока гости будут.
– Ты его Ширинкиным окрестил? – недовольно спросил Бунчужный.
– Я.
– Обидная кличка.
– Ширин К.Ин. Вместе – Ширинкин. Вольно же было его батьке, зная свое имя и фамилию, сына Костей называть. За отцовские грехи расплачивается наш Константин Иннокентьевич.
– А ты злой, оказывается.
– Я не злой. Я веселый. Американцы говорят, деловые люди обязательно должны быть с юмором. Вот я и тренируюсь.
– Да помолчал бы ты, веселый человек.
– Могу и помолчать.
Машина свернула к воротам. Они были открыты, но перехвачены поперек тяжелой цепью. Охранник увидел директорскую машину, торопливо отстегнул цепь, опустил ее на землю и приподнял фуражку. Тарас Игнатьевич кивнул ему.
«Волга» подкатила к административному корпусу. По тротуару, направляясь к стапельному цеху, шли двое: крепкий, широкоплечий, пожилой уже бригадир судосборщиков Василий Скиба и худощавый, невысокого роста Назар Каретников – электросварщик. Тарас Игнатьевич окликнул Скибу. Тот остановился. Каретников тоже остановился.
Скибу Тарас Игнатьевич знал давно. И Каретникова знал: один из лучших электросварщиков на стапеле. Корифей своего дела. Одна беда – выпить любит. В понедельник за ответственные швы не брался: дорожил авторитетом.
Бунчужный ответил на приветствие Каретникова и, внимательно присмотревшись к нему, нахмурился.
– Опять? Сколько раз предупреждали!
– Вчера ко мне кум с кумой наведывались. Всего на один день приехали. Пришлось уважить. А только я…
– Как на стапеле, Василий Платонович? – спросил Бунчужный, не дослушав Каретникова.
– Надо бы начало работы передвинуть, Тарас Игнатьевич. Солнце хулиганит.
Бунчужный заметил, что график начала работы на стапеле обычно передвигают позже.
– Так оно ведь год на год не выходит. Ныне солнце просто сказилось.
– Ладно, распоряжусь. А его, – указал на Каретникова, – к работе не допускать. И вообще – в отдел кадров. Надоело!
– Так его только вчера в мою бригаду определили, – возразил Скиба, и в голосе его послышалась обида. – Сами знаете, как с людьми у нас.
– Все, Василий Платонович.
Он попрощался со Скибой и направился к себе. Глядя на его энергичную походку, никто не подумал бы, что этой ночью он так и не прилег. Только подремал немного в кресле во время полета.
Самолет разворачивается над рекой. Она была хороша в этот утренний час – широкая, темно-синяя. Здесь начиналась ее дельта. На юг и запад, сколько глазом окинешь, до самого горизонта, подернутого сизой дымкой, вода и зелень, зелень и вода. Десятки речушек, ериков и озер, островов, совсем крохотных и таких огромных, как тот, что под самолетом сейчас, Крамольный.
На нем раскинулось несколько верфей и заводов, в том числе и его, Бунчужного, самый крупный – ордена Ленина судостроительный. Теперь – дважды ордена Ленина. В Комсомольске-на-Амуре – тоже дважды ордена Ленина, но тот еще до войны построен, а этому – семнадцать стукнуло. Мальчишка. Дважды орденоносный мальчишка.
Вручение второго ордена было намечено на вторник. «Хорошо, если б и на этот раз министр прилетел, – думал Бунчужный. – Он, когда орден вручает, становится чуточку сентиментальным, и тут, если не растеряться… Надо будет послать Константина Иннокентьевича в Отрадное. Пусть все подготовит. Наш министр любит раньше своими глазами посмотреть, а уж потом деньги давать. Очень кстати нам был бы сейчас пятиэтажный корпус для дома отдыха. Бетонная дамба. За ней – полоса деревьев. А за ними уже – это пятиэтажное здание».
Отсюда, с высоты, хорошо виден стапель, упирающийся в железные ворота док-камеры, огромные цеха, административный корпус, многоэтажные дома поселка корабелов, расположенного рядом с заводом…
Бунчужный присмотрелся. Двести шестой на стапеле еще… А его нужно было сбросить на воду еще три дня назад. Сухогруз для Кувейта передвинут на новую позицию, надстройки закончены. Хоть за это спасибо тебе, Лорд. А за то, что двести шестой задержал… Экая досада: была задумка сбросить на воду в этом месяце не две, а три «коробочки». Очень важно не просто выполнить, а перевыполнить план. Именно сейчас.
Взгляд Бунчужного упал на крытый эллинг соседнего завода, что стоял на западной окраине Крамольного, у просторного затона. Рядом с эллингом красовался выведенный для спуска на воду ледокольный сухогруз.
«Вытолкал все же Романов свое детище из эллинга. С опозданием на два месяца, но вытолкал. Если б вовремя спихнул, может быть, не пришлось бы сейчас… Вот у кого не хотелось бы принимать завод!»
Правое крыло самолета еще больше ушло вниз. Под ним теперь убегал густо поросший осокорями, развесистыми ивами да непролазным тальником левый берег Вербовой. На фарватере виднелась вся облитая солнцем белоснежная «Ракета». Отсюда она казалась почти неподвижной, только белый бурун за кормой… На рейде у элеватора дремлют два иностранца: один свежевыкрашенный, нарядно-белый, другой – похожий на огромный утюг с рыжими подтеками на боках, истосковавшийся по ремонту.
Самолет шел над городом, выравниваясь и продолжая снижаться. Справа – центральная улица, проспект Победы. Эта улица пролегла широкой лентой от вокзала до реки, разрезая город на две части. А вот и девятая больница, терапевтический корпус… Тут, в небольшой палате рядом с ординаторской, вот уже третий месяц мается жена. С Галиной удалось поговорить только около полуночи. Узнав, что отец на рассвете вылетает, она обрадовалась. И в этой радости ему почудилась тревога. Он хотел спросить, не успокаивает ли она его, но вместо этого спросил, все ли в порядке у нее дома и как себя чувствует Сергей. «Надо было мне Сергею позвонить, – подумал Бунчужный. – Он бы не стал скрывать». Но зятю Тарас Игнатьевич звонить не хотел. С тем, что Галина вышла замуж за этого уже немолодого человека, примирился, а вот неприязни своей к нему преодолеть не мог.
…Аэропорт. На черной полосе асфальта, обрамляющей привокзальный сквер, Бунчужный узнал среди других машин свою вороную «Волгу». И Диму, шофера, тоже узнал. Он стоял и, отгораживаясь ладонью от солнца, глядел в небо.
Самолет пошел на посадку. У выхода из аэровокзала Бунчужного встретил радостно улыбающийся Дима, загорелый, тщательно выбритый. Ворот его рубахи был расстегнут. Мускулистая шея – напоказ. Он поздоровался с Тарасом Игнатьевичем, забрал у него небольшой чемодан. Садясь в машину, Бунчужный посмотрел на часы.
– Домой? – спросил Дима, запустив мотор.
– На завод, – бросил Бунчужный.
Главная улица лежала меж двух стен пирамидальных тополей, вымахавших на добрых двадцать пять – тридцать метров. Только что политый асфальт жирно лоснился. Деревья отражались в нем, как в слегка затуманенном зеркале.
Машина подъезжала к больнице. Дима покосился на Бунчужного, сбавил скорость.
– Не будем, слишком рано, – сказал Тарас Игнатьевич и вдруг увидел Галину. Она тоже заметила отца и побежала к нему. Тарас Игнатьевич вышел из машины, сделал несколько шагов навстречу, обнял. – Как мама?
– Ты же видишь, я была дома. Позавтракала, поболтала с Сергеем и вот иду в больницу.
– А все же?
– К утру ей стало лучше. Утихли боли. Она даже заснула перед рассветом. Как у тебя там?
Это короткое «там» каждый раз обозначало что-нибудь другое. Сейчас – министерство.
– «Там» у меня о'кэй. А у вас дома?
– Дома тоже все о'кэй.
Она улыбнулась. Что-то не понравилось Бунчужному в этой улыбке.
– Ты плохо выглядишь, Галина.
– Пустяки. Немного устала, и только. Вчера маму осматривали главный хирург области, профессор из Киева и Остап Филиппович. Они решили, что повторная операция не нужна.
«Опять консилиум, значит, – с тоской подумал Бунчужный. – Профессор из Киева, главный хирург области, Чумаченко Остап Филиппович… киты!» А вслух спросил:
– Что думает Андрей Григорьевич?
Для Тараса Игнатьевича превыше всего было мнение Андрея Григорьевича Багрия – заведующего терапевтическим отделением. Он знал его еще с детства. И жизнью был обязан ему.
– Что думает Андрей Григорьевич? – переспросила Галина. – Я уже говорила: он посоветовал увеличить дозу наркотала. После этого маме сразу же легче стало.
– Это было еще до моего отъезда. Ладно, я к нему загляну. – И, как бы оправдываясь за это «я к нему загляну», добавил шутливо: – От тебя ведь все равно правды не узнаешь. У мамы буду в четыре.
Бунчужный забрался на свое место, оглянулся вслед Галине и громче обычного хлопнул дверцей.
Дима вел машину ровно, спокойно: знал, что Тарас Игнатьевич терпеть не может суетливой езды по городу. Линия тополей внезапно оборвалась, открылась центральная площадь. Площадь Героев. На заднем плане – высокое здание обкома, массивное и в то же время легкое. Глядя на него, Бунчужный всегда думал, что архитектор, безусловно, решил соединить в этом здании воедино незыблемость и простоту. В центре площади – могила Неизвестного солдата. На беломраморном, слегка наклоненном постаменте – большая звезда. Из отверстия посредине в потускневшей позолоте граней бьется, чуть вздрагивая, голубизна Вечного огня. К постаменту от линии тротуара ведет вымощенная плитами красного полированного мрамора дорожка. По краям площади обелиски, тоже красного мрамора. На них имена земляков – участников Отечественной войны, Героев Советского Союза. Цветники на площади лежат где узкими, где широкими прямоугольниками, напоминая ковры. Их много – этих ковров. Сейчас, после полива, цветные узоры на них искрились, словно вышитые самоцветами по малахитовому бархату. Промелькнули универмаг, кинотеатр, высотное здание гостиницы, почтамт… Широкие массивные двери его были по просьбе секретаря обкома сделаны на судостроительном, как и облицовка из плиток нержавеющей стали на колоннах городской библиотеки.
Машина, чуть замедлив ход, свернула на Степную. Вот и дом, где живет доктор Багрий. Может, заглянуть?.. Не стоит, он сейчас собирается в больницу, торопится. Нет хуже разговора наспех.
Дима чуть притормозил, потом снова прибавил газу. Тарас Игнатьевич покосился на него. «Почему он пошел в шоферы? Такой мастер…»
– Чего это ты решил за баранку взяться? Слесарь высшего разряда и вдруг – за баранку?
– Наследственность, – не поворачивая головы, ответил Дима. – Дед в ломовых извозчиках всю жизнь проходил. Батя в Гужтрансе маялся на биндюге в две лошадиные силы. А мне «Волга» досталась. Да еще директорская. Генетика!
– Увиливаешь?
– На легкие хлеба потянуло, захотелось чистенькой работы. Чтоб при галстучке. И еще захотелось к вам присмотреться. Присмотрюсь и, гляди, в директора выбьюсь. Славы захотелось. Славы и почета.
– Смотри, чтоб не плакать потом. Слава, она, брат, на крепкую голову рассчитана.
– Так я же присматриваюсь только.
– Присматривайся, присматривайся. Чем черт не шутит. Может, в министры выберешься.
– В министры – это потом, а пока вполне устраивает и директором судостроительного. Хотя бы такого, как наш. Заводик первоклассный. Что надо заводик! Дважды орденоносный! Немного подиректорствую, а потом уже – в министры.
– Давай, давай. Я тогда к тебе водителем пойду. Лады?
– Лады. Вот шуму-то будет! Димка, скажут, вон как вымахал. Бунчужный у него шофером. Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда у Димки – шофером!
Машина вышла на Стапельную площадь. Линию тротуара тут резко отграничивала от мостовой белая кайма бордюра.
– Бордюрчик, пока вас не было, Ширинкин вон как отделал, – усмехнулся Дима.
Стапельная площадь нелегко далась Бунчужному. Пришлось убрать больше двух десятков старых домов, освободившееся место выровнять, покрыть асфальтом. В центре – огромная клумба. Она, как и цветники на площади Героев, была похожа на вытканный разноцветными узорами ковер и тоже искрилась. Прежде трамваи, автобусы и грузовики вечно скапливались тут перед мостом через Бинду. Особенно в часы «пик». А сейчас…
Ровным потоком вливался сюда транспорт из пяти улиц. Огибая клумбу, машины устремлялись к бетонному мосту. Мост назывался Кузнечным. Когда-то здесь было множество кузниц – и у причалов, и неподалеку на склоне, и выше, на кривых улочках, где ютился рабочий и торговый люд. В старину здесь было царство извозчиков. Тут ковали лошадей, обивали железом тяжелые грузовые повозки, так называемые биндюги, арбы и шарабаны, натягивали железные шины на колеса, ремонтировали баркасы и шаланды. В память об этих кузнях и назвали мост Кузнечным. Прежде он был деревянный. После того как «отгрохали» площадь, поставили этот – железобетонный. Перила его напоминают чугунную вязь оград ленинградских парков.
Не умещаясь на тротуарах, захватывая порой проезжую часть, к заводу валил народ – с ближайших улиц и отдаленных. Даже из центра. Эти тоже нередко предпочитали идти пешком. С транспортом в городе, сколько помнит Бунчужный, всегда было трудно. Людской поток с моста выплескивался на широкую Корабельную улицу, что на Крамольном острове уже. Машина вышла сюда, потом свернула в глухой Вымпельный переулок, ведущий к центральной проходной. И тут бордюр тротуара был выкрашен в белый цвет. «Ширин, как всегда, перестарался, – думал Бунчужный. – Бордюр можно бы и не красить».
– Долго нам еще с чистой шеей ходить? – спросил Дима с насмешкой в голосе.
Тарас Игнатьевич хотел было сказать, что гостей положено встречать в прибранном помещении, около дома подмести и шею вымыть… Но вместо этого покосился на белый бордюр, на котором чья-то варварская рука вывела углем короткие и выразительные в своем неприличии слова.
– А шея-то уже подзагрязнилась, – бросил он сердито и добавил: – Сукины дети, даже буквы писать как следует не научились.
– Прикажите Ширинкину. Он в два счета перекрасит заново. Только надо не в белый, а в черный, чтоб художества углем не так в глаза бросались.
– Мелом напишут. Изловить бы одного да всыпать хорошенько, чтоб другим неповадно было.
– А вы тому же товарищу Ширинкину скажите, чтоб распорядился патруль из военизированной охраны выставить. Пока гости будут.
– Ты его Ширинкиным окрестил? – недовольно спросил Бунчужный.
– Я.
– Обидная кличка.
– Ширин К.Ин. Вместе – Ширинкин. Вольно же было его батьке, зная свое имя и фамилию, сына Костей называть. За отцовские грехи расплачивается наш Константин Иннокентьевич.
– А ты злой, оказывается.
– Я не злой. Я веселый. Американцы говорят, деловые люди обязательно должны быть с юмором. Вот я и тренируюсь.
– Да помолчал бы ты, веселый человек.
– Могу и помолчать.
Машина свернула к воротам. Они были открыты, но перехвачены поперек тяжелой цепью. Охранник увидел директорскую машину, торопливо отстегнул цепь, опустил ее на землю и приподнял фуражку. Тарас Игнатьевич кивнул ему.
«Волга» подкатила к административному корпусу. По тротуару, направляясь к стапельному цеху, шли двое: крепкий, широкоплечий, пожилой уже бригадир судосборщиков Василий Скиба и худощавый, невысокого роста Назар Каретников – электросварщик. Тарас Игнатьевич окликнул Скибу. Тот остановился. Каретников тоже остановился.
Скибу Тарас Игнатьевич знал давно. И Каретникова знал: один из лучших электросварщиков на стапеле. Корифей своего дела. Одна беда – выпить любит. В понедельник за ответственные швы не брался: дорожил авторитетом.
Бунчужный ответил на приветствие Каретникова и, внимательно присмотревшись к нему, нахмурился.
– Опять? Сколько раз предупреждали!
– Вчера ко мне кум с кумой наведывались. Всего на один день приехали. Пришлось уважить. А только я…
– Как на стапеле, Василий Платонович? – спросил Бунчужный, не дослушав Каретникова.
– Надо бы начало работы передвинуть, Тарас Игнатьевич. Солнце хулиганит.
Бунчужный заметил, что график начала работы на стапеле обычно передвигают позже.
– Так оно ведь год на год не выходит. Ныне солнце просто сказилось.
– Ладно, распоряжусь. А его, – указал на Каретникова, – к работе не допускать. И вообще – в отдел кадров. Надоело!
– Так его только вчера в мою бригаду определили, – возразил Скиба, и в голосе его послышалась обида. – Сами знаете, как с людьми у нас.
– Все, Василий Платонович.
Он попрощался со Скибой и направился к себе. Глядя на его энергичную походку, никто не подумал бы, что этой ночью он так и не прилег. Только подремал немного в кресле во время полета.
2
Скиба посмотрел вслед Бунчужному, потом на смущенного Каретникова, выругался и зашагал к стапелю. Бригада уже была в сборе.
– Гриць, – обратился бригадир к молодому судосборщику Григорию Таранцу. – На сварку станешь заместо этого черта, – кивнул он в сторону Каретникова. – Рационализатор, так его перетак. Вместо углекислого газа решил на сивушном перегаре варить. Вот и турнул его Бунчужный за такое творчество с завода.
Бригаду эта шутка не развеселила. Вчера, когда узнали, что Назара Каретникова перебрасывают к ним, обрадовались. А тут – на тебе!..
Больше всех расстроился из-за этой истории Гриша Таранец. Браться сейчас за ответственную сварку для него было более чем рискованно. Накануне вечером он тоже перебрал в компании молодых писателей и поэтов из Чечено-Ингушетии. Они вместе выступали во Дворце кораблестроителей, а когда гости пошли ужинать, потянули за собой и Григория.
– Пойдем с нами, рабочий класс! – обнял его за плечи руководитель делегации. – Пойдем выпьем за здоровье твоей замечательной девушки. Если эта светловолосая девушка спустилась к нам из твоего красивого стихотворения, ее зовут Таней, верно я говорю? И я не напрасно отбил себе руки, когда аплодировал тебе, клянусь.
Таня, тонкая русоволосая студентка литфака, стала отказываться – у нее завтра коллоквиум, надо подготовиться. Гриша тоже колебался. Но гости так сердечно и весело уговаривали, что не согласиться было нельзя.
Вот на этой-то вечеринке Григорий и перебрал – очень уж замысловатые и веселые тосты провозглашали гости, стараясь за один вечер выложить своим украинским друзьям всю застольную мудрость Кавказа. Потом его попросили читать свои стихи. Хмель помешал ему выбрать лучшее, он прочитал первое, что пришло в голову. Ему хлопали. Однако он чувствовал, что аплодируют из вежливости. Потому и предложил выпить за самое лучшее стихотворение, которое не написано еще. Тост понравился. Ему снова налили полный бокал, он лихо осушил его. Это понравилось гостям куда больше, чем его стихотворение.
Самое неприятное во всей этой истории было то, что рядом сидела Таня… Если бы ее не было… Но она была. И смотрела на него с укором. Потом они шли домой через парк. Хулиганы… Драка… Безнадежно испорчен единственный костюм. Впрочем, дьявол с ним, с костюмом…
Утром Таранец пришел на завод не выспавшись, с головной болью. Прогудел гудок. Григорий тут же вставил электрод и зажег дугу. Но уже с первых минут понял, что сегодня шов получается не из тех, которыми хвастаются сварщики-мастаки, или, как их здесь называют, корифеи. Здравый смысл подсказывал, что надо бросить эту работу, сказать бригадиру, что сегодня из него, Григория Таранца, сварщик как из верблюжьего хвоста курдюк. Но он упрямо продолжал варить, надеясь, что в руке все же появится твердость.
– Давай на прихватку переходи, – услышал он позади себя недовольный, даже злой голос бригадира.
Григорий погасил дугу. Подавали крупную секцию палубной надстройки. На кране работала девушка, с которой Таранец познакомился, когда еще только пришел на завод впервые. Этот первый день врезался в память на всю жизнь.
…В отделе кадров рыхлый и, казалось, плохо выспавшийся и потому хмурый человек мельком взглянул на записку со штампом редакции областной газеты, подписал бумагу и, не подымая головы, буркнул:
– Третий цех.
«Почему в третий? Почему не в пятый, двадцать седьмой или пятьдесят девятый?» Гриша уже знал, что на заводе шестьдесят пять цехов. И вот его, по воле этого плохо выбритого, пасмурного субъекта, определяют в третий. Цифра ничего не говорила Григорию, как и фамилия человека, к которому он должен обратиться в этом цехе. И кем он будет работать, Гриша тоже не знал. В бумажке стояло – разнорабочий. И в скобках – ученик-такелажник. Спросил у молодого парня, стоящего неподалеку от ворот. Тот охотно пояснил:
– Разнорабочий – это вроде моряка на суше. Кепка козырьком назад. Вместо тельняшки – брезентовая роба. А насчет работы, то здесь как в океане: нынче тут, завтра там. Отнеси, принеси, подай, прими. Здесь, парень, самое главное, чтоб никакой тебе квалификации. Когда-то их чернорабочими называли. А только ты не грусти: многие тут с этого начинали, а теперь – начальники цехов. Считай, на первую ступеньку поднимаешься.
– Даже самая высокая лестница начинается с первой ступеньки, – сказал Таранец, которому развязный парень пришелся по душе.
Он шагнул в проходную, вежливо поздоровался с вахтером и спросил, как пройти в третий цех. Охранник посмотрел бумажку и махнул рукой куда-то не совсем определенно. Григорий зашагал в этом направлении. Решил – по дороге уточнит. Остановил молодого рабочего в брезентовой одежде и в каких-то диковинных башмаках с тускло поблескивающими металлическими носками.
– Сначала вот этот цех обойдешь, потом следующий, с другой стороны. И выйдешь прямо к третьему. Стапель это.
Григорию это слово всегда нравилось. «Стапель»… Было в нем рядом с уважительностью еще и что-то от детского лепета. Такое слово должно хорошо укладываться в строку. Стапель – капель. Много прозрачных и звонких капель…
Хорошо бы – капель… Что-то весеннее… Но только тогда выходит не стапель, а стапель… Нет такого слова – стапель… Сотни тысяч… капель падают на стапель. Почему сотни тысяч?.. Почему не миллион или, скажем, два миллиона… Чепуха какая-то… Чепуха, а звучит.
Он обогнул угол громадного, сложенного из белого силикатного кирпича здания с гигантскими – в три этажа – оконными проемами, в котором гудело и грохотало. Потом еще одно, более тихое. И вдруг… Он его узнал, хотя до этого никогда не видел. Только в журналах или газетах, на картинках. Или на экране телевизора. Неважно, где видел. Важно, что узнал. Остановился, пораженный.
Рядом с пятиэтажным корпусом прямо на земле стоял корабль. Огромный. Почудилось, что это видение из детства, из фантастического мира сказок. Будто попал в чудесную страну лилипутов, которые возятся там, на этой махине, что-то делают, каждый свое. И чудится, что вот сейчас откуда-то появится добряк Гулливер в своем камзоле, оригинальной шляпе и станет помогать этим лилипутам. Корпус корабля покоился на массивных подставках, которые стояли на колесах, тоже очень прочных, похожих на вагонные. Под ними – рельсы. Потом он узнал, что эти подставки на колесах называются тележками и на них океанскую громаду передвигают с позиции на позицию, потом – в док-камеру, это когда приходит время спускать на воду. Эстакада. На ней мостовые краны, которые все время двигались, что-то подымали, опускали, перетаскивали на толстых металлических крючьях. Все вокруг грохотало, бухало, вдруг разражалось короткой, похожей на пулеметную очередь, трескотней. Однако самым впечатляющим был корабль. Такой огромный и тяжелый, что только диву даешься, как он не проседает, не уходит в землю, словно тот сказочный богатырь из древней русской былины. Запомнилось над всем этим голубое, в редких кучевых облаках, небо. И – солнце, ласковое. И в этом невероятно оглушающем солнечном свете то там, то здесь, над корабельным корпусом и сбоку, на его бортах, вспыхивали и гасли огни электросварки.
Григорий остановился ошеломленный, почувствовав себя ничтожно маленьким перед этой громадой. Другие, казалось бы, тут как дома. Одни копошились наверху, совсем крохотные, другие что-то делали здесь, на земле, куда-то шли, третьи стояли и курили, чего-то ожидая, спокойные, безразличные к тому грандиозному и фантастическому, что делалось вокруг.
Из оцепенения вывел пронзительный гудок. Оглянулся. Шарахнулся в сторону: прямо на него двигался паровоз. Пыхтя и отдуваясь, он тащил две платформы, на которых не то лежало, не то стояло какое-то сооружение из толстого металла. Лязгнули буфера. Паровоз коротко вскрикнул и остановился. На платформу взобрались люди в промасленных куртках наголо. Стали возиться с толстым металлическим тросом. «Вот это, наверно, и есть разнорабочие», – подумал Григорий, проникаясь уважением к здоровякам, орудующим на платформе. Он загляделся на них. Потом услышал какие-то нетерпеливые звонки. На него двигалось громко рычащее чудовище на широко растопыренных, забрызганных грязью и потому, казалось, мохнатых лапах. Чудовище отгоняло его, Григория. Оно замедлило ход. Остановилось рядом, закрыв собою почти все небо. И вдруг разразилось руганью, девичьим голосом. Где-то посередине между гигантскими лапами и чуть склоненной до самых облаков верхушкой – остекленная кабина. Из окна, рискуя вывалиться, высунулась курносая девчонка в белой косынке и брезентовой курточке.
– Недоносок желторотый!.. Черт вас тут носит, бездельников!
Страх прошел. И все сразу же стало на свои места. Чудовище оказалось портальным краном. Девушка – крановщицей. Григорий улыбнулся ей и приветливо помахал рукой, как старой знакомой. Но эта курносая, там, наверху, пожелала Григорию, чтоб его «побила лихоманка», и только после этого двинула свой кран дальше, поравнялась с железнодорожным составом. Толстый крюк повис над металлическим сооружением. Стал опускаться, раскачиваясь. Один из рабочих поймал его и ловко продел в петли тросов.
– Это что за штука? – спросил Григорий паренька, соскочившего с платформы.
– Конструкция это, – сказал паренек солидным басом. – А ты, видать, новенький? – Григорий кивнул, и паренек снова заинтересовался: – Куда тебя? Ну-ка покажи, – и он бесцеремонно потянул к себе бумажку, которую Григорий все еще держал в руке. – Так это к нам тебя.
Григорий отобрал бумажку. Огляделся. Бросалось в глаза, что здесь, на стапеле, почти все на колесах – и корабельный корпус, и платформы, и этот огромный кран. Потом его внимание снова привлекла «конструкция», которую разгружали сейчас. По привычке попытался тут же зарифмовать это слово. «Конструкция-обструкция… Чепуха. Конструкция-инструкция… Лучше. Подали конструкцию точно по инструкции… Белиберда, сапоги всмятку».
Подъемом этой плохо рифмующейся конструкции руководил стоящий на краю палубы здоровяк – широкоплечий, в брезентовых брюках и такой же куртке, наброшенной на голые плечи. Из-под куртки выпирала загорелая до черноты волосатая грудь. На голове – защитный шлем. Здоровяк стоял на крепких, широко расставленных ногах и жестом отдавал распоряжение сердитой крановщице.
– Гриць, – обратился бригадир к молодому судосборщику Григорию Таранцу. – На сварку станешь заместо этого черта, – кивнул он в сторону Каретникова. – Рационализатор, так его перетак. Вместо углекислого газа решил на сивушном перегаре варить. Вот и турнул его Бунчужный за такое творчество с завода.
Бригаду эта шутка не развеселила. Вчера, когда узнали, что Назара Каретникова перебрасывают к ним, обрадовались. А тут – на тебе!..
Больше всех расстроился из-за этой истории Гриша Таранец. Браться сейчас за ответственную сварку для него было более чем рискованно. Накануне вечером он тоже перебрал в компании молодых писателей и поэтов из Чечено-Ингушетии. Они вместе выступали во Дворце кораблестроителей, а когда гости пошли ужинать, потянули за собой и Григория.
– Пойдем с нами, рабочий класс! – обнял его за плечи руководитель делегации. – Пойдем выпьем за здоровье твоей замечательной девушки. Если эта светловолосая девушка спустилась к нам из твоего красивого стихотворения, ее зовут Таней, верно я говорю? И я не напрасно отбил себе руки, когда аплодировал тебе, клянусь.
Таня, тонкая русоволосая студентка литфака, стала отказываться – у нее завтра коллоквиум, надо подготовиться. Гриша тоже колебался. Но гости так сердечно и весело уговаривали, что не согласиться было нельзя.
Вот на этой-то вечеринке Григорий и перебрал – очень уж замысловатые и веселые тосты провозглашали гости, стараясь за один вечер выложить своим украинским друзьям всю застольную мудрость Кавказа. Потом его попросили читать свои стихи. Хмель помешал ему выбрать лучшее, он прочитал первое, что пришло в голову. Ему хлопали. Однако он чувствовал, что аплодируют из вежливости. Потому и предложил выпить за самое лучшее стихотворение, которое не написано еще. Тост понравился. Ему снова налили полный бокал, он лихо осушил его. Это понравилось гостям куда больше, чем его стихотворение.
Самое неприятное во всей этой истории было то, что рядом сидела Таня… Если бы ее не было… Но она была. И смотрела на него с укором. Потом они шли домой через парк. Хулиганы… Драка… Безнадежно испорчен единственный костюм. Впрочем, дьявол с ним, с костюмом…
Утром Таранец пришел на завод не выспавшись, с головной болью. Прогудел гудок. Григорий тут же вставил электрод и зажег дугу. Но уже с первых минут понял, что сегодня шов получается не из тех, которыми хвастаются сварщики-мастаки, или, как их здесь называют, корифеи. Здравый смысл подсказывал, что надо бросить эту работу, сказать бригадиру, что сегодня из него, Григория Таранца, сварщик как из верблюжьего хвоста курдюк. Но он упрямо продолжал варить, надеясь, что в руке все же появится твердость.
– Давай на прихватку переходи, – услышал он позади себя недовольный, даже злой голос бригадира.
Григорий погасил дугу. Подавали крупную секцию палубной надстройки. На кране работала девушка, с которой Таранец познакомился, когда еще только пришел на завод впервые. Этот первый день врезался в память на всю жизнь.
…В отделе кадров рыхлый и, казалось, плохо выспавшийся и потому хмурый человек мельком взглянул на записку со штампом редакции областной газеты, подписал бумагу и, не подымая головы, буркнул:
– Третий цех.
«Почему в третий? Почему не в пятый, двадцать седьмой или пятьдесят девятый?» Гриша уже знал, что на заводе шестьдесят пять цехов. И вот его, по воле этого плохо выбритого, пасмурного субъекта, определяют в третий. Цифра ничего не говорила Григорию, как и фамилия человека, к которому он должен обратиться в этом цехе. И кем он будет работать, Гриша тоже не знал. В бумажке стояло – разнорабочий. И в скобках – ученик-такелажник. Спросил у молодого парня, стоящего неподалеку от ворот. Тот охотно пояснил:
– Разнорабочий – это вроде моряка на суше. Кепка козырьком назад. Вместо тельняшки – брезентовая роба. А насчет работы, то здесь как в океане: нынче тут, завтра там. Отнеси, принеси, подай, прими. Здесь, парень, самое главное, чтоб никакой тебе квалификации. Когда-то их чернорабочими называли. А только ты не грусти: многие тут с этого начинали, а теперь – начальники цехов. Считай, на первую ступеньку поднимаешься.
– Даже самая высокая лестница начинается с первой ступеньки, – сказал Таранец, которому развязный парень пришелся по душе.
Он шагнул в проходную, вежливо поздоровался с вахтером и спросил, как пройти в третий цех. Охранник посмотрел бумажку и махнул рукой куда-то не совсем определенно. Григорий зашагал в этом направлении. Решил – по дороге уточнит. Остановил молодого рабочего в брезентовой одежде и в каких-то диковинных башмаках с тускло поблескивающими металлическими носками.
– Сначала вот этот цех обойдешь, потом следующий, с другой стороны. И выйдешь прямо к третьему. Стапель это.
Григорию это слово всегда нравилось. «Стапель»… Было в нем рядом с уважительностью еще и что-то от детского лепета. Такое слово должно хорошо укладываться в строку. Стапель – капель. Много прозрачных и звонких капель…
Хорошо бы – капель… Что-то весеннее… Но только тогда выходит не стапель, а стапель… Нет такого слова – стапель… Сотни тысяч… капель падают на стапель. Почему сотни тысяч?.. Почему не миллион или, скажем, два миллиона… Чепуха какая-то… Чепуха, а звучит.
Он обогнул угол громадного, сложенного из белого силикатного кирпича здания с гигантскими – в три этажа – оконными проемами, в котором гудело и грохотало. Потом еще одно, более тихое. И вдруг… Он его узнал, хотя до этого никогда не видел. Только в журналах или газетах, на картинках. Или на экране телевизора. Неважно, где видел. Важно, что узнал. Остановился, пораженный.
Рядом с пятиэтажным корпусом прямо на земле стоял корабль. Огромный. Почудилось, что это видение из детства, из фантастического мира сказок. Будто попал в чудесную страну лилипутов, которые возятся там, на этой махине, что-то делают, каждый свое. И чудится, что вот сейчас откуда-то появится добряк Гулливер в своем камзоле, оригинальной шляпе и станет помогать этим лилипутам. Корпус корабля покоился на массивных подставках, которые стояли на колесах, тоже очень прочных, похожих на вагонные. Под ними – рельсы. Потом он узнал, что эти подставки на колесах называются тележками и на них океанскую громаду передвигают с позиции на позицию, потом – в док-камеру, это когда приходит время спускать на воду. Эстакада. На ней мостовые краны, которые все время двигались, что-то подымали, опускали, перетаскивали на толстых металлических крючьях. Все вокруг грохотало, бухало, вдруг разражалось короткой, похожей на пулеметную очередь, трескотней. Однако самым впечатляющим был корабль. Такой огромный и тяжелый, что только диву даешься, как он не проседает, не уходит в землю, словно тот сказочный богатырь из древней русской былины. Запомнилось над всем этим голубое, в редких кучевых облаках, небо. И – солнце, ласковое. И в этом невероятно оглушающем солнечном свете то там, то здесь, над корабельным корпусом и сбоку, на его бортах, вспыхивали и гасли огни электросварки.
Григорий остановился ошеломленный, почувствовав себя ничтожно маленьким перед этой громадой. Другие, казалось бы, тут как дома. Одни копошились наверху, совсем крохотные, другие что-то делали здесь, на земле, куда-то шли, третьи стояли и курили, чего-то ожидая, спокойные, безразличные к тому грандиозному и фантастическому, что делалось вокруг.
Из оцепенения вывел пронзительный гудок. Оглянулся. Шарахнулся в сторону: прямо на него двигался паровоз. Пыхтя и отдуваясь, он тащил две платформы, на которых не то лежало, не то стояло какое-то сооружение из толстого металла. Лязгнули буфера. Паровоз коротко вскрикнул и остановился. На платформу взобрались люди в промасленных куртках наголо. Стали возиться с толстым металлическим тросом. «Вот это, наверно, и есть разнорабочие», – подумал Григорий, проникаясь уважением к здоровякам, орудующим на платформе. Он загляделся на них. Потом услышал какие-то нетерпеливые звонки. На него двигалось громко рычащее чудовище на широко растопыренных, забрызганных грязью и потому, казалось, мохнатых лапах. Чудовище отгоняло его, Григория. Оно замедлило ход. Остановилось рядом, закрыв собою почти все небо. И вдруг разразилось руганью, девичьим голосом. Где-то посередине между гигантскими лапами и чуть склоненной до самых облаков верхушкой – остекленная кабина. Из окна, рискуя вывалиться, высунулась курносая девчонка в белой косынке и брезентовой курточке.
– Недоносок желторотый!.. Черт вас тут носит, бездельников!
Страх прошел. И все сразу же стало на свои места. Чудовище оказалось портальным краном. Девушка – крановщицей. Григорий улыбнулся ей и приветливо помахал рукой, как старой знакомой. Но эта курносая, там, наверху, пожелала Григорию, чтоб его «побила лихоманка», и только после этого двинула свой кран дальше, поравнялась с железнодорожным составом. Толстый крюк повис над металлическим сооружением. Стал опускаться, раскачиваясь. Один из рабочих поймал его и ловко продел в петли тросов.
– Это что за штука? – спросил Григорий паренька, соскочившего с платформы.
– Конструкция это, – сказал паренек солидным басом. – А ты, видать, новенький? – Григорий кивнул, и паренек снова заинтересовался: – Куда тебя? Ну-ка покажи, – и он бесцеремонно потянул к себе бумажку, которую Григорий все еще держал в руке. – Так это к нам тебя.
Григорий отобрал бумажку. Огляделся. Бросалось в глаза, что здесь, на стапеле, почти все на колесах – и корабельный корпус, и платформы, и этот огромный кран. Потом его внимание снова привлекла «конструкция», которую разгружали сейчас. По привычке попытался тут же зарифмовать это слово. «Конструкция-обструкция… Чепуха. Конструкция-инструкция… Лучше. Подали конструкцию точно по инструкции… Белиберда, сапоги всмятку».
Подъемом этой плохо рифмующейся конструкции руководил стоящий на краю палубы здоровяк – широкоплечий, в брезентовых брюках и такой же куртке, наброшенной на голые плечи. Из-под куртки выпирала загорелая до черноты волосатая грудь. На голове – защитный шлем. Здоровяк стоял на крепких, широко расставленных ногах и жестом отдавал распоряжение сердитой крановщице.
