Страница:
Он пошел на край пляжа. На нем были только плавки, но двигался и говорил он так, будто все еще владел бронированной машиной и шестью патрульными. Я плелся за ним.
Вдруг он выставил перед собой руку и остановил меня, а потом. опустился на колени.
— Смотрите, — сказал он, — кажется, что они одинаковы, правда? Вот так, сынок. Сейчас я покажу тебе…
Я посмотрел вниз. Он указывал на муравейник. Муравьи совсем не походили на земных. Они были больше размером, медлительнее, какие-то синие, да к тому же с восемью лапками. Они строили жилище из песка со слизью, прокладывали под ним ходы, так что гнездо поднималось над землей на дюйм или два и казалось стоящим на маленьких сваях.
— Они одинаково выглядят, одинаково работают, но сейчас… — говорил мистер Костелло, — сейчас ты увидишь.
Он открыл пластиковый мешок, что лежал рядом на песке. Вытащил из него мертвую птицу и еще что-то похожее на плотву с Корано, но размером с руку. Он положил птицу рядышком, а плотву в стороне.
Муравьи толпами помчались к птице, они толкались, ползали вокруг. Словом, занимались делом. Но двое или трое помчались к плотве, метались вокруг нее, что-то рыли. Мистер Костелло взял муравья с плотвы и бросил его на птицу. Тот перевернулся и, толкаясь среди других муравьев, помчался по песку обратно к рыбешке.
— Видите? Видите? — с энтузиазмом говорил он. — Смотрите дальше…
Мистер Костелло взял муравья с птицы и положил на плотву. Муравей не стал тратить времени и проявлять любопытство. Он повертелся, сориентировался и ’направился прямо к мертвой птице.
Я смотрел на синих муравьев, на плотву с двумя или тремя прожорливыми мусорщиками, на мистера Костелло.
— Понимаете, что я имею в виду? — с восхищением произнес он. — Один из тридцати питается не так, как другие. Нам больше ничего не нужно. Говорю вам, интендант, вы всегда найдете способ заставить большинство напасть на оставшихся.
— Но они не воюют!
— Подождите немного, — быстро сказал он. — Подождите. Нужно только втолковать тем, что едят птиц, что другие опасны для них.
— Но они же не опасны, — сказал я. — Они просто другие.
— Да какая разница, если вы сведете все к этому?! Мы напугаем большинство, и они убьют тех, других.
— Да, но почему, мистер Костелло?
— Ты мне нравишься, парень. — Он усмехнулся. — Я буду думать, а ты — работать. Я все тебе объясню. Они все выглядят одинаково. Однажды мы заставим тех выгнать этих, — он указал на меньшинство вокруг плотвы, — они будут знать, что есть плотву нельзя. Они будут беспокоиться, и сделают все, чтоб их не заподозрили в пристрастии к плотве. И когда они будут хорошенько напуганы, мы заставим их делать все, что пожелаем.
Он сидел на корточках и наблюдал за муравьями. Потом взял любителя плотвы и бросил на птицу. Я встал.
— Ну, мне пора, я ведь только вас навестить, мистер Костелло…
— Я не муравей, — произнес мистер Костелло. — Пока мне наплевать, чем они питаются, я в силах заставить их делать все, что хочу…
— Я вижу, — ответил я.
Он продолжал говорить сам с собой, а я пошел прочь. Он наблюдал за муравьями, мечтал и не обращал на меня никакого внимания.
Я вернулся к Барни. Признаться, я ничего не понимал.
— Что он делает, Барни? — спросил я.
— То, что хочет, — ответил он.
Мы сели в монобиль, поднялись на холм и проехали силовые Ворота. Через некоторое время я снова спросил:
— Он долго здесь будет?
— Сколько захочет, — коротко ответил Барни.
— Никто не захочет долго оставаться взаперти.
Он посмотрел на меня прежним странным взглядом.
— Найтингейл не тюрьма.
— Но он же не может выйти.
— Слушай, приятель, мы можем переделать его, можем даже сделать из него интенданта. Но мы не делаем ничего такого уже много лет. Мы даем человеку делать то, что он хочет.
— Он никогда не хотел быть хозяином муравейника.
— Разве?
Должно быть, он увидел, что я ничего не понимаю и поэтому добавил:
— Всю жизнь он притворялся, будто он — единственный человек, а все остальные — букашки. Теперь это стало явью. Ему больше не придется ворошить человеческий муравейник, не будет случая.
Я посмотрел сквозь ветровое стекло на сверкающий шпиль моего корабля.
— Что стряслось с Боринкуином, Барни?
— Часть его людей проникла в Систему. Его идею нужно было остановить.
Он помолчал, размышляя.
— Не обижайся, но ты — просто глупая обезьяна. Я должен сказать тебе это, раз никто другой не решается.
— А почему? — спросил я.
— Нам пришлось вторгнуться на Боринкуин, который когда-то был царством свободы. Мы добрались до резиденции Костелло. Это был настоящий укрепленный форт. Мы взяли и его и его ребят. Но девушку мы спасти не успели. Он убил ее. И парней полегло предостаточно.
— Он всегда был хорошим другом, — сказал я через несколько минут.
— Разве?
Я ничего не ответил. Мы подъехали к космодрому, и он остановил машину.
— Он бы еще не так развернулся, если бы ты на него работал. У него была запись твоего голоса: «Иногда человеку просто необходимо побыть наедине с собой». Если бы ты работал на него, он все время держал бы тебя в страхе, угрожая огласить ее.
Я открыл дверцу.
— Почему ты показал мне его?
— Потому, что мы верим: надо позволить человеку делать то, что он хочет, если это не причиняет вреда другим. Если хочешь вернуться на озеро и работать на Костелло, я отвезу тебя к нему.
Я осторожно закрыл за собой дверцу и поднялся на корабль.
Я выполнил всю работу, и мы стартовали точно по расписанию. Я не находил себе места. Я не думал о словах Барни и не особенно беспокоился о мистере Костелло и о том, что с ним случилось: ведь Барни — лучший психиатр Флота, а Найтингейл самый красивый госпиталь во Вселенной.
Но меня еще долго сводила с ума мысль, что никогда не будет на моем пути другого такого значительного человека, как мистер Костелло, который подарит тепло, ласку и крепкую дружбу простофиле вроде меня.
Пер. с англ. К. Беловой

В.Норберт
 Мексика у каждого своя. Для кого-то это рыбалка в Акапулько и непременная фотография вдвоем с рыбой. Я думаю, рыбе фотографироваться так же лестно, как рыболову, только из-под воды видно все наоборот, так что рыба, наверное, гордится размерами и весом подцепившего ее рыбака. Другие сидят на лужайках Куэрнаваки и нежатся на солнце. Может, в будни они — знаменитые доктора или солидные фабриканты кожаных изделий в Мехико-Сити; но я наблюдал их только на пляже, с детьми и женами в стильных черно-белых купальниках от Дорина Гиллета.
Мексика у каждого своя. Для кого-то это рыбалка в Акапулько и непременная фотография вдвоем с рыбой. Я думаю, рыбе фотографироваться так же лестно, как рыболову, только из-под воды видно все наоборот, так что рыба, наверное, гордится размерами и весом подцепившего ее рыбака. Другие сидят на лужайках Куэрнаваки и нежатся на солнце. Может, в будни они — знаменитые доктора или солидные фабриканты кожаных изделий в Мехико-Сити; но я наблюдал их только на пляже, с детьми и женами в стильных черно-белых купальниках от Дорина Гиллета.
Я слышал даже, что некоторая, правда, весьма незначительная часть отдыхающих лезет на вулкан Попо и что некоторая, еще менее значительная часть их потом слезает обратно. Впрочем, я не собираюсь рассказывать о том, чего не видел своими глазами.
Моя же Мексика совсем другая. Это — мрачноватое и весьма строгое здание, где водяные трубы покрашены в три разных цвета и специфический запах лаборатории ничем не выведешь. Это — работа с моим другом-физиологом, чье имя не будет здесь названо по вполне понятной причине. Это — весьма энергичная компания молодых людей из разных стран, которые не прочь при случае разыграть друг друга, но заняты в основном карьерой в физиологии, химии и прочих науках. И еще — это Себастьян.
Себастьян — уборщик, но я ни в коем случае не хочу сказать, что он простой подметальщик. Нет, Себастьян — всем уборщикам уборщик! Когда я с ним познакомился, он обладал необыкновенно пышным красноречием и еще более пышными усами. Усы потом, увы, исчезли. Подозреваю, что их спер кто-то из молодых химиков. Красноречие осталось.
В начале нашего знакомства Себастьян мог цветисто говорить только на одном языке. В ту пору, когда в лаборатории готовилась к печати очередная статья, непременно спрашивали: «А Себастьян бы так выразился?» Постепенно, с приездом чужеземных, большей частью североамериканских, ученых, вторым языком в лаборатории стал английский, и Себастьян овладел в нем такими же красотами стиля, как и в испанском. Он был очень высокого мнения об авторитете и солидности «интернациональных ученых» и отзывался о них почтительно.
Себастьян был интернационалистом, но вовсе не был лишен национального начала. Он прежде всего был мексиканцем и притом весьма благочестивым.
В чуланчике, где он хранил швабры, был устроен алтарь с теми походными святынями, какие мексиканский шофер возит на лобовом стекле своей машины. Нечего и говорить, какой святой занимал в нем почетное место. Конечно, не обошлось и без Святой Девы Гваделупской — можно ли ожидать иного от мексиканского патриота! — но первый план был безраздельно отдан римскому солдату, густо утыканному стрелами и явно огорченному этим обстоятельством.
Теперь я должен рассказать вам о печальном событии, случившемся несколько лет назад и едва не сокрушившем наше процветающее заведение.
Началось все с посещения нашим шефом Национальной закладной конторы. Как его занесло в Национальную закладную контору — это выше моего понимания. Разве что американские подруги его жены прослышали, что там иногда удается по дешевке купить старинные доколониальные украшения.
Однако в тот день в продаже была только смешанная партия скобяных изделий, оцененная смехотворно низко. Кусочки металла всегда пригодятся для монтажа разных приборов, и шеф, блюдя финансовые интересы своей лаборатории, не удержался от покупки ящика с металлическим хламом всего за полпесо. Большая часть этой дряни так никому и не понадобилась: рамки от картинок, какие-то медяшки, несколько бросовых украшений… Но там оказались и железные стерженьки, они как раз сгодились моему приятелю для нового осциллографа.
Собирал он его в дальнем углу комнаты, как раз напротив упомянутого чуланчика, где уборщик держал свои тряпки и возносил молитвы.
Идеальный ученый муж должен сохранять возвышенную беспристрастность во всех своих действиях. Это так, но в своей ученой деятельности, охватившей сорок лет и три континента, я ни разу подобного идеала не встретил. Нормальный ученый хочет, как минимум, получить годные для публикации результаты, но еще больше он жаждет доказать, что последняя статья профессора Имярека из Энского университета — дурацкая.
Как бы я ни восхищался моим почтенным мексиканским коллегой, но все же должен сказать, что и он был не чужд маленькой человеческой слабости. Он не хуже других был способен высмеять автора, и долгая успешная научная карьера не раз ему это позволяла….
В то время, к которому относится мой рассказ, профессор Мудих, бежавший из Дурнебурга, как раз опубликовал работу, выполненную уже в Патагонском университете. Статья касалась нервной проводимости, и некоторые ее положения весьма разозлили моего друга.
Дебаты начались с того, что патагонский ученый пользовался усилителем германского производства, тогда как мексиканский специалист хранил верность американскому усилителю, сконструированному его хорошим другом.
Так или иначе, между результатами выявилось существенное различие.
Некоторое время мой друг приписывал это расхождение плохому прибору соперника и, в частности, используемым им электродам. Должен заметить — электрофизики постоянно оправдываются, что, мол, подвели электроды.
Вскоре вся лаборатория узнала, что борьба между директором и господином профессором Мудихом перешла в фазу смертного боя. Непочтительная молодежь делала на них ставки, их размер определялся тем, что прежде шеф, как правило, побеждал в подобных стычках.
Надо сказать, что наш Себастьян, будучи человеком достойным и благородным, не мог бы дать волю своим чувствам в такой тривиальной и даже вульгарной форме.
Шеф, которому он служил, которого считал национальным достоянием Мексики, в чей оффис Себастьян нередко приглашал чистильщика сапог и парикмахера (я должен заметить — к сильному замешательству самого босса), — шеф не только не мог оказаться неправ, но имел на все свои деяния полное одобрение неба.
Я далек от намерения распространяться о красноречии молитв, возносимых Святому Себастьяну. Этого не допускает ни испанская цветистость речи нашего Себастьяна, ни мои скромные лингвистические способности. Во всяком случае, первые результаты религиозного рвения оказались весьма ободряющими. Мексиканские электроды отлично работали, а американский усилитель удовлетворил бы даже Эдисоновский комитет.
Наши статьи струились потоком, и казалось, что X.Мудих обречен кануть в неизвестность, чего он, бесспорно, заслуживал.
Однако, при всей убедительности наших результатов, они не повлияли на встречный поток Статей из Патагонии. В серии сообщений герр профессор Мудих продолжал подтверждать свой непреложный вывод, и полемика тянулась месяцами.
К этому времени кое-кто из Института Морганбильта заинтересовался упорным противоречием в результатах двух ученых. Это был старый друг нашего шефа, и мы не сомневались, что данные нашей лаборатории полностью подтвердятся. Однако вскоре мы получили полное извинений письмо из Морганбильтовского института, в котором наш друг, доктор Шлемиль, признал себя неспособным повторить наши результаты. Он опасался, что недопонял какие-то подробности устройства нашего прибора. Тем не менее, в ходе работы он определенно встал на сторону профессора Мудиха. Наш подробный ответ не исправил положения. Похоже, доктор Шлемиль правильно понимал нашу методику — и тем не менее… Сложилась неприятная ситуация: дискуссия приобретала личный характер, а мы ничем не могли помочь.
В аргентинской газете появилась статья, обличающая разложение, вносимое в жизнь Мексики североамериканцами, и провозглашающая национальную миссию Аргентины, а именно — играть ведущую роль во всех областях науки и культуры.
За этим последовала довольно-таки шовинистическая статья в «Журнале американской медицинской ассоциации», бросающая тень на все совместные мексиканско-американские работы…
А мы получали все те же результаты, шеф даже спал с лица. Не знаю, к чему бы мы пришли, если бы в это время не была завершена новая и неожиданная его работа, правда, совсем в иной области. Только она и спасла репутацию лаборатории.
Сказать по правде, мы висели на волоске, и по сей день фамилия Мудих произносится у нас с чувством вины.
Только недавно перед нами вдруг забрезжило решение проблемы.
Собираясь выбросить когда-то купленные железки, шеф еще раз перебрал их. На дне ящика, между двумя металлическими пластинками, обнаружился лоскут пергамента. Оказалось, что ящик некогда принадлежал старому мексиканскому священнику, а обломки были им откопаны вблизи старинной церкви, посвященной Святому Себастьяну. По версии священника, не очень обоснованной, но вполне вероятной, железки были реликвиями, может быть, даже подлинными стрелами, которые в свое время пронзили святого.
Я бы не взялся толковать процесс приобретения орудиями казни чудотворной силы, но ведь у нас есть пример Святого Креста, а свойства у реликвии бывают самые непредсказуемые. Чудо Иисуса, остановившего солнце, было крупномасштабным; однако в рамках науки возможны и микрочудеса. Для того, чтобы нарушить ход эксперимента, достаточно совсем маленького чуда. Чего же ожидать, когда пылкий и преданный почитатель Святого Себастьяна неделями молится в непосредственной близости от его же стрел? В конце концов, святой был всего лишь римским солдатом, и специфические потребности современного ученого, боюсь, выше его понимания. Совсем другое дело просьбы велеречивого и богомольного, хотя и простодушного мусорщика!
У нас нет убедительных доказательств в пользу этой версии. Однако я заметил, что шеф стал явно неприязненно относиться ко всему, поступающему из клерикальных источников. Думаю, он не стал более религиозным, однако держится настороже и в прошлом году не взял на работу лаборанта по имени Себастьян. Я уверен, что знаю причину.
Мораль сей маленькой истории, если в ней есть какая-нибудь мораль, такова: как святому, так и ученому лучше бы заниматься собственными делами.
Уборщик Себастьян, между тем, процветает и, как я подозреваю, для самоутверждения опять начал отращивать усы.
Пер. с англ. Е. Гаркави

Артур Селлингс
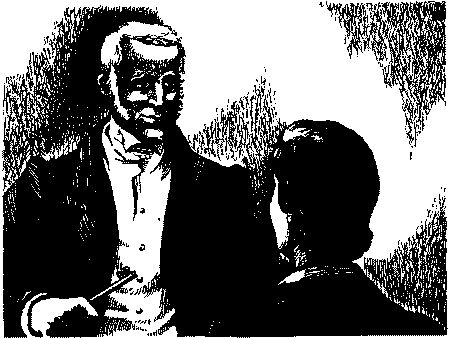 Едва отец закончил долгую и нудную молитву, Годфри исподтишка пнул ногой сестренку и тихо обозвал ее ябедой. Отец узнал, что Годфри добрался до машины времени.
Едва отец закончил долгую и нудную молитву, Годфри исподтишка пнул ногой сестренку и тихо обозвал ее ябедой. Отец узнал, что Годфри добрался до машины времени.
Логика подсказывала отцу, что до 1985-го года, когда вышел телесериал «Машина времени», этим термином широко не пользовались. Но во время второго свидания Долорес буквально засыпала его подобными словами. Он спросил, что они обозначают, и она ответила, что сама толком не знает, но под ними можно подразумевать все, что угодно. Что же касается ее, то она употребляла их только для того, чтобы он хоть немного чувствовал себя в ее времени, как дома. Но ведь у негр, в 1866 году, телевидения еще не существовало! Значит, кто-то успел рассказать Долорес об этих вещах до него! А поскольку машина времени существует в единственном экземпляре и стоит в запертой комнате, этим «кто-то» мог быть только его собственный сын!
Ax, что за женщина была Долорес! Нет, будет…или есть… Впрочем, чтобы описать Долорес, надо изобрести новое время, а, может, и вообще другой мир. В нашем мире не существует слов, которые смогли бы верно описать ее самое и ее речь: слова были сокращены до невозможности, иногда о смысле приходилось гадать. Кстати, такие словечки составляли чуть ли не половину ее лексикона.
— Годфри, — сурово произнес отец, — зайди после завтрака ко мне в кабинет.
— Да, отец, — покорно согласился Годфри.
«Что ему от меня нужно? — рассуждал Годфри. — Я обозвал сестренку, но после этого прошло уже столько времени. Но ведь я частенько обзываю ее так, а иногда и похлеще, в его же присутствии. Значит, не из-за этого. Скорее всего, отец все-таки узнал, что я пользовался его машиной. Но как?»
Эта мысль не давала Годфри покоя.
Нет, здесь, должно быть, что-то другое. Наверное, отец обнаружил разбитое стекло в оранжерее. Да, скорее всего это. Отец оштрафует его на шиллинг, но что значит один шиллинг по сравнению с тысячей фунтов, полученных от продажи ПЕРВОГО издания «Алисы в стране чудес» в 1985-м году. Что касается стекол, то вообще-то он давненько ими не занимался. У него нашлись дела куда интереснее. Конечно, он не собирался торговать «Алисой» в 1866-м году, но век спустя, в 1985-м, каждая книга стоила не меньше фунта, и эта цена никому не казалась слишком высокой. Казалось или будет казаться? Или кажется? Да, это, пожалуй, посложнее латинской грамматики с ее перфектами и плюсквамперфектами. Незавершенное будущее! Мелинда… это прекрасное будущее! Чудесное и бесконечное!..
Когда вошел Годфри, отец нервно прохаживался по кабинету. Он по привычке прошелся еще раз взад-вперед и повернулся лицом к сыну.
— У меня есть основания думать, что ты трогал кое-что из моих изобретений, точнее, из… приборов.
Значит, отец все знает! Годфри почувствовал, как слабеют колени. Но как? Он же всегда возвращал наборные диски в первоначальное положение. А потом, с тех самых пор, как он впервые переступил порог лаборатории, чтобы узнать, что там так шумит, он всегда тщательно выбирал время: когда отец уезжал по делам в Лондон или Эдинбург. Судя по всему, отец был очень сердит. Притворяться было бесполезно, он знал все наверняка.
— Да, папа, — пробормотал Годфри. Ему была отвратительна собственная покорность, но сейчас это была единственно верная тактика.
— Разве я разрешал тебе это?
— Нет, папа.
— Ты понимаешь, что баловаться с такой сложной машиной очень опасно? Ведь ты своим детским умишком не можешь понять всей серьезности и тонкости моих опытов.
— Да, папа, — покорно ответил Годфри, хоть и был оскорблен тем, что отец сказал «детский умишко». Ведь Годфри было четырнадцать с половиной лет, и он был уже не ребенок!
— Значит, если я сурово накажу тебя, ты согласишься с этим, зная, что это делается ради твоего же блага и безопасности.
— Д-да, папа.
Прежде чем заговорить, отец еще раз прошелся по комнате.
— Но сначала я хочу задать тебе несколько вопросов. От честности твоих ответов будет зависеть тяжесть наказания. Я знаю, что ты не просто включал аппарат, но и пользовался им. Сколько раз?
— Один раз, папа…
— Я еще раз спрашиваю — сколько раз?
— Два, папа.
— Так-то лучше.
Отцу казалось, что его суровый вид и грозный голос внушают сыну страх, и это заставляет его говорить правду. Зная это, Годфри беззастенчиво врал в первый раз, а во второй — лишь ненамного подправил свою ложь. Надо признаться, что взгляд папаши и в самом деле был суров, но не настолько, чтобы раскаяться полностью. Главное — немного смущения при повторном признании, опущенные к полу глаза при первом обмане и твердость при втором. На самом же деле Годфри проходил через ворота времени раз пятнадцать.
— Ты должен усвоить, что честность в отношениях между людьми — главный фундамент здорового общества.
«О, боже, — подумал Годфри, — как же глуп мой отец!»
Но вслух произнес:
— Да, папа.
— А как ты добрался до аппарата, ведь он заперт в моей лаборатории?
Годфри лихорадочно думал. Сказать правду — конец всему. Но ничего другого не оставалось. Ведь не скажешь же ему, будто залез в лабораторию через окно: с тех пор как соседи, взбешенные странными опытами отца, пытались разгромить дом, он заложил окна лаборатории кирпичом, что же касается двери, то ее отец никогда не забывал закрывать на ключ.
Перебрав в уме все варианты, Годфри залез во внутренний карман пиджака и достал ключ.
— Я нашел его в коробке со старыми ржавыми ключами, что на чердаке. В тот день шел дождь, и я обошел весь дом, подбирая ключи ко всем замкам. Этот был единственный, который подошел.
Отец взял ключ.
— А если бы этот ключ был от порохового погреба, ты бы тоже открыл его, с риском взорвать всю семью — больную мать, сестренку, себя, наконец?
— Д-да, папа,… то есть, нет, папа.
— Необузданное любопытство, сын мой, едва ли лучше полного равнодушия. А теперь расскажи мне о своих тайных путешествиях. Какой год в будущем ты посетил?
— Две тысячи тридцать пятый, папа, — невзирая на отчаянье, охватившее его, он не мог сдержать улыбки, увидев, как отец привстал в кресле.
— Откуда ты знаешь, что был именно в этом году?
— Я не знал, пока не увидел цифры на табло, когда вернулся.
— А что ты там делал, что видел?
— Я видел тебя. Ты танцевал с очень красивой блондинкой, папа.
«Ну что, получил, — подумал Годфри. — Попробуй теперь, тронь меня».
— Я только прогулялся вокруг, папа, — сказал он вслух, — и сразу же вернулся. Я был очень осторожен.
— Да, мой мальчик, но не настолько, чтобы отказаться от дальнейших прогулок.
— Н-е-е-т, папа. Когда я вернулся во второй раз, табло указывало на тысяча девятьсот восемьдесят пятый год.
Там было гораздо лучше, чем в 2035 — еще бы! В 2035-м большой сад, расположенный по соседству, был обсажен колючими кактусами, наверное, по последней моде, потому что все окрестные сады были засажены тем же.
Но в 1985-м на этом месте «был» замечательный парк с высокими деревьями и шелковой травой, с маленьким прудом и мостиком через него и… там была Мелинда…
Увидев его впервые, Мелинда очень испугалась.
— Ты живой или привидение? — сразу же спросила она.
— Конечно, живой, — засмеялся Годфри и ущипнул ее. Она тоже ущипнула его и только тогда поверила окончательно.
Сначала Годфри думал, что его одежда, необычная для ее времени, смутила Мелинду. Ведь нет ничего более изменчивого, чем мода, если не считать женщин. Но если одежда Годфри и отличалась от той, что носили в 1985, то не настолько, чтобы привлечь внимание. Дело было не в этом: Мелинда объяснила, что она иногда видит то, чего нет. Это было одним из проявлений ее болезни — невроза. Годфри никогда не слышал о такой, но понял, что это очень тяжелое заболевание.
— Что-то вроде упадка сил? — спросил он.
— Упадок сил? — переспросила она и засмеялась неуверенно, будто сомневалась в том, что умеет смеяться.
— Я только что засмеялась, — вдруг сказала она, — да, засмеялась… впервые… в жизни…
Он приходил еще и еще, и она смеялась все чаще и больше, все звонче и веселее. Наверное, его слова и манеры казались Мелинде очень необычными и забавными. Но он не сердился на нее за этот смех, даже наоборот: он звучал, как переливы колокольчиков, и Годфри ощущал странное удовольствие и с радостью превращался в шута.
Озабоченное выражение, более свойственное людям преклонного возраста, вскоре исчезло с лица Мелинды, она стала безмятежно красивой, щеки покрылись нежным румянцем.
Так они вошли в прекрасный мир 1985-го года: мир живого кино, ракет, летающих над головой, мир чудесной сладкой ваты. Подчас он даже пугал Годфри, хотя он скорее бы умер, чем показал свой страх Мелинде.
— Я слышал, — ворвался в его воспоминания отец, — что ты проговорился кому-то об аппарате. Поэтому я сделаю то, что должен был сделать три года назад, если бы мама не отговорила меня тогда. Я отправлю тебя в морскую школу.
Вдруг он выставил перед собой руку и остановил меня, а потом. опустился на колени.
— Смотрите, — сказал он, — кажется, что они одинаковы, правда? Вот так, сынок. Сейчас я покажу тебе…
Я посмотрел вниз. Он указывал на муравейник. Муравьи совсем не походили на земных. Они были больше размером, медлительнее, какие-то синие, да к тому же с восемью лапками. Они строили жилище из песка со слизью, прокладывали под ним ходы, так что гнездо поднималось над землей на дюйм или два и казалось стоящим на маленьких сваях.
— Они одинаково выглядят, одинаково работают, но сейчас… — говорил мистер Костелло, — сейчас ты увидишь.
Он открыл пластиковый мешок, что лежал рядом на песке. Вытащил из него мертвую птицу и еще что-то похожее на плотву с Корано, но размером с руку. Он положил птицу рядышком, а плотву в стороне.
Муравьи толпами помчались к птице, они толкались, ползали вокруг. Словом, занимались делом. Но двое или трое помчались к плотве, метались вокруг нее, что-то рыли. Мистер Костелло взял муравья с плотвы и бросил его на птицу. Тот перевернулся и, толкаясь среди других муравьев, помчался по песку обратно к рыбешке.
— Видите? Видите? — с энтузиазмом говорил он. — Смотрите дальше…
Мистер Костелло взял муравья с птицы и положил на плотву. Муравей не стал тратить времени и проявлять любопытство. Он повертелся, сориентировался и ’направился прямо к мертвой птице.
Я смотрел на синих муравьев, на плотву с двумя или тремя прожорливыми мусорщиками, на мистера Костелло.
— Понимаете, что я имею в виду? — с восхищением произнес он. — Один из тридцати питается не так, как другие. Нам больше ничего не нужно. Говорю вам, интендант, вы всегда найдете способ заставить большинство напасть на оставшихся.
— Но они не воюют!
— Подождите немного, — быстро сказал он. — Подождите. Нужно только втолковать тем, что едят птиц, что другие опасны для них.
— Но они же не опасны, — сказал я. — Они просто другие.
— Да какая разница, если вы сведете все к этому?! Мы напугаем большинство, и они убьют тех, других.
— Да, но почему, мистер Костелло?
— Ты мне нравишься, парень. — Он усмехнулся. — Я буду думать, а ты — работать. Я все тебе объясню. Они все выглядят одинаково. Однажды мы заставим тех выгнать этих, — он указал на меньшинство вокруг плотвы, — они будут знать, что есть плотву нельзя. Они будут беспокоиться, и сделают все, чтоб их не заподозрили в пристрастии к плотве. И когда они будут хорошенько напуганы, мы заставим их делать все, что пожелаем.
Он сидел на корточках и наблюдал за муравьями. Потом взял любителя плотвы и бросил на птицу. Я встал.
— Ну, мне пора, я ведь только вас навестить, мистер Костелло…
— Я не муравей, — произнес мистер Костелло. — Пока мне наплевать, чем они питаются, я в силах заставить их делать все, что хочу…
— Я вижу, — ответил я.
Он продолжал говорить сам с собой, а я пошел прочь. Он наблюдал за муравьями, мечтал и не обращал на меня никакого внимания.
Я вернулся к Барни. Признаться, я ничего не понимал.
— Что он делает, Барни? — спросил я.
— То, что хочет, — ответил он.
Мы сели в монобиль, поднялись на холм и проехали силовые Ворота. Через некоторое время я снова спросил:
— Он долго здесь будет?
— Сколько захочет, — коротко ответил Барни.
— Никто не захочет долго оставаться взаперти.
Он посмотрел на меня прежним странным взглядом.
— Найтингейл не тюрьма.
— Но он же не может выйти.
— Слушай, приятель, мы можем переделать его, можем даже сделать из него интенданта. Но мы не делаем ничего такого уже много лет. Мы даем человеку делать то, что он хочет.
— Он никогда не хотел быть хозяином муравейника.
— Разве?
Должно быть, он увидел, что я ничего не понимаю и поэтому добавил:
— Всю жизнь он притворялся, будто он — единственный человек, а все остальные — букашки. Теперь это стало явью. Ему больше не придется ворошить человеческий муравейник, не будет случая.
Я посмотрел сквозь ветровое стекло на сверкающий шпиль моего корабля.
— Что стряслось с Боринкуином, Барни?
— Часть его людей проникла в Систему. Его идею нужно было остановить.
Он помолчал, размышляя.
— Не обижайся, но ты — просто глупая обезьяна. Я должен сказать тебе это, раз никто другой не решается.
— А почему? — спросил я.
— Нам пришлось вторгнуться на Боринкуин, который когда-то был царством свободы. Мы добрались до резиденции Костелло. Это был настоящий укрепленный форт. Мы взяли и его и его ребят. Но девушку мы спасти не успели. Он убил ее. И парней полегло предостаточно.
— Он всегда был хорошим другом, — сказал я через несколько минут.
— Разве?
Я ничего не ответил. Мы подъехали к космодрому, и он остановил машину.
— Он бы еще не так развернулся, если бы ты на него работал. У него была запись твоего голоса: «Иногда человеку просто необходимо побыть наедине с собой». Если бы ты работал на него, он все время держал бы тебя в страхе, угрожая огласить ее.
Я открыл дверцу.
— Почему ты показал мне его?
— Потому, что мы верим: надо позволить человеку делать то, что он хочет, если это не причиняет вреда другим. Если хочешь вернуться на озеро и работать на Костелло, я отвезу тебя к нему.
Я осторожно закрыл за собой дверцу и поднялся на корабль.
Я выполнил всю работу, и мы стартовали точно по расписанию. Я не находил себе места. Я не думал о словах Барни и не особенно беспокоился о мистере Костелло и о том, что с ним случилось: ведь Барни — лучший психиатр Флота, а Найтингейл самый красивый госпиталь во Вселенной.
Но меня еще долго сводила с ума мысль, что никогда не будет на моем пути другого такого значительного человека, как мистер Костелло, который подарит тепло, ласку и крепкую дружбу простофиле вроде меня.
Пер. с англ. К. Беловой

В.Норберт
ЧУДО В ЧУЛАНЧИКЕ

Я слышал даже, что некоторая, правда, весьма незначительная часть отдыхающих лезет на вулкан Попо и что некоторая, еще менее значительная часть их потом слезает обратно. Впрочем, я не собираюсь рассказывать о том, чего не видел своими глазами.
Моя же Мексика совсем другая. Это — мрачноватое и весьма строгое здание, где водяные трубы покрашены в три разных цвета и специфический запах лаборатории ничем не выведешь. Это — работа с моим другом-физиологом, чье имя не будет здесь названо по вполне понятной причине. Это — весьма энергичная компания молодых людей из разных стран, которые не прочь при случае разыграть друг друга, но заняты в основном карьерой в физиологии, химии и прочих науках. И еще — это Себастьян.
Себастьян — уборщик, но я ни в коем случае не хочу сказать, что он простой подметальщик. Нет, Себастьян — всем уборщикам уборщик! Когда я с ним познакомился, он обладал необыкновенно пышным красноречием и еще более пышными усами. Усы потом, увы, исчезли. Подозреваю, что их спер кто-то из молодых химиков. Красноречие осталось.
В начале нашего знакомства Себастьян мог цветисто говорить только на одном языке. В ту пору, когда в лаборатории готовилась к печати очередная статья, непременно спрашивали: «А Себастьян бы так выразился?» Постепенно, с приездом чужеземных, большей частью североамериканских, ученых, вторым языком в лаборатории стал английский, и Себастьян овладел в нем такими же красотами стиля, как и в испанском. Он был очень высокого мнения об авторитете и солидности «интернациональных ученых» и отзывался о них почтительно.
Себастьян был интернационалистом, но вовсе не был лишен национального начала. Он прежде всего был мексиканцем и притом весьма благочестивым.
В чуланчике, где он хранил швабры, был устроен алтарь с теми походными святынями, какие мексиканский шофер возит на лобовом стекле своей машины. Нечего и говорить, какой святой занимал в нем почетное место. Конечно, не обошлось и без Святой Девы Гваделупской — можно ли ожидать иного от мексиканского патриота! — но первый план был безраздельно отдан римскому солдату, густо утыканному стрелами и явно огорченному этим обстоятельством.
Теперь я должен рассказать вам о печальном событии, случившемся несколько лет назад и едва не сокрушившем наше процветающее заведение.
Началось все с посещения нашим шефом Национальной закладной конторы. Как его занесло в Национальную закладную контору — это выше моего понимания. Разве что американские подруги его жены прослышали, что там иногда удается по дешевке купить старинные доколониальные украшения.
Однако в тот день в продаже была только смешанная партия скобяных изделий, оцененная смехотворно низко. Кусочки металла всегда пригодятся для монтажа разных приборов, и шеф, блюдя финансовые интересы своей лаборатории, не удержался от покупки ящика с металлическим хламом всего за полпесо. Большая часть этой дряни так никому и не понадобилась: рамки от картинок, какие-то медяшки, несколько бросовых украшений… Но там оказались и железные стерженьки, они как раз сгодились моему приятелю для нового осциллографа.
Собирал он его в дальнем углу комнаты, как раз напротив упомянутого чуланчика, где уборщик держал свои тряпки и возносил молитвы.
Идеальный ученый муж должен сохранять возвышенную беспристрастность во всех своих действиях. Это так, но в своей ученой деятельности, охватившей сорок лет и три континента, я ни разу подобного идеала не встретил. Нормальный ученый хочет, как минимум, получить годные для публикации результаты, но еще больше он жаждет доказать, что последняя статья профессора Имярека из Энского университета — дурацкая.
Как бы я ни восхищался моим почтенным мексиканским коллегой, но все же должен сказать, что и он был не чужд маленькой человеческой слабости. Он не хуже других был способен высмеять автора, и долгая успешная научная карьера не раз ему это позволяла….
В то время, к которому относится мой рассказ, профессор Мудих, бежавший из Дурнебурга, как раз опубликовал работу, выполненную уже в Патагонском университете. Статья касалась нервной проводимости, и некоторые ее положения весьма разозлили моего друга.
Дебаты начались с того, что патагонский ученый пользовался усилителем германского производства, тогда как мексиканский специалист хранил верность американскому усилителю, сконструированному его хорошим другом.
Так или иначе, между результатами выявилось существенное различие.
Некоторое время мой друг приписывал это расхождение плохому прибору соперника и, в частности, используемым им электродам. Должен заметить — электрофизики постоянно оправдываются, что, мол, подвели электроды.
Вскоре вся лаборатория узнала, что борьба между директором и господином профессором Мудихом перешла в фазу смертного боя. Непочтительная молодежь делала на них ставки, их размер определялся тем, что прежде шеф, как правило, побеждал в подобных стычках.
Надо сказать, что наш Себастьян, будучи человеком достойным и благородным, не мог бы дать волю своим чувствам в такой тривиальной и даже вульгарной форме.
Шеф, которому он служил, которого считал национальным достоянием Мексики, в чей оффис Себастьян нередко приглашал чистильщика сапог и парикмахера (я должен заметить — к сильному замешательству самого босса), — шеф не только не мог оказаться неправ, но имел на все свои деяния полное одобрение неба.
Я далек от намерения распространяться о красноречии молитв, возносимых Святому Себастьяну. Этого не допускает ни испанская цветистость речи нашего Себастьяна, ни мои скромные лингвистические способности. Во всяком случае, первые результаты религиозного рвения оказались весьма ободряющими. Мексиканские электроды отлично работали, а американский усилитель удовлетворил бы даже Эдисоновский комитет.
Наши статьи струились потоком, и казалось, что X.Мудих обречен кануть в неизвестность, чего он, бесспорно, заслуживал.
Однако, при всей убедительности наших результатов, они не повлияли на встречный поток Статей из Патагонии. В серии сообщений герр профессор Мудих продолжал подтверждать свой непреложный вывод, и полемика тянулась месяцами.
К этому времени кое-кто из Института Морганбильта заинтересовался упорным противоречием в результатах двух ученых. Это был старый друг нашего шефа, и мы не сомневались, что данные нашей лаборатории полностью подтвердятся. Однако вскоре мы получили полное извинений письмо из Морганбильтовского института, в котором наш друг, доктор Шлемиль, признал себя неспособным повторить наши результаты. Он опасался, что недопонял какие-то подробности устройства нашего прибора. Тем не менее, в ходе работы он определенно встал на сторону профессора Мудиха. Наш подробный ответ не исправил положения. Похоже, доктор Шлемиль правильно понимал нашу методику — и тем не менее… Сложилась неприятная ситуация: дискуссия приобретала личный характер, а мы ничем не могли помочь.
В аргентинской газете появилась статья, обличающая разложение, вносимое в жизнь Мексики североамериканцами, и провозглашающая национальную миссию Аргентины, а именно — играть ведущую роль во всех областях науки и культуры.
За этим последовала довольно-таки шовинистическая статья в «Журнале американской медицинской ассоциации», бросающая тень на все совместные мексиканско-американские работы…
А мы получали все те же результаты, шеф даже спал с лица. Не знаю, к чему бы мы пришли, если бы в это время не была завершена новая и неожиданная его работа, правда, совсем в иной области. Только она и спасла репутацию лаборатории.
Сказать по правде, мы висели на волоске, и по сей день фамилия Мудих произносится у нас с чувством вины.
Только недавно перед нами вдруг забрезжило решение проблемы.
Собираясь выбросить когда-то купленные железки, шеф еще раз перебрал их. На дне ящика, между двумя металлическими пластинками, обнаружился лоскут пергамента. Оказалось, что ящик некогда принадлежал старому мексиканскому священнику, а обломки были им откопаны вблизи старинной церкви, посвященной Святому Себастьяну. По версии священника, не очень обоснованной, но вполне вероятной, железки были реликвиями, может быть, даже подлинными стрелами, которые в свое время пронзили святого.
Я бы не взялся толковать процесс приобретения орудиями казни чудотворной силы, но ведь у нас есть пример Святого Креста, а свойства у реликвии бывают самые непредсказуемые. Чудо Иисуса, остановившего солнце, было крупномасштабным; однако в рамках науки возможны и микрочудеса. Для того, чтобы нарушить ход эксперимента, достаточно совсем маленького чуда. Чего же ожидать, когда пылкий и преданный почитатель Святого Себастьяна неделями молится в непосредственной близости от его же стрел? В конце концов, святой был всего лишь римским солдатом, и специфические потребности современного ученого, боюсь, выше его понимания. Совсем другое дело просьбы велеречивого и богомольного, хотя и простодушного мусорщика!
У нас нет убедительных доказательств в пользу этой версии. Однако я заметил, что шеф стал явно неприязненно относиться ко всему, поступающему из клерикальных источников. Думаю, он не стал более религиозным, однако держится настороже и в прошлом году не взял на работу лаборанта по имени Себастьян. Я уверен, что знаю причину.
Мораль сей маленькой истории, если в ней есть какая-нибудь мораль, такова: как святому, так и ученому лучше бы заниматься собственными делами.
Уборщик Себастьян, между тем, процветает и, как я подозреваю, для самоутверждения опять начал отращивать усы.
Пер. с англ. Е. Гаркави

Артур Селлингс
КЛЮЧ ОТ ДВЕРИ
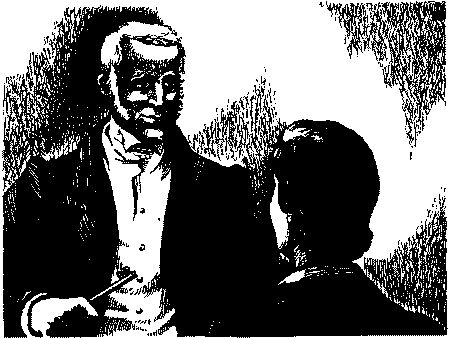
Логика подсказывала отцу, что до 1985-го года, когда вышел телесериал «Машина времени», этим термином широко не пользовались. Но во время второго свидания Долорес буквально засыпала его подобными словами. Он спросил, что они обозначают, и она ответила, что сама толком не знает, но под ними можно подразумевать все, что угодно. Что же касается ее, то она употребляла их только для того, чтобы он хоть немного чувствовал себя в ее времени, как дома. Но ведь у негр, в 1866 году, телевидения еще не существовало! Значит, кто-то успел рассказать Долорес об этих вещах до него! А поскольку машина времени существует в единственном экземпляре и стоит в запертой комнате, этим «кто-то» мог быть только его собственный сын!
Ax, что за женщина была Долорес! Нет, будет…или есть… Впрочем, чтобы описать Долорес, надо изобрести новое время, а, может, и вообще другой мир. В нашем мире не существует слов, которые смогли бы верно описать ее самое и ее речь: слова были сокращены до невозможности, иногда о смысле приходилось гадать. Кстати, такие словечки составляли чуть ли не половину ее лексикона.
— Годфри, — сурово произнес отец, — зайди после завтрака ко мне в кабинет.
— Да, отец, — покорно согласился Годфри.
«Что ему от меня нужно? — рассуждал Годфри. — Я обозвал сестренку, но после этого прошло уже столько времени. Но ведь я частенько обзываю ее так, а иногда и похлеще, в его же присутствии. Значит, не из-за этого. Скорее всего, отец все-таки узнал, что я пользовался его машиной. Но как?»
Эта мысль не давала Годфри покоя.
Нет, здесь, должно быть, что-то другое. Наверное, отец обнаружил разбитое стекло в оранжерее. Да, скорее всего это. Отец оштрафует его на шиллинг, но что значит один шиллинг по сравнению с тысячей фунтов, полученных от продажи ПЕРВОГО издания «Алисы в стране чудес» в 1985-м году. Что касается стекол, то вообще-то он давненько ими не занимался. У него нашлись дела куда интереснее. Конечно, он не собирался торговать «Алисой» в 1866-м году, но век спустя, в 1985-м, каждая книга стоила не меньше фунта, и эта цена никому не казалась слишком высокой. Казалось или будет казаться? Или кажется? Да, это, пожалуй, посложнее латинской грамматики с ее перфектами и плюсквамперфектами. Незавершенное будущее! Мелинда… это прекрасное будущее! Чудесное и бесконечное!..
Когда вошел Годфри, отец нервно прохаживался по кабинету. Он по привычке прошелся еще раз взад-вперед и повернулся лицом к сыну.
— У меня есть основания думать, что ты трогал кое-что из моих изобретений, точнее, из… приборов.
Значит, отец все знает! Годфри почувствовал, как слабеют колени. Но как? Он же всегда возвращал наборные диски в первоначальное положение. А потом, с тех самых пор, как он впервые переступил порог лаборатории, чтобы узнать, что там так шумит, он всегда тщательно выбирал время: когда отец уезжал по делам в Лондон или Эдинбург. Судя по всему, отец был очень сердит. Притворяться было бесполезно, он знал все наверняка.
— Да, папа, — пробормотал Годфри. Ему была отвратительна собственная покорность, но сейчас это была единственно верная тактика.
— Разве я разрешал тебе это?
— Нет, папа.
— Ты понимаешь, что баловаться с такой сложной машиной очень опасно? Ведь ты своим детским умишком не можешь понять всей серьезности и тонкости моих опытов.
— Да, папа, — покорно ответил Годфри, хоть и был оскорблен тем, что отец сказал «детский умишко». Ведь Годфри было четырнадцать с половиной лет, и он был уже не ребенок!
— Значит, если я сурово накажу тебя, ты согласишься с этим, зная, что это делается ради твоего же блага и безопасности.
— Д-да, папа.
Прежде чем заговорить, отец еще раз прошелся по комнате.
— Но сначала я хочу задать тебе несколько вопросов. От честности твоих ответов будет зависеть тяжесть наказания. Я знаю, что ты не просто включал аппарат, но и пользовался им. Сколько раз?
— Один раз, папа…
— Я еще раз спрашиваю — сколько раз?
— Два, папа.
— Так-то лучше.
Отцу казалось, что его суровый вид и грозный голос внушают сыну страх, и это заставляет его говорить правду. Зная это, Годфри беззастенчиво врал в первый раз, а во второй — лишь ненамного подправил свою ложь. Надо признаться, что взгляд папаши и в самом деле был суров, но не настолько, чтобы раскаяться полностью. Главное — немного смущения при повторном признании, опущенные к полу глаза при первом обмане и твердость при втором. На самом же деле Годфри проходил через ворота времени раз пятнадцать.
— Ты должен усвоить, что честность в отношениях между людьми — главный фундамент здорового общества.
«О, боже, — подумал Годфри, — как же глуп мой отец!»
Но вслух произнес:
— Да, папа.
— А как ты добрался до аппарата, ведь он заперт в моей лаборатории?
Годфри лихорадочно думал. Сказать правду — конец всему. Но ничего другого не оставалось. Ведь не скажешь же ему, будто залез в лабораторию через окно: с тех пор как соседи, взбешенные странными опытами отца, пытались разгромить дом, он заложил окна лаборатории кирпичом, что же касается двери, то ее отец никогда не забывал закрывать на ключ.
Перебрав в уме все варианты, Годфри залез во внутренний карман пиджака и достал ключ.
— Я нашел его в коробке со старыми ржавыми ключами, что на чердаке. В тот день шел дождь, и я обошел весь дом, подбирая ключи ко всем замкам. Этот был единственный, который подошел.
Отец взял ключ.
— А если бы этот ключ был от порохового погреба, ты бы тоже открыл его, с риском взорвать всю семью — больную мать, сестренку, себя, наконец?
— Д-да, папа,… то есть, нет, папа.
— Необузданное любопытство, сын мой, едва ли лучше полного равнодушия. А теперь расскажи мне о своих тайных путешествиях. Какой год в будущем ты посетил?
— Две тысячи тридцать пятый, папа, — невзирая на отчаянье, охватившее его, он не мог сдержать улыбки, увидев, как отец привстал в кресле.
— Откуда ты знаешь, что был именно в этом году?
— Я не знал, пока не увидел цифры на табло, когда вернулся.
— А что ты там делал, что видел?
— Я видел тебя. Ты танцевал с очень красивой блондинкой, папа.
«Ну что, получил, — подумал Годфри. — Попробуй теперь, тронь меня».
— Я только прогулялся вокруг, папа, — сказал он вслух, — и сразу же вернулся. Я был очень осторожен.
— Да, мой мальчик, но не настолько, чтобы отказаться от дальнейших прогулок.
— Н-е-е-т, папа. Когда я вернулся во второй раз, табло указывало на тысяча девятьсот восемьдесят пятый год.
Там было гораздо лучше, чем в 2035 — еще бы! В 2035-м большой сад, расположенный по соседству, был обсажен колючими кактусами, наверное, по последней моде, потому что все окрестные сады были засажены тем же.
Но в 1985-м на этом месте «был» замечательный парк с высокими деревьями и шелковой травой, с маленьким прудом и мостиком через него и… там была Мелинда…
Увидев его впервые, Мелинда очень испугалась.
— Ты живой или привидение? — сразу же спросила она.
— Конечно, живой, — засмеялся Годфри и ущипнул ее. Она тоже ущипнула его и только тогда поверила окончательно.
Сначала Годфри думал, что его одежда, необычная для ее времени, смутила Мелинду. Ведь нет ничего более изменчивого, чем мода, если не считать женщин. Но если одежда Годфри и отличалась от той, что носили в 1985, то не настолько, чтобы привлечь внимание. Дело было не в этом: Мелинда объяснила, что она иногда видит то, чего нет. Это было одним из проявлений ее болезни — невроза. Годфри никогда не слышал о такой, но понял, что это очень тяжелое заболевание.
— Что-то вроде упадка сил? — спросил он.
— Упадок сил? — переспросила она и засмеялась неуверенно, будто сомневалась в том, что умеет смеяться.
— Я только что засмеялась, — вдруг сказала она, — да, засмеялась… впервые… в жизни…
Он приходил еще и еще, и она смеялась все чаще и больше, все звонче и веселее. Наверное, его слова и манеры казались Мелинде очень необычными и забавными. Но он не сердился на нее за этот смех, даже наоборот: он звучал, как переливы колокольчиков, и Годфри ощущал странное удовольствие и с радостью превращался в шута.
Озабоченное выражение, более свойственное людям преклонного возраста, вскоре исчезло с лица Мелинды, она стала безмятежно красивой, щеки покрылись нежным румянцем.
Так они вошли в прекрасный мир 1985-го года: мир живого кино, ракет, летающих над головой, мир чудесной сладкой ваты. Подчас он даже пугал Годфри, хотя он скорее бы умер, чем показал свой страх Мелинде.
— Я слышал, — ворвался в его воспоминания отец, — что ты проговорился кому-то об аппарате. Поэтому я сделаю то, что должен был сделать три года назад, если бы мама не отговорила меня тогда. Я отправлю тебя в морскую школу.
