Страница:
* * *
– Я разрабатываю изобор, – сообщил Лонштейн, разлив предварительно вино в стаканы натуральной величины. – Твоя хорошая черта то, что ты один из всей этой шайки не возмущаешься моими неофонемами, посему я хочу тебе объяснить изобор, авось на минуту забуду об этих поганых броненосцах – слышишь, как они хрюкают? Исходная точка для меня – фортран.
– Ага, – сказал мой друг, настроившись оправдать высказанное о нем лестное мнение.
– Ладно, никто не требует, чтобы ты его знал, че. Фортран – это термин, обозначающий язык символов в программировании. Иначе говоря, фортран – составное слово из формула транспозиции, и изобрел это не я, но я считаю, что это изящный оборот, и почему вместо «изящный оборот» не говорить «изобор»? Тут будет экономия фонем, то есть экофон – ты меня понимаешь? – во всяком случае, экофон должен бы стать одной из основ фортрана. Подобным синтезирующим методом, то есть синметом, мы быстро и экономно продвигаемся к логической организации любой программы, то есть к лоорпро. На этом вот листочке записан всеобъемлющий мнемонический стишок, я его придумал для запоминания неофонем:
– Похоже на какую-то из хитанафор, о которых говорил дон Альфонсо Рейес, – решился заметить мой друг, к явной досаде Лонштейна.
Стремись синметом к экофону,
чтобы всегда фортран царил
в любой беседе, коль желаешь,
чтоб лоорпро научным был.
Изобор!
– Ну вот, ты тоже отказываешься понять мой порыв ввысь, к символическому языку, применимому по ту или по эту сторону науки, например, фортран поэзии или эротики, всего того, что уже стало редкими чистыми зернами в куче вонючих словечек планетарного супермаркета. Такие вещи не изобретаются систематически, но, если сделать усилие, если каждый человек время от времени придумает какой-нибудь изобор, обязательно возникнет и жофон, и алоорпро.
– Вероятно, лоорпро? – поправил мой друг.
– Нет, старик, за пределами науки это будет алоорпро, то есть алогическая организация любой программы, – улавливаешь различие? Ну, я тебя уже достаточно помучил, так что, если желаешь взглянуть на гриб, надо всего только пройти в кабинет. Стало быть, они дрались насмерть на улице с муравминетами и муравьекратами, а может, то были лишь муравьеминимы. Вот увидишь, это плохо кончится, но все равно, дружище, это хорошо, Маркос из числа ищущих, он, ясное дело, за происшествия на улицах, а я скорее признаю граффити на стенках, только дураки не понимают, что и это улица, че, а Маркос понимает, и поэтому он мне доверяет, что мне самому бывает удивительно, ведь, в конце-то концов, кто я, ловец поэтических рыбок или вроде того, программист всяких алоорпро.
– В общем, – сказал мой друг, – мне, к сожалению, недостает уймы синметов, фортранов и изоборов, чтобы разобраться, но, как бы то ни было, я рад, что ты видишь в Маркосе нечто большее, чем сухого программиста без воображения, – дай Бог, чтобы все намеченное, исполнившись, приняло когда-нибудь твои неофонемы или прибытие бирюзового пингвина, хотя товарищи Ролан или Гомес, как всегда, упрекнули бы меня в легкомыслии, – но если кто получил иммунитет от подобного обвинения, так это я.
– Нас сотрут в порошок, это точно, – сказал Лонштейн, – для того-то здесь муравьи, и они не оплошают. И все же ты прав, надо продолжать развивать фортран, неопубликованный символ человеческого желания и надежды; Бухарин, видно, этого не говорил, но я считаю, что бинарные революции (я бы сказал манихейские, но от этого слова меня передергивает с тех пор, как «Насьон» двадцать лет тому назад ввела его в моду) обречены еще до победы, потому что приняли правило игры – думая, что они все ломают, они сами перерождаются, что я и te la voglio dire [89]. Сколько требуется безумия, братец, безумия расчетливого и мужественного, и в итоге все сводится к тому, что гоняют с места на место муравьев. Вышибить из противника мысль о его могуществе, как говаривал Джин Тан-ни, – ведь пока он навязывает ее нам, мы обречены усваивать его семантические и стратегические образы. Надо действовать так, как показано на рисунке Чаваля, – мы видим арену в момент, когда должен появиться бык, но вместо быка выходит жуткий вышибала, и на тебе – храбрый тореро и вся его квадрилья улепетывают кто куда. В этом-то суть, проблема условных рефлексов, надо отказаться от предвидимых, логических структур. Скажем, примерно, так: муравьи ожидают быка, а Маркос им подсовывает пингвина. В общем, пошли смотреть на гриб и поговорим о чем-нибудь другом.
* * *
Говоря о чем-нибудь другом, вот, например, газетная вырезка, которую пустил по рукам Эредиа, а Моника еле спасла in extremis [90] от Мануэля, засунувшего ее в рот с
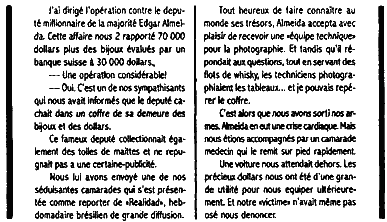
явным намерением пожевать. Эредиа был хорошо знаком с «Сидом» (настоящее имя Кейрош Бенхамин), он в Алжире рассказывал корреспонденту «Африказии» об операциях, которыми руководил в Рио. В тот момент моему другу было не вполне понятно, почему в рассказе Сида усматривали некий образец. Образец чего – кроме важности самого факта? Позже, беседуя этим ранним утром с Лонштейном, он яснее разглядел некую особенность того, что остальным представлялось одной из многих партизанских акций. Сид описывал операцию, предпринятую против некоего Алмейды, депутата правящего большинства и миллионера, – то была добыча стоимостью семьдесят тысяч долларов плюс на тридцать тысяч драгоценностей, хорош депутат. Один из наших симпатизантов (в переводе бедняжки Сусаны, всегда в таких случаях сыроватом) известил нас, что депутат хранит свои доллары и драгоценности дома в сейфе, что он, кроме того, коллекционирует полотна знаменитых художников и падок на рекламу. Поэтому мы послали к нему одну из наших женщин, весьма соблазнительного товарища (a traduc??o ? um mal necessario ', проворчал Эредиа, что значит «соблазнительного», я прекрасно знаю эту девушку, называть, ее соблазнительной значит оскорбить ее, и ее мать, и всю Бразилию, потому как она самый что ни на есть бесценный символ нашей страны и не требуется никого соблазнять – достаточно ее увидеть, чтобы пасть ниц, этот журналист ни черта не понимает, продолжай читать), которая представилась как корреспондент «Реалидад», весьма популярного бразильского еженедельника. Обрадовавшись поводу показать миру свои сокровища, Алмейда с восторгом согласился принять «техническую бригаду», дабы они сфотографировали произведения живописи. Пока он отвечал на вопросы, щедро наливая виски, техники фотографировали картины, а я определил местонахождение сейфа. И тут мы достали оружие. У Алмейды случился сердечный приступ. Но один из наших товарищей был врач, и он живо заставил Алмейду реагировать на наши требования. Снаружи нас ждала машина. Добытые доллары нам впоследствии очень пригодились для экипировки. А наша «жертва» даже не посмела заявить в полицию. Славная работа, сказал Люсьен Верней. Работа, подумал мой друг, он видит здесь только это – работу.
* * *
– Очень легко отвергать порядок, а также логику, – заключила Франсина, глядя на меня из своей крепости, да, кошка, или кладезь галлоримской мудрости + декарт + паскаль + энциклопедия + позитивизм + бергсон + профессора философии. – Плохо то, Андрес, что сегодня вечером ты здесь не для того, чтобы отвергать все это, а как раз наоборот; в твоем порядке что-то сломалось, в твоей логике что-то подвело, и бедняжка обиженный пришел поплакать на плече у своей подруги номер два. Сейчас ты скажешь «нет», потом мы будем пить кофе и коньяк, мадам Франк уйдет, мы спустимся вниз, чтобы ты полистал новинки в магазине, потом поднимемся опять пить коньяк, и тогда тебе полегчает, ты снова станешь маргинальным, свободным человеком, будешь целовать меня, а я тебя, мы разденемся, ты поставишь ночник на пол, тебе ведь нравится сизый полумрак (ты это сказал в первый раз, такое запоминается), ты меня обнимешь, я тебя поцелую, повторением мы победим время, старая система. И все будет хорошо, Андрес, но, во всяком случае, я должна тебе сказать – я не хочу, чтобы ты держался так, будто я не понимаю, что тебя удручает и тревожит.
– Теннис, – сказал я. – Парная игра.
Она выжидающе посмотрела на меня из-за дымка сигареты. Да, дорогая, теннис, игра между двумя, сперва, Людмила, теперь ты, мячик летает туда-сюда, падает на труднодоступные места, но всякий раз его изумительно отбивают – изящная и вместе с тем жестокая игра, две безжалостных спортсменки решают спор.
– Полно тебе, Франсина, я пришел не с тем, чтобы, как ты говоришь, плакать на твоем плече, я просто рассказал, что происходит, и в который раз сознаю, что совершил ошибку, что надо четко разграничивать, что в этих делах не бывает ничего общего.
– Ничего, – подтвердила Франсина. – Если бы было, Людмила и я ходили бы вместе в кино или по магазинам, ухаживали бы за тобой, когда у тебя грипп, я по одну сторону кровати, она по другую, и, как в добрых фривольных романах, мы занимались бы любовью втроем, впятером, всемером. Знаю, тебя такого рода общность не прельщает, именно ты делишь участки, ты решаешь и указываешь, так что не говори об ошибке, раз это основа твоей системы.
– То есть мне следует молчать и здесь, и там, приходить к тебе, словно все остается неизменным, и, когда возвращаюсь домой, поступать так же, – ничего не говорить Людмиле, раздваиваться, не идя ни на малейшие уступки, убивая одну из вас в другой каждый день и каждую ночь.
– Это не наша вина, я имею в виду Людмилу и себя. Повторяю, здесь вопрос системы – ни ты, ни мы обе не можем ее нарушить, она слишком древняя и слишком многое вмещает; твоя хваленая свобода тут бессильна, это весьма бледная вариация все того же танца.
– Тогда давай пить коньяк, – сказал я, устав от слов. – Представишь себе, что я только что вошел и ничегошеньки тебе не рассказывал. Как поживаешь, дорогая? Много работала сегодня?
– Шут, – сказала Франсина, гладя меня по голове. – Да, работы было много.
* * *
– Ты тоже будешь меня упрекать, что я на все смотрю или все вижу из своего закутка, – сказал Лонштейн. – Сам Маркос, а он знает меня лучше, чем кто-либо, иногда меня поругивает, находит чересчур радикальным. Как хочешь, а мне всегда нравилось в том парне, что он действительно пришел с мечом, захватил Галилею и перевернул ее, как оладью; не его вина, что потом ему смастерили церковь, не будешь же ты упрекать Ленина за Союз советских писателей, правда? Потомство – всегда эпигоны, диадохи [91], или как их там. Смотри, ну разве не прелесть?
Гриб достиг двадцати одного сантиметра ровно в пять утра и, казалось, решил на этом остановиться до нового распоряжения. Лонштейн, спрятав сантиметр, оросил основание гриба жидкостью, которую мой друг принял за воду, хотя с Лонштейном никогда нельзя быть уверенным. В общем, если мой друг правильно понял его речи / Смотри, какое голубое свечение / Ты мне говорил, что / Это не от лампы, если я ее погашу, фосфоресценция не прекратится, пойми / Ладно, если ты не хочешь говорить ни о чем другом, мне все равно / Почему же, вот, например, онанизм, я знаю, все возмущаются, что я себя объявил онанистом, им, видите ли, подавай приличия, скромность, и ты, я уверен, такой же, как все / Пожалуй, да, то есть, по-моему, тема не так уж увлекательна после тринадцати лет / Жирная ошибка, как говаривал левый нападающий у Бенедетти, но давай оставим гриб в покое, пусть поспит, он в эту ночь здорово надрывался, и ему нужна темнота; если хочешь, попьем мате, и, сдается, у меня где-то еще осталась водка.
Моему другу стало ясно, что с этой минуты его ждет
ЛОНШТЕЙН ON MASTURBATION [92]
и так и случилось – теперь проблема для моего друга состояла в том, запомнить ли речь Лонштейна для себя или при удобном случае повторить ее кому-либо. Он сам себе удивился, осознав, что при удобном случае он ее повторит, что в известном смысле это может оказаться необходимо, хотя некоторые будут ужасаться. Дело не в том, чтобы искать причины, их много, сказал Лонштейн, для этого существуют сыновья Зигмунда [93], но они не всегда сыновья Зиглинды, и потому на несколько голов отстают от Зигфрида – уж извини за эту вагнераналитическую ссылку / Если ты по-прежнему хочешь, чтобы я тебя понимал, решительно вставил мой друг, прекрати это дуракаваляние с изобором, неофонемами и прочими сокращениями твоих семантических сфинктеров / Жаль, сказал Лонштейн, но в конце концов. Мы говорили, что важно не то, почему я онанировал вместо того, чтобы трахаться, а надо ухватить суть дела без психолипсических намеков. Например, пара, это универсальное понятие эротизма, – конечно, я, когда был молод, искал ее, как все, и во Флориде и в Корриентесе, но со мной было то же, что с Титиной. Я случай крайний, хотя отнюдь не редкий, то есть я не сумел найти себе пару, даже сменив пять-шесть объектов за столько же лет. Даже сделал попытку с почтальоном, приносившим мне «Сур», журнал, который я тогда выписывал, ему было – разумеется, почтальону – семнадцать лет. Заметь мой научный подход, решимость штурмовать проблему всесторонне. Результат – убеждение, что я никогда не смогу жить в паре ни с женщиной, ни с мужчиной, но также и то, что мне не хватает женщины и в дружбе, и в постели. Почтальон исчез из моей жизни, как из всей этой парадигмы, ибо опыт in vivo [94] показал, что гомосексуальная связь меня не привлекает, скажу тебе, что я даже отказался от подписки на «Сур», чтобы его больше не видеть. Но женщина – да, обойтись без женщины невозможно, и тут было, как я уже сказал, пять или шесть попыток в молодости, сперва все шло прекрасно, ибо с обеих сторон метод страуса и невероятный восторг, любой недостаток вначале предстает интересной, характерной чертой, придающей человеку своеобразие, любой спор кажется диалектическим стимулом к взаимному духовному обогащению, см. Хулиан Мариас. Я не смеюсь, че, это давным-давно известно и говорится этими самыми клишештампами, но также известно, что приходит день, когда недостаток это недостаток, и тут конец. В таком случае статистически обычное поведение – терпеть, вступить в брак и воспользоваться его благом, которого нередко больше, чем зла. Со мной эта система не сработала, я трижды пытался жить в паре, при третьей попытке у нас родился сын, и на этом всё, теперь он учится, чтобы мать могла похвалиться дантистом в семье, ты же знаешь, в Вилья-Элисе вода способствует развитию пиореи. Расскажу тебе подробней хоть об одном случае – второй раз я сошелся с Йоландой, а через полгода взаимное разочарование стало настолько очевидным, что мы решили жить каждый своей жизнью, но не разводясь, – то были времена, когда чертовски трудно было найти квартиру. Что тебе сказать, старик, это стоило бы показать через спутник – каждый приходил в дом и уходил, точно другого там и духу нет, и это понимай буквально, а не так, когда супружеская пара поссорится, а затем наступают часы неловкости, обида у обоих уже прошла, и они сожалеют почти обо всем, что было сказано, и не потому, что это неправда, но слово не воробей, всякие были намеки, ссылки на древнюю историю, временами угроза пощечины, – словом, оба бродят, как собаки, которых искупали в противочесоточной жидкости, но, конечно, воспитание сказывается, все этак вежливо, везде голубые бантики, хочешь чашечку чаю, я не прочь, я даже могу заварить, нет, уж позволь мне, ладно, спасибо, будем пить в гостиной, а то здесь жарко, ты прав, духота в эту пору в этой комнате ужасная, не думаешь ли, что можно было бы проложить какой-нибудь теплоизолятор, я видела в «Клаудиа» рекламу, принеси, посмотрим вместе, да, пожалуй, это выход, ладно, сперва я приготовлю чай, согласен, а я пока полью цветы на балконе, и так далее, к концу чаепития, глядишь, и усмешечка, противный, нет, это ты противная, ты начала, да, я начала, потому что ты завел разговор об отпуске, ты ошибаешься, я завел, но не с таким намерением, ах так, а я-то думала, видишь, какой ты злюка, а ты драчливая курица, это твоя тетушка, вот она таки курица, бедная моя тетушка, она скорее на сову похожа, и тут уже оба смеются, потом поцелуй, а потом постель – все, молчи, все прекрасно, всякая ссора с благополучным концом – это предэротический акт, надо вам знать. Налей-ка мне мате, я задыхаюсь.
– Значит, с твоей так называемой Йоландой было по-другому, – сказал мой друг, не любивший отступлений и того, что сочиняется к случаю.
– Почему ты говоришь «так называемой»? – обиделся Лонштейн. – Вы, портеньо, уже ничему не верите, ублюдки чертовы. Да, ее действительно звали Йоланда, у нее и сейчас галантерейная лавка в Колехиалес – штука-то была в том, что я хотел выяснить, сумеем ли мы сохраниться как пара, даже не здороваясь по утрам; признай, что в этой идее были зародыши антропологической мутации. Вероятно, все могло бы потихоньку возродиться, и, долгое время не видясь, мы бы увидели друг друга такими, какими были на деле, но покамест наша квартира походила на театр марионеток – один уходит, другой приходит, один обедает в двенадцать, другой в час, разве что нам обоим вдруг вздумается поесть в четверть второго, и тогда мы одновременно накрывали на стол и стряпали, при этом случались ужасные ошибки, когда мы вместе хватались за солонку или за сковороду, доля секунды решала, кто победил; а другой оставался с повисшей в воздухе рукой, или, например, однажды я сидел на толчке, и тут входит Йоланда, и, увидев меня, она после многих недель молчания заявляет: «Или ты уберешься, или я наделаю на голову», и я, не поняв, на чью голову, ее или мою, сбежал, не завершив дела. Заметь, что вопрос секса решался у нас единственно возможным в то время способом, ведь для любви нужны были мы оба, и это составляло проблему, которая все же решалась в какой-то период, – когда великий слепой черный бог вонзал свое копье, один из нас подходил и клал другому руку на плечо, и тот мгновенно подчинялся. Варианты, повторения, капризы – все выражалось инстинктивными движениями, и партнер понимал их и уважал; это и впрямь было ужасно.
– Ну ладно тебе, – с облегчением сказал мой друг, которому казалось, будто он слышит исповедь паука или кролика.
– Вот в то время, когда у нас с Йоландой все кончилось и она вернулась к родителям, я и начал заниматься онанизмом упорядоченно, а не так, как в детстве. Теперь у меня был богатый опыт, точное знание пределов удовольствия, его вариантов и разветвлений; то, что многие полагают – или, еще чаще, притворяются, будто полагают, – неким эрзацем эротизма в парном сексе, у меня постепенно становилось произведением искусства. Я научился онанировать, как человек учится водить самолет или вкусно готовить, я обнаружил, что эротизм этот здоровый, если не прибегать к нему только как к заменителю.
– Послушай, а тебе не трудно об этом говорить?
– Еще как трудно, – сказал Лонштейн, – и именно поэтому я считаю, что должен говорить.
Мой друг испытующе поглядел на него в профиль, в три четверти – Лонштейн был немного бледен, но глаз не отводил, руки его между тем доставали и зажигали сигарету. Было очевидно, что его исповедь не следствие эксгибиционизма или другого извращения. «Именно поэтому я считаю, что должен говорить». Почему «именно поэтому»? Потому что трудно и противоречит схемам благоприличий? Давай, давай, сказал мой друг, для меня, правда, это отнюдь не ночь Клеопатры, давай трепись, проклятущий кордовец, пока не покажется Феб.
* * *
В эти часы или дни – уж не помню, в среду или в четверг, – разговоры, в которых мне приходилось участвовать, походили на разговоры стрелочников – словами, гримасами, будто руками, медленно приводились в движение какие-то рычаги, и поезда, прежде мчавшие с востока на запад, поворачивали на север (один из них вышел из Парижа в Веррьер – эта поездка в нормальных условиях заняла бы двадцать минут, а на сей раз продолжалась несколько дней, но не будем подражать вышедшим из моды сфинксам или – но это подумал уже мой друг – пуччиниевским принцессам, поющим из динамиков в отеле), суть в том, что в разговор вступаешь, будто входишь в кафе или развертываешь газету – открываешь рот, дверь или страницу, не думая о дальнейшем, и вдруг – авария. С Людмилой я это знал заранее, однако рука нажала на стрелку слишком грубо, поезд пустился по новой колее со скрежетом неминуемой катастрофы уже на первой странице, не знаю, каким маневром тормозов машинист избегал крушения, но факт, что избегал, – эти воображаемые поезда валятся под откос, и никто даже не заметит. Любопытно (какое-нибудь наречие всегда подвернется, коль хочешь что-то замаскировать), что я как раз тогда прочитал Рене Шара о периоде сопротивления нацистам на юге Франции, из многих страниц дневника и стихов мне запомнилась одна простая фраза: «Certains jours il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles ? d?crire» [95], и тут мой друг рассказывает мне о ночи с Лонштейном, и мы оба почувствовали, что, хотя Лонштейн говорил о чем-то конкретном, что ему было необходимо высказать, пусть через силу, в этом никак нельзя видеть лишь исповедь, поскольку раввинчик не относился к категории людей, нуждающихся в исповеди; скорее это было связано с некими внешне далекими обстоятельствами, на мой взгляд противоречивыми и меж собой не связанными, но мой друг, более осведомленный, сумел их соединить и связать воедино – вот, к примеру, Оскар, тот факт, что Оскар тоже состоит в Буче, выполняя функцию, совершенно не объяснимую в свете принципов разума или директив КП. Посему мой друг начинал преступно смешивать все вместе, он, претендовавший на то, чтобы все расставить по полочкам – чубарых в одну сторону, соловых в другую; теперь он уже понимал, что разделить все причины почти невозможно, во всяком случае, они были неразделимы и для Лонштейна, и для Оскара (также для Маркоса, но Маркос об этом не очень-то распространялся, разве что под действием можжевеловой, как при его хвалах «восторгам», где вдобавок темой была Людмила), и в те дни, когда мой друг встречался с Андресом, карты в его колоде перемешались, и Андрес подумал, что у моего друга и у Людмилы уже нет общего расписания поездов, по которому можно, как прежде, сверяться, ибо стрелки везде сдвинули рельсы и со вторника до пятницы происходило какое-то всеобщее нарушение движения. Для меня все это имело личный интерес, и мне вовсе не хотелось вносить ясность и посвящать в эти дела третьих лиц, но мой друг двигался по иной колее – Буча, сперва казавшаяся ему чем-то бредовым, а потом забавным, но всегда чем-то простым и даже примитивным, начинала в таком виде сыпаться у него меж пальцев, как струйка песка, и поэтому он смотрел на Лонштейна с явным неудовольствием.
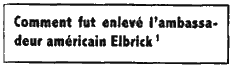
[96]
Фактически же, когда мой друг пересказал мне лонштейновское рассуждение, я был готов понять то, что Людмила уже поняла, то, что Маркос понимал с самого начала, то, что Оскар старался понять с другой точки зрения, то, что очень многие, возможно, поймут когда-нибудь; но пока для этого еще было рано, и вдобавок был сон о фильме, который, как шмель, все возвращался со своим гнетущим провалом памяти после того, как открылась дверь в комнату, где кто-то («один кубинец, сеньор») ждал меня, чтобы что-то мне сообщить; возможно, было еще рано и для этого сна, но все равно Шар прав – нечего бояться называть прямо вещи, которые описать невозможно, как прав был Лонштейн, описывая моему другу вещи, которые невозможно назвать прямо, уж не говоря о том, что история тем временем продолжалась, в чем легко было убедиться за несколько cy в киоске.
Am?rique Latine
ARGENTINE: querelle de g ?n?raux et luttes populaires par Isabel Alvarez [97]
Андрес уже все знал. Людмила могла вернуться и промолчать, или не вернуться и позвонить от Маркоса, или не вернуться и не звонить (варианты почтовые, телеграфные, всякие демарши друзей); когда она вошла в квартиру на улице д'Уэст, было около полудня, но на сей раз она явилась без лука-порея. Андрес спал голый, одна его рука лежала на ночном столике между будильником и другими предметами; видимо, под влиянием кошмара он сбросил одеяло и простыню – живописно драпируясь, они валялись у его ног и рядом с кроватью, и Людмиле представилось какое-то историческое полотно, Жерико или Давид, отравившийся Чаттертон, название вроде «Слишком поздно!» и его варианты. С минуту она смотрела на это тело, повернутое спиною, бесстыдное и как бы отчужденное от себя самого, молча поздоровалась с ним улыбкой и прикрыла дверь; она тоже ляжет спать, но на диване в гостиной, собрав на место полдюжины пластинок, которые Андрес оставлял где попало. Со стаканом молока в руке, закутавшись в халат Андреса, она подумала, что хорошо бы чуточку вздремнуть – ведь в три часа ей идти к Патрисио за инструкциями. Пояс был быстро ослаблен, Маркос, с гримасой боли втягивая живот, помогал это сделать, и Людмила сумела расстегнуть верхние три пуговицы до резинки трусов. Только бы не было внутреннего кровоизлияния, сказала она, увидев расползшуюся книзу сине-зеленую карту Австралии. Не волнуйся, полечка, ты же видишь, я дышу свободно, это всего лишь ушиб. Да, вижу, сказала Людмила, самое лучшее сейчас – спиртовая примочка. Придется взять водку, сказал Маркос, алкоголь в этом доме имеется только в таком виде. Когда он тихонько поцеловал ее ухо, приостановив научное исследование пораженного участка, Людмила припала головой к его груди и на минуту так застыла. Они ничего не говорили, согретый чай, согласно физическим законам, остывал.
