Страница:
– Этого, возможно, не будет, но что тебе это нравится, уж ты не спорь, – говорит Маркос, который слушает его как бы издалека и одновременно отмечает очередной телефонный номер, уже седьмой.
– Когда они отравились снотворным и кажется, будто они только что с танцульки, тогда, конечно, иной раз взыграет ретивое, в конце-то концов, это неплохой способ дать курносой пинка под зад, не позволить ей измываться над бедняками, – потому и стараешься, старик, прибираешь их, обмываешь, и вот, когда их хорошенько прилижешь, лежат они, лапушки, ей-ей, не хуже тех, кто издох у себя дома или в главной клинике с помощью Пречистой и эскулькторов; что ни говори, нет такого закона, чтобы мои голышики, пусть они иногда совсем еще молоденькие, считались как бы вторым сортом, мякиной какой-то, ты ж понимаешь, я имею в виду, что им просто не повезло, выражаясь суперфигурально и архинаучно.
– Опять, че! – говорит Маркос с досадой то ли из-за Лонштейна, то ли номер у него занят.
– Да пусть его! – говорю я. – Он целый век так не расслаблялся. Когда бешеный конь понесет, надо скакать с ним рядом, будем милосердны.
– Ты прямо как мать родная, – говорит Лонштейн, явно довольный. – Я, знаешь, вроде тех классических палачей, которые становились невротиками, потому что никому, кроме как своей не менее классической дочери, не могли рассказывать о деталях пыточнодыбия и четвер-то-колесования; ты ж понимаешь, в бистро у Марты я не стану распускать язык, как говорят мои копэны [11], и это обрекает меня на молчание, не говоря о том, что я холостяк и чистонанист и у меня нет иного способа изливержения, кроме монолога, да еще ватерклокнота, где я иногда дефесказываюсь и душеиспускаюсь. Беда в том, как я уже тебе сказал, что на меня навалили работы вдвое под предлогом, что будут платить вчетверо больше, а я и согласись, никогда толком не подумаю, и теперь, кроме инсти, у меня еще и госпи. Сплошные индусы, была, правда, лавина чехов, но теперь одни индусы мейд ин Мадрас, слово чести.
– Что еще за индусы? – говорит Маркос.
– Похищенные с погребального костра, – настаивает Лонштейн, – и герменевтически укупоренные в нумерованные контейнеры с указнадписью насчет пола и возраста, как там устраиваются с этим рэкетом, один бог знает, но я думаю вскоре торговцы дровами для кремации в Бенаресе поднимут бучу, вроде калькуттского бунтежа, о котором мы учили в Национальном институте в Боливаре, провинция Буэнос-Айрес, помнишь, нам еще читал зануда Кансио, знаменитый наш проф – о ностальхолия, о восторкование!
– Ты хочешь сказать, будто импортируют трупы индусов для вскрытия? – говорит Маркос, начиная интересоваться. – Иди рассказывай дуракам, пустобрех.
– Святусь тебе самым клянтым, – говорит Лонштейн. – Мне и хромому Тергову вменяется в обязанность вскрывать контейнеры и готовить товар для ночи длинных ножей – по четвергам и понедельникам. Тут, видите ли, один из многих отрицанаучных элементов, о которых хромой и я тихомалкиваем, потому что профы желают одного – подавай им сырье в состоянии интегральной голонаготы.
Он вытаскивает из кармана бумажный цветок на проволочном стебле и бросает в Маркоса, тот, вскочив из кресла, разражается бранью. Я начинаю подумывать, что надо бы их потихоньку подтолкнуть к выходу – нехорошо заставлять Патрисио и Сусану ждать до часа ночи, а теперь уже пять минут второго.
По всем этим причинам идея, что абсурд – это всего лишь предыстория человека, как считает мой друг и многие другие, а также по причине летающих вокруг лампы козявок – а это один из способов отвечать на абсурд (по сути, homo faber [12] означает то же самое, но есть столько фаберов номер один, два и три, утонченных или тупиц, целомудренных или кастрированных), по всем этим причинам и сходным с ними наступит момент, когда мой друг сочтет, что набралось уже достаточно жуков, комаров и мамборета, отплясывающих безумный, хотя и весьма впечатляющий джерк вокруг лампы, и тогда – продолжая метафору – он вдруг погасит ее, мгновенно заморозит некое определенное расположение всех козявок, сидящих спокойно или движущихся, – внезапно лишенные света, они застынут в последнем взгляде моего друга в тот миг, когда он погасит лампу, – так что самый крупный мамборета, летавший высоко над лампой, окажется симметрично противоположен красной фалене, вычерчивавшей свой эллипс под лампой, и так, в некоей последовательности, различные назойливые летние козявки примут облик неподвижных, окончательно замерших точек в картине, которая, будь света на секунду больше или меньше, оказалась бы совершенно иной. Кто-то назовет это выбором – в их числе будет мой друг, а кто-то назовет случаем – в их числе будет мой друг, – потому что мой друг твердо знает, что в некий данный миг он погасил лампу и сделал это потому, что решил это сделать в этот миг, не раньше и не позже, но он знает также, что соображение, побудившее его нажать на кнопку выключателя, рождено не каким-либо математическим расчетом и не мыслями о пользе, а просто возникло из нутра, нутро же – это понятие весьма смутное, о чем известно всякому, кто влюбляется или играет в покер в субботние вечера.
– Ну что, продолжим еще немного, покажем, что ожидает этого трансандийца, если он не будет безвылазно сидеть в своем отеле?
– Да ладно, я уже понял, – говорит Фернандо.
– Нет, нет, у тебя в глазах еще светится что-то, о чем сказано в одном из лучших наших стихотворений, или же этот мате, который ты пьешь, наполнен злосчастными иллюзиями. Therefore [13], Сусана, переведи это сообщение в двух колонках, которое Моника тебе передала вместе с мате.
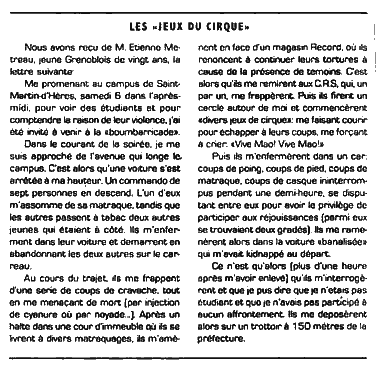
– Вы мне уже осточертели, я с вас потребую таксу ЮHECKO за переводы на дому, – огрызнулась Сусана. – На днях мне приглянулась модель у Доротеи Бис и, если ты будешь скупиться, возьму и куплю себе два таких платья, как подсказывает подсознательно фамилия хозяйки магазина, вот, наверно, толковая дама. «Цирковые игры», это заголовок. Мы получили следующее письмо от Этьена Метро, молодого человека двадцати лет, жителя Гренобля, двоеточие. В субботу 6-го под вечер, когда я прогуливался по кампусу Сен-Мартен-д'Эр, чтобы посмотреть на студентов и понять причину их насильственных действий,
меня пригласили присутствовать при «бум-баррикаде». Когда стемнело, я подошел к шоссе, у которого расположен кампус. Рядом со мной останавливается машина. Из нее выходят семь каких-то личностей, целый отряд.
Один из них
обрушивает на меня удар дубинкой, а остальные колотят двух парней, оказавшихся по соседству. Меня затаскивают в машину и увозят, а те двое остаются лежать на земле. Во время поездки меня избивают ремнями и угрожают прикончить (либо впрыснут цианистый калий, либо утопят). Машина останавливается во дворе какого-то дома, где меня продолжают избивать дубинками,
затем подводят к магазину фирмы «Рекорд», где перестают истязать из-за присутствия свидетелей. И тут меня передали в руки молодчиков из службы безопасности,
которые принялись меня избивать поочередно. Затем они стати в круг и начали «цирковые игры» – гоняли меня тумаками и заставляли кричать «Да здравствует Мао! Да здравствует Мао!». Затем меня заперли в тюремной машине: там тоже тумаки, пинки, удары сапогами, полчаса без перерыва, причем они спорили между собой за право участвовать в развлечении (среди них были два офицера). После чего меня опять повезли в «замаскированной» машине, в которой забирали из кампуса. Только теперь (более чем через час после задержания) меня допросили, и я смог им сказать, что я не студент и не принимал участия ни в каких стычках с полицией. Тогда меня просто выбросили на мостовую в ста пятидесяти метрах от полицейской префектуры. Теперь я нахожусь в больнице с травмой черепа (во время «приключения» я три раза терял сознание). Точка.
– Вот видишь, чилийчик, – сказал Патрисио. – И этот парень, он французский гражданин, а ты себе представляешь, окажись он каким-нибудь метеком из Осорно или Темуко, например, ай-ай-ай, и не воображай лучше.
– Ну что ж, во всяком случае, их тут не убивают, как в Гватемале или в Мексике.
– Или в Кордове, или в Буэнос-Айресе, дорогуша, не отнимай у моей страны ее законных привилегий. Конечно, пока еще не убивают, но не потому, что не хотят, просто имеется некая шкала ценностей, и по этой шкале еще не дошло до расстрелов, потому что существуют тяжелая индустрия, международные отношения, фасад, который надо оберегать. Детка, мне сдается, что твой сын хнычет, где же этот хваленый материнский инстинкт, эти сказки, выдуманные вами же, чтобы мы по крайней мере не лезли в критическую зону колыбели.
– И очень правильно, любовь моя, потому что всякий раз, когда на вас находит приступ нежности, вы норовите колыбель опрокинуть. Твой сын, – добавляет Сусана, показывая ему язык, – он говорит так, будто он в ту ночь был в кино, а не в постели.
– А ты уверена, что я был в постели, а не валялся на коврике в ванной? – сказал Патрисио, обнимая ее за плечи и запрокидывая назад, пока ее затылок не коснулся пола, – любовная игра, на которую Фернандо смотрел со смущением. А они, точно забыв о нем, целовались, щекотали друг друга и как будто забыли, что Мануэль все прибавляет децибелы своего хриплого возмущенного рева. Натурально, что именно в этот момент, когда возня была в самом разгаре, должен был зазвонить звонок. Фернандо немного подождал, но, так как Патрисио и Сусана скрылись и он слышат, как они успокаивают Мануэля хохотом и воплями, не уступающими взрывам рыданий дитяти, он решил на свой страх и риск открыть – акция всегда малоприятная, когда пришедшие друзья дома вдруг видят незнакомого и возникает момент неловкости, – все держатся весьма благовоспитанно, но каждый спрашивает себя, что за черт, не ошибся ли я квартирой, в два часа ночи башка немного того, но вот все выясняется, и от фазы выяснений, времени устных объяснений переходят к рукопожатиям и представлениям, но всегда после общего недоумения, неудачного начала церемонии остается привкус, наносящий ущерб всей литургии, – облатка совпала с приступом кашля и превратилась в мучнистую кашицу, в общем, во что-то внесерийное, как иные экземпляры автомобилей, и в довершение беды Лонштейн, представляясь, сказал: «Я гранджуирую знакомством», фраза, которую Фернандо принял за французскую, да не стойте же на пороге, проходите, пожалуйста, и мы вошли и не ошиблись, это была квартира Сусаны и Патрисио, потому что с порога пошло о Мануэле да всякие «как поживаете».
Возможно, что нескончаемые разговоры о протесте, который они называли сопротивлением, слегка действовали ему на нервы; возможно, что письма Сары появились просто по словесной ассоциации или из чистого удовольствия появиться внезапно (почему бы памяти не иметь своих причуд, своих приливов и отливов, наглости выдавать или отказывать под влиянием каприза или же гула голосов вокруг?), во всяком случае, мой друг на какое-то время задумался об этих письмах, меж тем как Маркос комментировал или критиковал самые недавние формы сопротивления в пределах Парижа. Письма приходили в то время, когда один знакомый Сари жил у моего друга, у которого провал месяц до возвращения в Аргентину; уезжая, он их оставил, потому что они отчасти предназначались и моему, ругу, хотя он уже десять лет не видел Сару, которая в Европу никогда не приезжала, – последнее его воспоминание о ней была кофейная ложечка, рука Сары медленно крутит ложечкой, точно боясь повредить кусочек сахара или кофе, – все это в три часа дня в кафе на улице Майпу.
В те дни, когда Маркос и Патрисио и все прочие из нашей бражки готовили Бучу, мой друг, вероятно, понял, что хотя бы Маркос достоин ознакомиться с письмами Сары, и он дал их ему почитать однажды вечером, пока Маркос ждал важных сообщений по телефону (Маркос ждал, а Лонштейн и мой друг, как всегда, присутствовали – неразлучный с Маркосом и отчужденный раввинчик и мой друг – тоже, но в меньшей степени; они также помешивали сахар в чашечках, но отнюдь не бережно). Я пришел, когда Маркос читал письма, и меня задело, что мой друг, по мере того как Маркос прочитывал письма, забирал их, даже не извиняясь, что оставляет как бы в стороне Лонштейна и меня, хотя какое, к черту, нам до них дело, дело-то есть, но какого черта стали бы мы признаваться. Что ж, во всем этом нет ничего нового, заметил Маркос, так же, как с несчастным случаем – производит впечатление, если касается твоей тети. Дай взглянуть на почерк, сказал Лонштейн, содержание меня не интеревлекает. Письма были уже в кармане у моего друга, он ограничился тем, что согласился с замечанием Маркоса. Было это не из недоверия к Лонштейну, но скорее из-за того, что письма эти не годились быть предметом его графологических коньков, – маятник лучечувствительности и некая весьма раздражающая психоспелеология, которые он применял, основываясь на типе бумаги и чернил, на отступах между словами и строчками и даже на том, как наклеена марка; что до Андреса, ему-то почему не дал прочесть письма, видимо, тут было смутное раздражение, подозрение, что Андреса, сравнительно с Маркосом и Лонштейном, они бы заинтересовали по другим причинам, он захотел бы узнать больше, перенести в некотором роде образ Сары и историю в это кафе на улице де Бюсй, не имеющее ничего общего с кафе на улице Майпу. Таков уж он был, мой друг, по мере своей власти он вел игру по своему произволу, и его даже забавляла эта метафора – поскольку речь шла о письмах, – что в этот вечер они будут предоставлены только Маркосу, хотя в них не было ничего, связанного напрямую с Бучей. Что ж до него самого, обычно выбрасывающего письма, то письма Сары он не только сохранил, но иногда их перечитывал, хотя отвечать и не думал. Во-первых, это были письма, требовавшие не ответа, а скорее какого-то поступка; к тому же он бы предпочел снова увидеть Сару, овал ее лица – самое яркое его воспоминание наряду с голосом и кофейной ложечкой, да еще с ее пристальным и ясным взглядом. 2 октября 1969 года Сара писала: дорогие, у меня для вас целая длинная история [14]. Длинная, путаная (возможно, даже забавная, хотя мне теперь таковой не кажется), и озаглавить ее можно было бы «Сара, или Печальные приключения добродетели в Центральной Америке». Конечно, вначале надо было бы написать первую часть истории: «Как Сара добирается до Центральной Америки through the Canal Zone [15] в Панаме». От одной мысли, что придется все это описывать, мне становится скучно, посему лучше я просто приведу одно письмо, как оно есть.
Первый шок был для меня в (…). Пепе, твои друзья, эти X., – люди «порядочные». Ты знаешь, что это такое? Это значит, что у нас негде тебя поместить, моя дорогая, – и дело вовсе не в том, что негде или что они дурные люди. Они замечательные, но из другого мира, другого поколения, другого мышления, другой манеры существования, всего – другого. Пепе, Лусио, не знаю, правда ли это, но я уверена и, после всего, что произошло (в Коста-Рике меня чуть не засадили в кутузку), все более проникаюсь уверенностью, и дело в том, что… Простите, пишу бессвязно, – потому что здесь, в Манагуа, нас трое в одной комнате. Пожалуй, стоит это описать. Анхелес – панамская негритянка, я это я, а Джон – американец. Мы сказали, что мы – родня, а так как разговариваем мы на гнусном винегрете из английского, арго разных стран и испанского (я теперь – с перуанским акцентом) и, кроме того, на нас на всех лежит некий неощутимый налет нашего обычного окружения – который «прочие» вмиг ощущают и который вроде семейного сходства, – то нам поверили. «Прочие» нас объединили. И хотя вы, милостивые судари, и не поверите, но каждый из нас в этот день решил, что уже по горло сыт всем.
Что значит «всё»? «Всё» – это вот что: что люди на улице над нами смеются, что на нас указывают пальцами, что нас оскорбляют и, честное слово, в Джона кидали камнями, а я научилась давать оплеухи, а Анхелес начинает вопить – словом, обороняемся, как можем. Это не трагедия, но иногда мы плачем, правда, лишь потому, что думали раньше, что здесь жизнь отличается, или что мы не будем так отличаться, или потому, что не понимаем, за что нас ненавидят.
Итак, каждый по своим причинам сегодня решил, что озеру в Манагуа мы говорим «нет», и странствиям пешком «нет», и точка. Сидим в комнате, очень жарко, иногда идет дождь, завтра отправляемся в Сан-Сальвадор, где будет то же, что здесь; я стараюсь раздобыть одежду, Джон выходит из дому с потрясающим шарфом, которым мы утром обвязываем ему шею, чтобы спрятать его космы, а Анхелес (она никуда не выходит) хочет возвратиться в Панаму, чтобы собрать деньжат и попытать счастья в какой-нибудь яругой стране. Мне кажется, в Мексике должно быть по-другому, но сведения от приезжающих оттуда ужасные. Да, я забыла, дело в том, что в тех странах, где царят нищета, проституция, где болезни и ненависть сокращают твою жизнь, принялись наводить чистоту – во имя морали, религии и закона. Долой хиппи! Неряхи, наркоманы, преступники. Так рассуждают таможенники и политики, а как население – я не знаю. Не понимаю. Но они ненавидят меня, ненавидят нас, мне пришлось спрятать все мои побрякушки, я должна подбирать волосы, я попыталась найти другой вещевой мешок, он тоже оскорбляет их взор: только увидят мой мешок, сразу грубо его открывают, все выбрасывают, туфли, грязное белье, бусы, мате и бомбилью, расшвыривают как попало и обыскивают меня всю, ведь мало того, что я хиппи, я, возможно, еще и партизанка. И, в конце концов, как получишь столько колотушек во имя Разума, Морали и всего прочего, что они себе навоображали, так думаешь – а может, они правы. Никогда в жизни я не чувствовала то, что чувствую теперь: это не ненависть или скорбь по отдельности, это их смесь, а порой (поверьте!) к ним присоединяются сочувствие и огорчение, и я ничего не понимаю, хуже того, бывает, что без всяких чувств, всего лишь не понимаю.
3.10.69
Еду в автобусе одна. Вчера вечером ко мне в гостиницу «Коста-Рика», где мы остановились, явился один аргентинец и, хотя он дурак, оказал мне большую услугу. Он пришел покупать одежду (мы кое-что продаем, но денег тут нет ни у кого) и повел меня к своей группе – два швейцарца, чилиец и парочка из Канады. Вначале минута недоверия, расспрашиваем, прощупываем друг друга, чтобы выяснить, насколько можно доверять новым знакомым, потом один из швейцарцев мне рассказал, как обстоят дела на границе с Мексикой и как на границе с Гватемалой. Я ему не поверила, тогда он показал мне свой паспорт и свою шевелюру. У него были виза, письмо от швейцарского консула и 80 долларов. В Гватемале у них осталось денег на три дня, но кое-как обошлись (он тоже направляется в Соединенные Штаты), но таможенники на границе с Мексикой решили, что волосы у него чересчур длинные (а они намного короче, чем у вас) и что он должен предъявить 100 долларов. Представляешь, как чувствует себя человек, после долгих месяцев странствий добравшийся до Мексики, ему только проехать Мексику, и он уже в Штатах, а его не пропускают? Так себя чувствую и я. Его визу объявили недействительной, его самого поколотили и приказали вернуться в Гватемалу. И вот он дней двадцать колесит по Центральной Америке, пытаясь убедить кого-нибудь одолжить ему денег, только чтобы пересечь границу. И все это потому, что он, возможно, хиппи. Им известно, что у хиппи с деньгами туго, так они вдобавок ко всему придумали фокус с возвращением денег. Ты должен предъявить свои деньги, и, если чуть зазеваешься, их у тебя крадут, и это уж твоя беда. И не задавай мне вопросов вроде того, зачем нам странствовать или зачем в Штаты (кто больше, кто меньше, мы все хотим в Калифорнию). Почему нас ненавидят, не знаю, наверно, потому, что мы от них отличаемся и можем быть счастливыми. Вот они и стараются сделать нас несчастными! Я пыталась сближаться с самыми бедными людьми в каждой стране и от Колумбии до здешних мест встречала только насмешки, презрение, ненависть. А другой слой, интеллектуалы и «артисты», иногда помогают, но с опаской и тревогой о своем холодильнике, сразу спрашивают: но вы же не такие, как эти распутные и грязные гринго? Правда? Ты же меня не втянешь в какой-нибудь скандал, правда? Они по уши погрязли в своем истеблишменте [16] и забыли о единственно важном: о жизни, о мысли и о том, о чем мы столько раз говорили, Пеле, и о чем, я знаю, ты, Лусио, никогда не забываешь. Так что теперь я уже окончательно еду в Сан-Франциско к своим родным слушать музыку и рисовать, и прежде всего потому, что хочу жить не как винтик, а как живое существо, среди своих близких, хочу завтракать пусть черным хлебом, но поднесенным с любовью, и хочу свой разум, и свое тело, и свою жизнь открыть жизни. Точка.
Итак, вчера вечером мы решили снова разделиться – еще в Коста-Рике мы обнаружили, что так легче пересечь границу, и сегодня я еду в Сальвадор одна и постараюсь получить [неразборчиво]. Расскажу вам один эпизод. Джон помог мне нести чемоданы. Мой автобус отправлялся в пять утра, и мы спали с включенным светом, потому что в гостинице никто не пожелал нас разбудить и одолжить будильник, – они, понимаете, увидели наши вещевые мешки, а «гринго» (теперь уже и нас, аргентинцев, называют «гринго») опасные люди. Перед выходом мы с Анхелес сделали Джону его повязку, но все мы были очень сонные. Разделили деньги Анхелес – у меня и у Джона было не больше пяти-шести долларов у каждого – и отправились – я на мой автобус, выходящий в 5 часов, Анхелес на свой, выходящий в 6 часов в Коста-Рику, а Джон оставался еще на день, надеялся получить работу на судне, чтобы таким образом перебраться в США. В агентстве какая-то женщина, приняв Анхелес за здешнюю никарагуанку сказала: Не кажется ли вам, что это парень из той компании хиппи? По-моему, космы у него со всех сторон лезут. Анхелес предупредила нас на английском, и мы вышли из конторы, Джона уже начали оскорблять, Какой-то тип принялся говорить Анхелес сальности, а на меня здесь в автобусе все смотрят косо, и каждый раз, когда кто-то проходит мимо меня, я слышу, как бормочут: свинство [неразборчиво], подонки, darling [17] и тому подобное… В Коста-Рике мы, только приехав, были еще неопытные и держались вместе, а этого не надо было делать, в другой раз опишу наши тамошние злоключения. Вдруг я обнаружила, что в этом автобусе едет аргентинец. Так странно услышать между Манагуа и Гондурасом характерный акцент Родины. Тип этот с претензиями, толкует о Яне Кипуре и Палито Ортеге. Дорога сплошь по болоту, грязь брызжет во все стороны. Но пейзажи красивые, по горам ползут тучи, вот и солнышко показалось наконец, и я потратила свои последние кордовы на [неразборчиво] со сластями. Жизнь – это смесь, и она goes on, sometimes too much for me to take. I love you both [18] искренне, с большой любовью, и скучаю по вас,
Сарита.
3.10.69.
Сан-Сальвадор
На эту ночь я получила кровать (походную раскладушку), которую мне устроил директор студии теленовостей Сан-Сальвадора. Смогу поспать и принять ванну. И кроме того, этот господин [неразборчиво] рассказал мне, что он на какой-то дискуссии защищал хиппи и что его не смущает, что я ношу штаны, и что он любит всех ближних своих. Goes on, правда? Целую, целую, Сарита.
6 октября 1969
Сан-Сальвадор – Сальвадор
… что отнюдь не легко в той сложной эмоционально-ментально-физически-психологической ситуации, в которой я оказалась. Мне не удается, не получается, я не справляюсь, я не в состоянии понять мир. Я имею в виду не проблему метафизических ценностей. Нет, это проблема невыносимого убожества и разложения. В другой раз я напишу Лусио, просто чтобы рассказать, что собой представляют лагеря сальвадорских беженцев, высланных из Гондураса, – как их принимает родина, – и множество самых разнообразных болезней, которые здесь можно обнаружить. Я работаю как доброволец Международного Красного Креста, и не потому, что очень уж верю в помощь, оказываемую индивидуально, но просто потому, что когда никто ничего не делает, кто-то же должен помогать умножать население, правда? Заодно я научилась дружить со всеми, и сочувствие и скорбь, любовь и огорчение, которые я испытываю, – это уже некоторый «релакс» [19], как здесь говорят. Я потрясена, я не понимаю, но об этом я уже писала в других письмах. Сейчас занята изменением своего облика, что мне поможет в дальнейших поездках, и часть заработанных здесь долларов потрачу именно на это. у меня есть полный список обвинений, по которым я в Коста-Рике едва не угодила в тюрьму, им я руководствуюсь, чтобы исправить свои прегрешения: перво-наперво надо избавиться от торбы, освободиться от книг, особенно от книг на английском. Не помню, писала ли я, что однажды мне пришлось прибегнуть к словарю Эплтона-Куйаса, с которым я не расстаюсь, чтобы убедить одного капитана в сильном подпитии, мужчину хоть куда, че, что «Alice in Wonderland» [20] – это не коммунистическая пропаганда, но никто, даже англо-испанский Эплтон, не мог его убедить, что эта книжка не входит в ассортимент распутного образа жизни хиппи. Итак, избавиться от штанов, носить нижнюю юбку ниже колен, подбирать волосы, никаких украшений, и при всем при том я все равно буду особой подозрительной – то ли из-за своей «грингов-ской» внешности, то ли потому, что имею привычку спрашивать разрешения, когда куда-то вхожу. Но так я, по крайней мере, не буду подвергаться оскорблениям на улице, в меня не будут швырять камни и тому подобное. Да, со всех сторон я на подозрении. Одни считают меня шпионкой «Юнайтед фрут компани», другие, что я подослана Кастро (о ужас!), третьи – что перевожу наркотики. Как бы то ни было, твоя телеграмма спасла мне жизнь – продать уже почти нечего, денег тоже нет, но ждать денежного перевода – это сладостное ожидание, совсем не то, что отчаянные попытки собрать деньги для переезда через границу, когда заранее знаешь, что ничего не выйдет, что ничего не сделаешь […]. Боже мой, как часто я всех вас вспоминаю! Я чувствую себя так, словно бреду по топкой грязи огромной свалки, а теперь, о счастье, скоро выберусь, выберусь!
– Когда они отравились снотворным и кажется, будто они только что с танцульки, тогда, конечно, иной раз взыграет ретивое, в конце-то концов, это неплохой способ дать курносой пинка под зад, не позволить ей измываться над бедняками, – потому и стараешься, старик, прибираешь их, обмываешь, и вот, когда их хорошенько прилижешь, лежат они, лапушки, ей-ей, не хуже тех, кто издох у себя дома или в главной клинике с помощью Пречистой и эскулькторов; что ни говори, нет такого закона, чтобы мои голышики, пусть они иногда совсем еще молоденькие, считались как бы вторым сортом, мякиной какой-то, ты ж понимаешь, я имею в виду, что им просто не повезло, выражаясь суперфигурально и архинаучно.
– Опять, че! – говорит Маркос с досадой то ли из-за Лонштейна, то ли номер у него занят.
– Да пусть его! – говорю я. – Он целый век так не расслаблялся. Когда бешеный конь понесет, надо скакать с ним рядом, будем милосердны.
– Ты прямо как мать родная, – говорит Лонштейн, явно довольный. – Я, знаешь, вроде тех классических палачей, которые становились невротиками, потому что никому, кроме как своей не менее классической дочери, не могли рассказывать о деталях пыточнодыбия и четвер-то-колесования; ты ж понимаешь, в бистро у Марты я не стану распускать язык, как говорят мои копэны [11], и это обрекает меня на молчание, не говоря о том, что я холостяк и чистонанист и у меня нет иного способа изливержения, кроме монолога, да еще ватерклокнота, где я иногда дефесказываюсь и душеиспускаюсь. Беда в том, как я уже тебе сказал, что на меня навалили работы вдвое под предлогом, что будут платить вчетверо больше, а я и согласись, никогда толком не подумаю, и теперь, кроме инсти, у меня еще и госпи. Сплошные индусы, была, правда, лавина чехов, но теперь одни индусы мейд ин Мадрас, слово чести.
– Что еще за индусы? – говорит Маркос.
– Похищенные с погребального костра, – настаивает Лонштейн, – и герменевтически укупоренные в нумерованные контейнеры с указнадписью насчет пола и возраста, как там устраиваются с этим рэкетом, один бог знает, но я думаю вскоре торговцы дровами для кремации в Бенаресе поднимут бучу, вроде калькуттского бунтежа, о котором мы учили в Национальном институте в Боливаре, провинция Буэнос-Айрес, помнишь, нам еще читал зануда Кансио, знаменитый наш проф – о ностальхолия, о восторкование!
– Ты хочешь сказать, будто импортируют трупы индусов для вскрытия? – говорит Маркос, начиная интересоваться. – Иди рассказывай дуракам, пустобрех.
– Святусь тебе самым клянтым, – говорит Лонштейн. – Мне и хромому Тергову вменяется в обязанность вскрывать контейнеры и готовить товар для ночи длинных ножей – по четвергам и понедельникам. Тут, видите ли, один из многих отрицанаучных элементов, о которых хромой и я тихомалкиваем, потому что профы желают одного – подавай им сырье в состоянии интегральной голонаготы.
Он вытаскивает из кармана бумажный цветок на проволочном стебле и бросает в Маркоса, тот, вскочив из кресла, разражается бранью. Я начинаю подумывать, что надо бы их потихоньку подтолкнуть к выходу – нехорошо заставлять Патрисио и Сусану ждать до часа ночи, а теперь уже пять минут второго.
* * *
По всем этим причинам идея, что абсурд – это всего лишь предыстория человека, как считает мой друг и многие другие, а также по причине летающих вокруг лампы козявок – а это один из способов отвечать на абсурд (по сути, homo faber [12] означает то же самое, но есть столько фаберов номер один, два и три, утонченных или тупиц, целомудренных или кастрированных), по всем этим причинам и сходным с ними наступит момент, когда мой друг сочтет, что набралось уже достаточно жуков, комаров и мамборета, отплясывающих безумный, хотя и весьма впечатляющий джерк вокруг лампы, и тогда – продолжая метафору – он вдруг погасит ее, мгновенно заморозит некое определенное расположение всех козявок, сидящих спокойно или движущихся, – внезапно лишенные света, они застынут в последнем взгляде моего друга в тот миг, когда он погасит лампу, – так что самый крупный мамборета, летавший высоко над лампой, окажется симметрично противоположен красной фалене, вычерчивавшей свой эллипс под лампой, и так, в некоей последовательности, различные назойливые летние козявки примут облик неподвижных, окончательно замерших точек в картине, которая, будь света на секунду больше или меньше, оказалась бы совершенно иной. Кто-то назовет это выбором – в их числе будет мой друг, а кто-то назовет случаем – в их числе будет мой друг, – потому что мой друг твердо знает, что в некий данный миг он погасил лампу и сделал это потому, что решил это сделать в этот миг, не раньше и не позже, но он знает также, что соображение, побудившее его нажать на кнопку выключателя, рождено не каким-либо математическим расчетом и не мыслями о пользе, а просто возникло из нутра, нутро же – это понятие весьма смутное, о чем известно всякому, кто влюбляется или играет в покер в субботние вечера.
* * *
– Ну что, продолжим еще немного, покажем, что ожидает этого трансандийца, если он не будет безвылазно сидеть в своем отеле?
– Да ладно, я уже понял, – говорит Фернандо.
– Нет, нет, у тебя в глазах еще светится что-то, о чем сказано в одном из лучших наших стихотворений, или же этот мате, который ты пьешь, наполнен злосчастными иллюзиями. Therefore [13], Сусана, переведи это сообщение в двух колонках, которое Моника тебе передала вместе с мате.
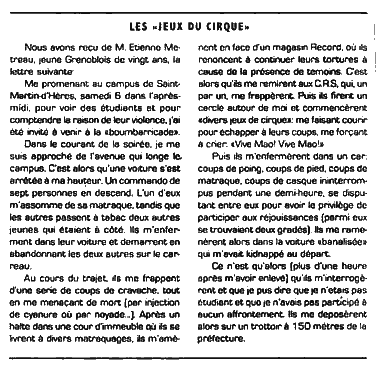
– Вы мне уже осточертели, я с вас потребую таксу ЮHECKO за переводы на дому, – огрызнулась Сусана. – На днях мне приглянулась модель у Доротеи Бис и, если ты будешь скупиться, возьму и куплю себе два таких платья, как подсказывает подсознательно фамилия хозяйки магазина, вот, наверно, толковая дама. «Цирковые игры», это заголовок. Мы получили следующее письмо от Этьена Метро, молодого человека двадцати лет, жителя Гренобля, двоеточие. В субботу 6-го под вечер, когда я прогуливался по кампусу Сен-Мартен-д'Эр, чтобы посмотреть на студентов и понять причину их насильственных действий,
Разрешите мне здесь улыбнуться – уж если он еще не понял причины их насильственных действий, это почти оправдывает то, что приключилось с беднягой Этьеном.
меня пригласили присутствовать при «бум-баррикаде». Когда стемнело, я подошел к шоссе, у которого расположен кампус. Рядом со мной останавливается машина. Из нее выходят семь каких-то личностей, целый отряд.
Эта смена глагольного времени звучит немного жестковато. – Хватит тебе комментировать, детка, – говорит Патрисио.
Один из них
Вот и здесь, видите, от «личностей» в женском роде мы перешли к «одному из них», уж, конечно, мужчине и с дубинкой. Ну что это за язык, вы должны платить мне вдвое больше, не то бензин кончится.
обрушивает на меня удар дубинкой, а остальные колотят двух парней, оказавшихся по соседству. Меня затаскивают в машину и увозят, а те двое остаются лежать на земле. Во время поездки меня избивают ремнями и угрожают прикончить (либо впрыснут цианистый калий, либо утопят). Машина останавливается во дворе какого-то дома, где меня продолжают избивать дубинками,
тут я должна сказать, что не ясно, били только одного Этьена или же в том дворе были и другие, которым тоже досталось,
затем подводят к магазину фирмы «Рекорд», где перестают истязать из-за присутствия свидетелей. И тут меня передали в руки молодчиков из службы безопасности,
вот опять меняется время глагола, видно, эти ребята начитались Мишеля Бютора, но, конечно, без пользы для их нравственности,
которые принялись меня избивать поочередно. Затем они стати в круг и начали «цирковые игры» – гоняли меня тумаками и заставляли кричать «Да здравствует Мао! Да здравствует Мао!». Затем меня заперли в тюремной машине: там тоже тумаки, пинки, удары сапогами, полчаса без перерыва, причем они спорили между собой за право участвовать в развлечении (среди них были два офицера). После чего меня опять повезли в «замаскированной» машине, в которой забирали из кампуса. Только теперь (более чем через час после задержания) меня допросили, и я смог им сказать, что я не студент и не принимал участия ни в каких стычках с полицией. Тогда меня просто выбросили на мостовую в ста пятидесяти метрах от полицейской префектуры. Теперь я нахожусь в больнице с травмой черепа (во время «приключения» я три раза терял сознание). Точка.
– Вот видишь, чилийчик, – сказал Патрисио. – И этот парень, он французский гражданин, а ты себе представляешь, окажись он каким-нибудь метеком из Осорно или Темуко, например, ай-ай-ай, и не воображай лучше.
– Ну что ж, во всяком случае, их тут не убивают, как в Гватемале или в Мексике.
– Или в Кордове, или в Буэнос-Айресе, дорогуша, не отнимай у моей страны ее законных привилегий. Конечно, пока еще не убивают, но не потому, что не хотят, просто имеется некая шкала ценностей, и по этой шкале еще не дошло до расстрелов, потому что существуют тяжелая индустрия, международные отношения, фасад, который надо оберегать. Детка, мне сдается, что твой сын хнычет, где же этот хваленый материнский инстинкт, эти сказки, выдуманные вами же, чтобы мы по крайней мере не лезли в критическую зону колыбели.
– И очень правильно, любовь моя, потому что всякий раз, когда на вас находит приступ нежности, вы норовите колыбель опрокинуть. Твой сын, – добавляет Сусана, показывая ему язык, – он говорит так, будто он в ту ночь был в кино, а не в постели.
– А ты уверена, что я был в постели, а не валялся на коврике в ванной? – сказал Патрисио, обнимая ее за плечи и запрокидывая назад, пока ее затылок не коснулся пола, – любовная игра, на которую Фернандо смотрел со смущением. А они, точно забыв о нем, целовались, щекотали друг друга и как будто забыли, что Мануэль все прибавляет децибелы своего хриплого возмущенного рева. Натурально, что именно в этот момент, когда возня была в самом разгаре, должен был зазвонить звонок. Фернандо немного подождал, но, так как Патрисио и Сусана скрылись и он слышат, как они успокаивают Мануэля хохотом и воплями, не уступающими взрывам рыданий дитяти, он решил на свой страх и риск открыть – акция всегда малоприятная, когда пришедшие друзья дома вдруг видят незнакомого и возникает момент неловкости, – все держатся весьма благовоспитанно, но каждый спрашивает себя, что за черт, не ошибся ли я квартирой, в два часа ночи башка немного того, но вот все выясняется, и от фазы выяснений, времени устных объяснений переходят к рукопожатиям и представлениям, но всегда после общего недоумения, неудачного начала церемонии остается привкус, наносящий ущерб всей литургии, – облатка совпала с приступом кашля и превратилась в мучнистую кашицу, в общем, во что-то внесерийное, как иные экземпляры автомобилей, и в довершение беды Лонштейн, представляясь, сказал: «Я гранджуирую знакомством», фраза, которую Фернандо принял за французскую, да не стойте же на пороге, проходите, пожалуйста, и мы вошли и не ошиблись, это была квартира Сусаны и Патрисио, потому что с порога пошло о Мануэле да всякие «как поживаете».
* * *
Возможно, что нескончаемые разговоры о протесте, который они называли сопротивлением, слегка действовали ему на нервы; возможно, что письма Сары появились просто по словесной ассоциации или из чистого удовольствия появиться внезапно (почему бы памяти не иметь своих причуд, своих приливов и отливов, наглости выдавать или отказывать под влиянием каприза или же гула голосов вокруг?), во всяком случае, мой друг на какое-то время задумался об этих письмах, меж тем как Маркос комментировал или критиковал самые недавние формы сопротивления в пределах Парижа. Письма приходили в то время, когда один знакомый Сари жил у моего друга, у которого провал месяц до возвращения в Аргентину; уезжая, он их оставил, потому что они отчасти предназначались и моему, ругу, хотя он уже десять лет не видел Сару, которая в Европу никогда не приезжала, – последнее его воспоминание о ней была кофейная ложечка, рука Сары медленно крутит ложечкой, точно боясь повредить кусочек сахара или кофе, – все это в три часа дня в кафе на улице Майпу.
В те дни, когда Маркос и Патрисио и все прочие из нашей бражки готовили Бучу, мой друг, вероятно, понял, что хотя бы Маркос достоин ознакомиться с письмами Сары, и он дал их ему почитать однажды вечером, пока Маркос ждал важных сообщений по телефону (Маркос ждал, а Лонштейн и мой друг, как всегда, присутствовали – неразлучный с Маркосом и отчужденный раввинчик и мой друг – тоже, но в меньшей степени; они также помешивали сахар в чашечках, но отнюдь не бережно). Я пришел, когда Маркос читал письма, и меня задело, что мой друг, по мере того как Маркос прочитывал письма, забирал их, даже не извиняясь, что оставляет как бы в стороне Лонштейна и меня, хотя какое, к черту, нам до них дело, дело-то есть, но какого черта стали бы мы признаваться. Что ж, во всем этом нет ничего нового, заметил Маркос, так же, как с несчастным случаем – производит впечатление, если касается твоей тети. Дай взглянуть на почерк, сказал Лонштейн, содержание меня не интеревлекает. Письма были уже в кармане у моего друга, он ограничился тем, что согласился с замечанием Маркоса. Было это не из недоверия к Лонштейну, но скорее из-за того, что письма эти не годились быть предметом его графологических коньков, – маятник лучечувствительности и некая весьма раздражающая психоспелеология, которые он применял, основываясь на типе бумаги и чернил, на отступах между словами и строчками и даже на том, как наклеена марка; что до Андреса, ему-то почему не дал прочесть письма, видимо, тут было смутное раздражение, подозрение, что Андреса, сравнительно с Маркосом и Лонштейном, они бы заинтересовали по другим причинам, он захотел бы узнать больше, перенести в некотором роде образ Сары и историю в это кафе на улице де Бюсй, не имеющее ничего общего с кафе на улице Майпу. Таков уж он был, мой друг, по мере своей власти он вел игру по своему произволу, и его даже забавляла эта метафора – поскольку речь шла о письмах, – что в этот вечер они будут предоставлены только Маркосу, хотя в них не было ничего, связанного напрямую с Бучей. Что ж до него самого, обычно выбрасывающего письма, то письма Сары он не только сохранил, но иногда их перечитывал, хотя отвечать и не думал. Во-первых, это были письма, требовавшие не ответа, а скорее какого-то поступка; к тому же он бы предпочел снова увидеть Сару, овал ее лица – самое яркое его воспоминание наряду с голосом и кофейной ложечкой, да еще с ее пристальным и ясным взглядом. 2 октября 1969 года Сара писала: дорогие, у меня для вас целая длинная история [14]. Длинная, путаная (возможно, даже забавная, хотя мне теперь таковой не кажется), и озаглавить ее можно было бы «Сара, или Печальные приключения добродетели в Центральной Америке». Конечно, вначале надо было бы написать первую часть истории: «Как Сара добирается до Центральной Америки through the Canal Zone [15] в Панаме». От одной мысли, что придется все это описывать, мне становится скучно, посему лучше я просто приведу одно письмо, как оно есть.
Первый шок был для меня в (…). Пепе, твои друзья, эти X., – люди «порядочные». Ты знаешь, что это такое? Это значит, что у нас негде тебя поместить, моя дорогая, – и дело вовсе не в том, что негде или что они дурные люди. Они замечательные, но из другого мира, другого поколения, другого мышления, другой манеры существования, всего – другого. Пепе, Лусио, не знаю, правда ли это, но я уверена и, после всего, что произошло (в Коста-Рике меня чуть не засадили в кутузку), все более проникаюсь уверенностью, и дело в том, что… Простите, пишу бессвязно, – потому что здесь, в Манагуа, нас трое в одной комнате. Пожалуй, стоит это описать. Анхелес – панамская негритянка, я это я, а Джон – американец. Мы сказали, что мы – родня, а так как разговариваем мы на гнусном винегрете из английского, арго разных стран и испанского (я теперь – с перуанским акцентом) и, кроме того, на нас на всех лежит некий неощутимый налет нашего обычного окружения – который «прочие» вмиг ощущают и который вроде семейного сходства, – то нам поверили. «Прочие» нас объединили. И хотя вы, милостивые судари, и не поверите, но каждый из нас в этот день решил, что уже по горло сыт всем.
Что значит «всё»? «Всё» – это вот что: что люди на улице над нами смеются, что на нас указывают пальцами, что нас оскорбляют и, честное слово, в Джона кидали камнями, а я научилась давать оплеухи, а Анхелес начинает вопить – словом, обороняемся, как можем. Это не трагедия, но иногда мы плачем, правда, лишь потому, что думали раньше, что здесь жизнь отличается, или что мы не будем так отличаться, или потому, что не понимаем, за что нас ненавидят.
Итак, каждый по своим причинам сегодня решил, что озеру в Манагуа мы говорим «нет», и странствиям пешком «нет», и точка. Сидим в комнате, очень жарко, иногда идет дождь, завтра отправляемся в Сан-Сальвадор, где будет то же, что здесь; я стараюсь раздобыть одежду, Джон выходит из дому с потрясающим шарфом, которым мы утром обвязываем ему шею, чтобы спрятать его космы, а Анхелес (она никуда не выходит) хочет возвратиться в Панаму, чтобы собрать деньжат и попытать счастья в какой-нибудь яругой стране. Мне кажется, в Мексике должно быть по-другому, но сведения от приезжающих оттуда ужасные. Да, я забыла, дело в том, что в тех странах, где царят нищета, проституция, где болезни и ненависть сокращают твою жизнь, принялись наводить чистоту – во имя морали, религии и закона. Долой хиппи! Неряхи, наркоманы, преступники. Так рассуждают таможенники и политики, а как население – я не знаю. Не понимаю. Но они ненавидят меня, ненавидят нас, мне пришлось спрятать все мои побрякушки, я должна подбирать волосы, я попыталась найти другой вещевой мешок, он тоже оскорбляет их взор: только увидят мой мешок, сразу грубо его открывают, все выбрасывают, туфли, грязное белье, бусы, мате и бомбилью, расшвыривают как попало и обыскивают меня всю, ведь мало того, что я хиппи, я, возможно, еще и партизанка. И, в конце концов, как получишь столько колотушек во имя Разума, Морали и всего прочего, что они себе навоображали, так думаешь – а может, они правы. Никогда в жизни я не чувствовала то, что чувствую теперь: это не ненависть или скорбь по отдельности, это их смесь, а порой (поверьте!) к ним присоединяются сочувствие и огорчение, и я ничего не понимаю, хуже того, бывает, что без всяких чувств, всего лишь не понимаю.
3.10.69
Еду в автобусе одна. Вчера вечером ко мне в гостиницу «Коста-Рика», где мы остановились, явился один аргентинец и, хотя он дурак, оказал мне большую услугу. Он пришел покупать одежду (мы кое-что продаем, но денег тут нет ни у кого) и повел меня к своей группе – два швейцарца, чилиец и парочка из Канады. Вначале минута недоверия, расспрашиваем, прощупываем друг друга, чтобы выяснить, насколько можно доверять новым знакомым, потом один из швейцарцев мне рассказал, как обстоят дела на границе с Мексикой и как на границе с Гватемалой. Я ему не поверила, тогда он показал мне свой паспорт и свою шевелюру. У него были виза, письмо от швейцарского консула и 80 долларов. В Гватемале у них осталось денег на три дня, но кое-как обошлись (он тоже направляется в Соединенные Штаты), но таможенники на границе с Мексикой решили, что волосы у него чересчур длинные (а они намного короче, чем у вас) и что он должен предъявить 100 долларов. Представляешь, как чувствует себя человек, после долгих месяцев странствий добравшийся до Мексики, ему только проехать Мексику, и он уже в Штатах, а его не пропускают? Так себя чувствую и я. Его визу объявили недействительной, его самого поколотили и приказали вернуться в Гватемалу. И вот он дней двадцать колесит по Центральной Америке, пытаясь убедить кого-нибудь одолжить ему денег, только чтобы пересечь границу. И все это потому, что он, возможно, хиппи. Им известно, что у хиппи с деньгами туго, так они вдобавок ко всему придумали фокус с возвращением денег. Ты должен предъявить свои деньги, и, если чуть зазеваешься, их у тебя крадут, и это уж твоя беда. И не задавай мне вопросов вроде того, зачем нам странствовать или зачем в Штаты (кто больше, кто меньше, мы все хотим в Калифорнию). Почему нас ненавидят, не знаю, наверно, потому, что мы от них отличаемся и можем быть счастливыми. Вот они и стараются сделать нас несчастными! Я пыталась сближаться с самыми бедными людьми в каждой стране и от Колумбии до здешних мест встречала только насмешки, презрение, ненависть. А другой слой, интеллектуалы и «артисты», иногда помогают, но с опаской и тревогой о своем холодильнике, сразу спрашивают: но вы же не такие, как эти распутные и грязные гринго? Правда? Ты же меня не втянешь в какой-нибудь скандал, правда? Они по уши погрязли в своем истеблишменте [16] и забыли о единственно важном: о жизни, о мысли и о том, о чем мы столько раз говорили, Пеле, и о чем, я знаю, ты, Лусио, никогда не забываешь. Так что теперь я уже окончательно еду в Сан-Франциско к своим родным слушать музыку и рисовать, и прежде всего потому, что хочу жить не как винтик, а как живое существо, среди своих близких, хочу завтракать пусть черным хлебом, но поднесенным с любовью, и хочу свой разум, и свое тело, и свою жизнь открыть жизни. Точка.
Итак, вчера вечером мы решили снова разделиться – еще в Коста-Рике мы обнаружили, что так легче пересечь границу, и сегодня я еду в Сальвадор одна и постараюсь получить [неразборчиво]. Расскажу вам один эпизод. Джон помог мне нести чемоданы. Мой автобус отправлялся в пять утра, и мы спали с включенным светом, потому что в гостинице никто не пожелал нас разбудить и одолжить будильник, – они, понимаете, увидели наши вещевые мешки, а «гринго» (теперь уже и нас, аргентинцев, называют «гринго») опасные люди. Перед выходом мы с Анхелес сделали Джону его повязку, но все мы были очень сонные. Разделили деньги Анхелес – у меня и у Джона было не больше пяти-шести долларов у каждого – и отправились – я на мой автобус, выходящий в 5 часов, Анхелес на свой, выходящий в 6 часов в Коста-Рику, а Джон оставался еще на день, надеялся получить работу на судне, чтобы таким образом перебраться в США. В агентстве какая-то женщина, приняв Анхелес за здешнюю никарагуанку сказала: Не кажется ли вам, что это парень из той компании хиппи? По-моему, космы у него со всех сторон лезут. Анхелес предупредила нас на английском, и мы вышли из конторы, Джона уже начали оскорблять, Какой-то тип принялся говорить Анхелес сальности, а на меня здесь в автобусе все смотрят косо, и каждый раз, когда кто-то проходит мимо меня, я слышу, как бормочут: свинство [неразборчиво], подонки, darling [17] и тому подобное… В Коста-Рике мы, только приехав, были еще неопытные и держались вместе, а этого не надо было делать, в другой раз опишу наши тамошние злоключения. Вдруг я обнаружила, что в этом автобусе едет аргентинец. Так странно услышать между Манагуа и Гондурасом характерный акцент Родины. Тип этот с претензиями, толкует о Яне Кипуре и Палито Ортеге. Дорога сплошь по болоту, грязь брызжет во все стороны. Но пейзажи красивые, по горам ползут тучи, вот и солнышко показалось наконец, и я потратила свои последние кордовы на [неразборчиво] со сластями. Жизнь – это смесь, и она goes on, sometimes too much for me to take. I love you both [18] искренне, с большой любовью, и скучаю по вас,
Сарита.
3.10.69.
Сан-Сальвадор
На эту ночь я получила кровать (походную раскладушку), которую мне устроил директор студии теленовостей Сан-Сальвадора. Смогу поспать и принять ванну. И кроме того, этот господин [неразборчиво] рассказал мне, что он на какой-то дискуссии защищал хиппи и что его не смущает, что я ношу штаны, и что он любит всех ближних своих. Goes on, правда? Целую, целую, Сарита.
6 октября 1969
Сан-Сальвадор – Сальвадор
… что отнюдь не легко в той сложной эмоционально-ментально-физически-психологической ситуации, в которой я оказалась. Мне не удается, не получается, я не справляюсь, я не в состоянии понять мир. Я имею в виду не проблему метафизических ценностей. Нет, это проблема невыносимого убожества и разложения. В другой раз я напишу Лусио, просто чтобы рассказать, что собой представляют лагеря сальвадорских беженцев, высланных из Гондураса, – как их принимает родина, – и множество самых разнообразных болезней, которые здесь можно обнаружить. Я работаю как доброволец Международного Красного Креста, и не потому, что очень уж верю в помощь, оказываемую индивидуально, но просто потому, что когда никто ничего не делает, кто-то же должен помогать умножать население, правда? Заодно я научилась дружить со всеми, и сочувствие и скорбь, любовь и огорчение, которые я испытываю, – это уже некоторый «релакс» [19], как здесь говорят. Я потрясена, я не понимаю, но об этом я уже писала в других письмах. Сейчас занята изменением своего облика, что мне поможет в дальнейших поездках, и часть заработанных здесь долларов потрачу именно на это. у меня есть полный список обвинений, по которым я в Коста-Рике едва не угодила в тюрьму, им я руководствуюсь, чтобы исправить свои прегрешения: перво-наперво надо избавиться от торбы, освободиться от книг, особенно от книг на английском. Не помню, писала ли я, что однажды мне пришлось прибегнуть к словарю Эплтона-Куйаса, с которым я не расстаюсь, чтобы убедить одного капитана в сильном подпитии, мужчину хоть куда, че, что «Alice in Wonderland» [20] – это не коммунистическая пропаганда, но никто, даже англо-испанский Эплтон, не мог его убедить, что эта книжка не входит в ассортимент распутного образа жизни хиппи. Итак, избавиться от штанов, носить нижнюю юбку ниже колен, подбирать волосы, никаких украшений, и при всем при том я все равно буду особой подозрительной – то ли из-за своей «грингов-ской» внешности, то ли потому, что имею привычку спрашивать разрешения, когда куда-то вхожу. Но так я, по крайней мере, не буду подвергаться оскорблениям на улице, в меня не будут швырять камни и тому подобное. Да, со всех сторон я на подозрении. Одни считают меня шпионкой «Юнайтед фрут компани», другие, что я подослана Кастро (о ужас!), третьи – что перевожу наркотики. Как бы то ни было, твоя телеграмма спасла мне жизнь – продать уже почти нечего, денег тоже нет, но ждать денежного перевода – это сладостное ожидание, совсем не то, что отчаянные попытки собрать деньги для переезда через границу, когда заранее знаешь, что ничего не выйдет, что ничего не сделаешь […]. Боже мой, как часто я всех вас вспоминаю! Я чувствую себя так, словно бреду по топкой грязи огромной свалки, а теперь, о счастье, скоро выберусь, выберусь!
