Страница:
Некоторые соседи из числа тех, кто любит жуткие происшествия, обвиняют в преступлении Хосе Рейнальдо Нуньеса Фернандеса – он, мол, совершив убийство, убежал, а затем вернулся в 9 ч. 30 м., чтобы все его видели, – так он создавал себе алиби с целью запутать полицию.
С другой стороны, соседи указали, что мать и другие родственники Хосе Рейнальдо Нуньеса живут рядом с сараем, где обитает он, и, мол, очень странно, что никто не слышал криков о помощи или какого-либо шума, хотя оба строения практически соединяются.
Во всяком случае, дабы не попасться на удочку убийцы, карабинеры задержали Хосе Рейнальдо Нуньеса и посадили под арест, чтобы сегодня пораньше передать его судье по особо важным делам Педро Агирре Серде.
Район «гомиков»
«Район между улицами Санхон-де-ла-Агуада и Сан-Хоакин и улицей Сан-Альфонсо плюс три квартала к востоку кишит «гомиками», и, как вы сами видите, сеньор журналист, на всякую старуху бывает проруха».
Так сказал вчера корреспонденту «Hypo Чиле» житель этого района Мигель Анхель Дельгадо Ромеро, который поселился там недавно, но достаточно хорошо знает своих соседей.
– Уверяю вас, что убийца Маноло из здешних…
Он смотрит на улицу и указывает пальцем на двух странного вида типов направляющихся к жилищу убитого:
– Глядите! Эти два «гомика», что там идут, это Энрике и Негр, друзья покойного.
«Гомики» подходят к дому и, увидев, что там полно карабинеров и детективов, обмениваются следующими комментариями:
– Боже мой! Я, кажется, сейчас сойду с ума, да, да, сойду… Могла ли я подумать, что беднягу Маноло отправят на тот свет!
– И я тоже, и, если бы здесь не собралось столько настоящих мужчин, я бы ни за что не подошла сюда.
Затем, сообразив, что, если они слишком приблизятся к месту преступления, их могут задержать, оба повернули обратно, отчаянно вихляя бедрами… Ну и ну!
– Забавно, – сказал Маркосу Патрисио, – эта ночь получается совсем не такая, как я себе представлял, даже похищение Гада не такое. Всегда все происходит иначе, и очень хорошо, Сусанита, что ты вклеиваешь в книгу Мануэля сообщения, совершенно не связанные с тем, что ты думала, когда покупала этот синий альбом на улице Севр.
– Ты романтик, – сказал Эредиа, – но, говоря откровенно, я тоже воображал это похищение как цветной фильм со шпионами и драками, а тут, гляди, сидим при свече и вырезаем фигурки из бумаги, хотя, конечно, фильм еще не закончился. И покамест, чтобы дать Мануэлю кое-что посерьезней, дарю тебе, Сусана, вот эту заметку, не скрою, если ты прочтешь ее нашим блуждающим французикам, ты доставишь мне большое удовольствие в такой день, ох, долго я его ждал.
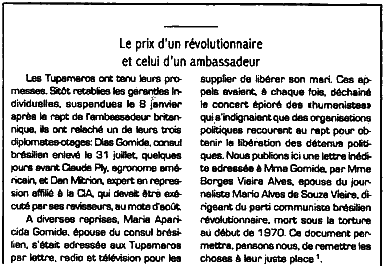
– Но ведь две колонки мелким шрифтом, – возроптала Сусана, – да еще при таком ужасном освещении, че. Ну ладно, освобождение бразильского консула, похищенного тупамаро, обращение его жены по радио и телевидению, безутешный хор лягушек-гуманистов, негодующих, что политические организации прибегают к похищениям, чтобы вызволить политзаключенных, – сказала Сусана железным тоном учительницы, подводящей к самому трудному пункту теоремы, тут еще напечатано письмо, полученное женой бразильского консула перед тем, как тупамаро возвратили ей мужа, вот оно: «Сеньора Апарасида Гомиде, Ваши страдания и страх известны всем. Пресса и радио ежедневно освещают Вашу драму: Ваш муж, дипломатический работник за рубежом, был похищен и, таким образом, оказался замешан в события политического характера. Сеньора, не одни Вы плачете. Однако о моем страдании и моем страхе не говорит никто. Я плачу в одиночестве. У меня нет Ваших возможностей заставить себя услышать, тоже сказать, что «сердце мое разрывается» и что «я хочу снова увидеть моего мужа». Ваш муж жив, с ним хорошо обращаются. Он вернется к Вам. Мой муж скончался от пыток, умерщвленный молодчиками Первой армии. Он был убит без суда и без приговора. Я потребовала выдать его тело. Никто меня не услыхал, даже Комиссия по защите прав человека. Я не знаю, что с ним сделали и куда выбросили. Его звали Марио Алвеш де Соуса Виэйра, он был журналист. Он был схвачен полицией Первой армии 16 января этого года в Рио-де-Жанейро. Его привели в казарму военной полиции, где жестоко избивали всю ночь, насаживали на зазубренный кол, сдирали кожу со всего тела металлической щеткой, потому что, он отказывался давать сведения, которых требовали палачи. Заключенные, приведенные в пыточное помещение, чтобы вымыть пол, весь в крови и экскрементах, увидели моего мужа в агонии, кровь лилась у него изо рта и из носа, он лежал на полу голый, задыхался, просил пить. Военные палачи, пересмеиваясь, запретили оказать ему хот малейшую помощь».
– Все понятно, – сказал Ролан, – зa va comme ?a [136].
– Ах нет, уж я закончу, – сказала Сусана, гневно посмотрев на него. – «Я знаю, сеньора, что Вам не понять моих страданий, ибо для каждого его горе больнее, чем горе другого. Но надеюсь. Вы поймете, что обстоятельства, приведшие к похищению Вашего мужа и гибели под пытками моего мужа, одни и те же; необходимо осознать, что насилие-голод, насилие-нищета, насилие-угнетение, насилие-отсталость, насилие-пытка ведут к насилию-похищению, к насилию-терроризму, к насилию-геррилье; и очень необходимо понять, кто более виновен в насилии – те, кто доводят людей до нищеты, или те, кто с нею борются. Ваше отчаяние и Ваше горе показывают, что Ваш муж был любящим главой семьи, что Вы страдаете из-за его отсутствия и что его жизнь для Вас драгоценна. Марио Алвеш также был любящим главой семьи, мне также его недостает. У него осталась дочь, которую он обожал; он был умен, образован, добр, он никогда никого лично не обидел. Он погиб из любви к угнетенным, к жертвам несправедливости, к тем, у кого нет голоса и нет надежды. Он боролся за то, чтобы огромные материальные и человеческие ресурсы нашей родины шли на благо всем. Горячо желаю, чтобы было достигнуто соглашение, желанное для Вас и для тупамаро. Подпись: Дилма Борхес Виэйра».
– Уже светлеет, – сказал Эредиа. – Бери клей, милочка, а я приготовлю для вас утренний кофе, самый вкусный, особенно когда его готовит бразилец.
Голос его звучал странно, был словно не его, также и походка, когда он, повернувшись спиной ко всем, почти побежал на
.Теперь надо пройти по мосту; это нетрудно, мост всего в нескольких метрах от отеля, город, как обычно, исподтишка обдает утренней суетой, небо серое, низкое, дождливое, запах горящей нефти, режут глаза афиши, этот цирк, каждую неделю меняющий рекламы – электроплиты, мебель в рассрочку, «рено», «филипс», агентства по продаже недвижимости, изъеденные временем образцы товаров, старинные порталы «Manufacture d'lnstrunents dе Chirurgie en Caoutchouc et Plastique» [137], вывеска «Отель Террасе», мост, ведущий на площадь Клиши, на другую сторону; ничего не стоит пройти через мост, две дорожки с перилами для пешеходов, от гибели под колесами их охраняют муниципальные постановления, штрафы и другие наказания; главное – пересечь улицу, следя за красным светом и зеленым светом; ощущение почему-то такое, словно худшее осталось позади, воплотившись в оплату счета и в чаевые на облезлой стойке; нет, конечно, было бы преувеличением сказать, что пройти по мосту обратно – это проблема.
Проснулись мы в половине десятого, шторы оберегали нас от рассвета и от шумов; голова не болела ни у Франсины, ни у меня, хотя бутылка из-под «Мартелля» валялась на полу брюхом кверху, выставив все свои пять звездочек; усталость, Франсина гладит мне шею и, ввернувшись клубком, говорит, что хочет есть и пить, телефон и поднос с завтраком, долгое стояние под душем, все, как всегда, начало нового, логичного, нормально предсказуемого дня жизни. Мне надо заменить мадам Франк до часу, давай побыстрей, надеюсь, здесь поблизости будет такси. Ну да, малышка, ты приедешь вовремя, в доходах твоей книжной коммерции ничего не изменится, я оставлю тебя, как цветочек, у входа, вот увидишь, ты продаешь кучу премированных романов и два-три словаря. Я искал ее глаза, голая, чистая, она сидела в изножье кровати, снова идеальная славная подруга, да, дистанция между ночью и утром у нее безупречная; я искал ее глаза, потому что в них, возможно, что-то подскажет мне путь, будет бакеном в море и передышкой, неким алиби, если когда-нибудь придется объяснять, почему я не прошел по мосту, почему не передал послание для Гарсиа. А ты, Андрес? спросила я, я должна была это спросить, потому что в том, как он искал моего взгляда, уже словно бы притаился ответ. Ладно, я-то не торгую книгами, сказал он, приподнимаясь в постели, чтобы достать сигареты, я только должен произвести учет этих последних часов, которыми тебе обязан, которые помогают, может, и не понять что-то, но, во всяком случае, помогают сдвинуться с места, пойти вперед, а остальное мало-помалу само образуется, как то велит божественная мудрость. Я не хочу, чтобы ты ушел так, сказала я, ты мне столько наговорил, теперь я вправе предположить, что ты сделаешь глупость. Видишь ли, малышка, я не знаю, что я сделаю, и, вероятно, в этом-то и состоит глупость. В общем, хоть одно я все же знаю, а именно это. Франсина поняла не сразу, оба голые, мы сидели на краю кровати, и, если исключить кровать, были вроде Адама и Евы в час изгнания из рая, погруженных в тьму и в прошлое, прикрывающих лица, чтобы не видеть дня, встающего над могилами там, внизу.
– Я не прошу у тебя прощения за происшедшее, детка, хотя это тоже форма такой просьбы, и ты не отрицай, не качай своей рыжей головой, ты меня щекочешь, и я засмеюсь, что в данных обстоятельствах не слишком достойно. Вчера вечером ты спросила, почему я хочу тебя унизить, и, возможно, после этой бутылки, после измывательств над твоей попкой и других, о коих ты помнишь, ты чувствуешь себя, как эта тряпка на краю биде: Позволь сказать тебе, что никто никогда не сделал для меня столько, в некоем смысле, который я сам едва понимаю, а тебе он показался бы неизлечимым безумием. К сожалению, трудно определить, есть ли тут какое-то равновесие, трудно определить, что я-то тебе дал с тех пор, как мы встретились вчера вечером в кафе, начиная с лицезрения мадам Антинеи, ты же ее помнишь, все, что я тебе говорил, все, что я никому, малышка, никому не говорил так, как тебе, ведь сверх всего было и другое, твоя кожа и твоя слюна, позволь, детка, сказать тебе только это, нет, я не унизил тебя, заставляя пить этот коньяк и насилуя, не унизил, все это смыл душ, все ушло, потому что я, конечно, тебя изнасиловал, детка, и, конечно, ты плакала, и, поспав часок, проснулась и обозвала меня подонком и садистом, и, говоря это, свернулась гусеницей, и пришлось начинать все снова, и это было так не похоже на прежнее – ты осознаешь, что не похоже? – а потом мы уснули сном праведников, и никаких кошмаров, и вот видишь, видишь, что у тебя в глазах, ты только взгляни в зеркало, детка, потом скажешь.
– Да, ты меня не унизил, – почти беззвучно сказала Франсина, – но ты-то, Андрес, что с тобой.
– Что ж, я уже говорил тебе, что ничего не понимаю, черное пятно все еще здесь, как вот эти шторы, но заметь, шторы-то мы раздвинем, как только ты прикроешь свои грудки, было бы жаль не увидеть такое пышное кладбище в панораме города, правда ведь, и, быть может, в какой-то миг пятно, точно шторы, отодвинется, и за ним будет не кладбище, а что-то другое, черт знает что, словом, что-то, и этим я обязан тебе, тебе и, конечно, мадам Антинее, не думай, что ты единственная спасительница.
– Дурень, дурень, почему ты смеешься, когда на самом деле ты… Нет, Андрес, дорогой, не скажу кто, уж не обижайся, и не трогай, пожалуйста, мой платочек, вот так.
Потом мы уже мало говорили, я смотрел, как она одевается, оделся сам, думая о Гарделе и о том, что настоящий мужчина не должен, и так далее. Она, не противясь, вышла на балкон, мы смотрели на нелепые надгробия, на это пошлое увековечение великого безобразия. Мне надо идти, почти сразу же сказала Франсина, мадам Франк наверняка меня ждет. Для нее, конечно, не было орла или решки, начинался новый нормальный день. Нормальный, сказал я, целуя ее так, как никогда раньше не целовал, какое слово, детка. Но она меня не поняла, для нее значение этого слова было так логично, в нем и магазин, и мадам Франк. Нет, для меня в Париже не было нормальных дней, как не было орла или решки для Франсины, грустно и молча входившей в кабину лифта, будто ее отсюда опустят прямехонько вниз, на кладбище. Да, знаю, ты будешь удручена, сказал я, гладя ее волосы, будешь плакать, тебе не преодолеть ни себя, ни меня, начинается еще один нормальный день, ты осталась цела и невредима в своей молочно-белой коже, в своей самодостаточной грусти, ты не захочешь понять смысл этой ночи, аминь.
– А ты, а ты.
– Вероятно, и я, по другую сторону моста ты и я будем такими, как всегда, у меня осталось достаточно честности, чтобы заподозрить, что комедиант выдумывает гибель мелкого буржуа, что он лишь воображает, будто, пройдя мост, окажется на другой территории.
– Ты уходишь?
– Ну, сперва я отвезу тебя домой, because мадам Франк, видишь, я ничего не забываю, а потом я помчусь к Лонштейну узнать, что удастся, по радио, не говоря о том, что в этом киоске мы купим газету, уже должны быть первые громы.
– Но потом.
– Потом – не знаю, детка, возможно, позвоню тебе, чтобы сходить вместе в кино, во всяком случае, идти домой я сейчас не намерен, в квартире тоскливо и грязно, на полу, наверно, валяются очистки лука и вещи Людмилы, я, детка, эстет, мелкий буржуа тщится умереть, но, сама видишь, по другую сторону моста разница не очень-то заметна. Так что вскоре я тебе позвоню, если только ты не надумаешь идти играть в теннис или что другое.
– Не звони мне, играть в теннис я не пойду, но ты не звони.
Он посмотрел на меня так, словно вдруг перестал меня узнавать; потом направился к газетному киоску и вернулся с сигаретой во рту и газетой, раскрытой на второй странице; показав мне сообщение, он подозвал такси. Лишь тогда я подумала, что в глубине души всегда отказывалась этому верить, а теперь вот заголовки ползли по смятому газетному листу, как муха по столику в кафе. Он даже не вышел из такси проститься со мной; его рука погладила мне волосы, но он не вынул изо рта прилипшую к губам сигарету. Как всегда, выдернет ее в последний момент и, ободрав до крови губу, ругнется.
– На улицу Камбронн, угол улицы Мадемуазель, – сказал Андрес, бросая газету на пол такси. Ехать к Лонштейну, может, и не следовало, что там делать, кроме как курить и пить. На углу он вышел из такси, дальше пошел пешком, делая крюк, чтобы сбить со следа любого, кто, быть может, засекает гостей раввинчика, и заглянул в бар на улице Коммерс как раз тогда, когда посетители слушали информацию о дерзком похищении ответственного за координацию латиноамериканских интересов в Европе, как определил его пост диктор при полном равнодушии слушавших, ждавших сообщений о погоде и о полуфинале чемпионата, вот это важно. Я спрашивал себя, дома ли Людмила, ничего не стоило позвонить, но Людмилы же нет дома, там только лук да пластинки Ксенакиса и Джонни Митчелл, которые я не успел послушать, кофе, и Ксенакис, и Джонни Митчелл, и кровать, соблазн, что и говорить, а через несколько кварталов, в одном из домов, наверно, Людмила, ведь Маркос не настолько безответствен, чтобы впутать ее в дело, которым была заполнена вторая страница «Фигаро», но Людмилы там, наверно, тоже нет, это от Маркоса не зависит, в любом случае, лучше всего пойти к раввинчику и послушать известия, подумав это, я, конечно, не двинулся с места, затем другое кафе, так как пять звездочек «Мартелля» давали о себе знать в области двенадцатиперстной кишки, вероятно, я даже вздремнул в этом уголке, где не было никого, кроме собаки да двух пенсионеров, день был долгий, нормальный, правительства в ответ на ультиматум похитителей объявят свое решение вскоре после полудня по французскому времени; тогда орел или решка, для Бучи орел и даже более того, невероятно, подумал Андрес, потягиваясь и доставая сигареты, как-то вдруг осознаешь, что это не так уж странно, но даже модно, это случается в каждой стране, не говоря о воздушных пиратах, не понимаю, как это может до сих пор удаваться, ну ясно, координатор латиноамериканских интересов это вам не пустяк, но допустим, что там не согласятся на обмен, допустим, что кончится срок, и тогда. Людмила наверняка дома, не может быть, чтобы. Тогда Маркос или Эредиа, они это сделают, или Ролан. Да, но потом и в этой стране. Люд. Наверно, спит дома, я должен. Да нет, я ее знаю, телефон будет звонить в пустой квартире, эти бесконечные звонки, эти спазмы в желудке. А если мне поехать в Веррьер, но это абсурд, я могу еще ухудшить их положение, а Людмила небось дома или у Лонштейна, играет с Мануэлем, единственно разумный выход – пойти к раввинчику, странно, но я чувствую себя, словно и не принимал душ, а все этот липкий, нормальный день, нет, надо быть глупцом, навоображать себе, что надо, мол, сделать учет, что будет орел или решка, ничего не изменилось, старик, черное пятно на месте, хотя бедная малышка, бедная малышка смотрела на кладбище, ох и сукин ты сын, Андрес Фава, столько раз было орел или решка, а потом мост, когда возвращались с ней под руку, и вот мы идем, нормальный день для обоих, хотя ты этого и не хочешь, к чему столько грязи и столько валянья в кровати, где твое ночное завещание, дурень с писаной торбой, где орел или решка, почему клейстер черного пятна приклеил тебя к этой обтрепанной табуретке, к другой чашке кофе с коньяком, которую ты немедля закажешь. – Чашку кофе и коньяк, – немедля заказал Андрес.
В книге Мануэля эта заметка была вклеена под довольно-таки загадочным названием: «Злоключения мальчика на побегушках», копирайт на которое, вероятно, принадлежал Маркосу.
Как можно было предвидеть, Лонштейн все время забывал про Мануэля, который меланхолически сосал бахрому занавески на окне, не стиранной с 1897 года, когда хозяйка квартиры мадам Лавуазье повесила столь полезную принадлежность, дабы предохранять глаза от солнца, каковое, по мнению раввинчика, черта с два увидишь в этом так называемом граде Просвещения. Еще не позвонив, Андрес услышал хохот Лонштейна, и тот подал ему левую руку, потому что в правой у него была вырезка, вероятно, предназначенная для того, чтобы ее когда-нибудь прочел Мануэль, если питательные бульоны из бахромы позволят ему дорасти до грамотности.
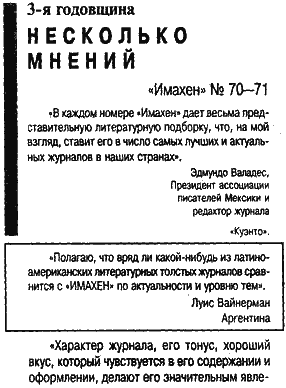
– Нет, ты погляди, какая прелесть, – прохрипел раввинчик, – какой суперизобор, старик, журнал справляет свой день рождения, и ты прочитай, что пишет один из наших соотечественников, думаю, в искусстве пустословия никто его не превзошел.
– Самое осмысленное здесь – это, по-моему, кружок, которым ты обвел его мнение, – сказал Андрес, падая в кресло и одновременно обнаруживая там ножки Мануэля, безнадежно запутавшегося в занавеске и пребывающего в экстазе сосания. Потрудившись, Андресу удалось извлечь его из мальстрема бахромы и кистей, хотя и не без борьбы, ибо Мануэль, как настоящий мужчина, упорно сопротивлялся, ведь оставалось еще обсосать сантиметров тридцать бахромы, и когда малыш очутился на коленях у Андреса и стал рассказывать ему что-то вроде «ифктугпи», «фэнудэ» и прочих подобных словечек, Андрес спросил Лонштейна, давал ли он ребенку хоть немного молока и той дурацкой пищи, которой пичкают младенцев.
– Давал, но немного, – сознался пристыженный раввинчик, – Сусана, видишь ли, оставила три литра с лишком, но ты же понимаешь, что из-за известий по радио и патриотического энтузиазма, который во мне возбудила вот эта заметка, я не очень-то мог соблюсти режим молококорм-ления, уж не говоря о том, что гриб стал у меня клониться вправо, и это кажется мне дурным знаком. А в общем, как подумаю, во сколько обходится один бифштекс моей женушке в ее домике в Рио-Куарто, а тут эти кретины швыряют сорок девять миллионов долларов на самолеты, чтобы пугать бразильцев.
– Давай, старик, – сказал Андрес Мануэлю, который начал понимать, что обстановка в доме улучшается, – давай пей, пока этот варвар перескажет мне известия.
– Фиата, фика, фифа, фига, – сказал Мануэль, очень довольный.
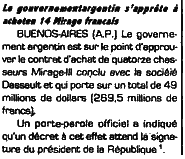
– У него поразительные мнемонические способности, – удивился Лонштейн, – вчера вечером он слышал мое каббалистическое толкование аббревиатур в списке международных организаций, который мне передал Расмуссен, наш копен, он в ЮНЕСКО писмашинирует; кстати, знай, что У Тан упустил единственный в жизни случай решить международные проблемы, взгляни на список и сам посуди.
– Известия, – повторил Андрес.
– А, чепуха, все то же, срок ультиматума истекает в полдень, все правительства возмущаются, французская полиция идет по следу, нюх, нюх. Кто-нибудь видел, как ты входил, байзе-уэй [139]?
– Думаю, что нет.
– В конце концов вы меня угробите, я такую ночь провел с этим дитятком, ты не представляешь, то ему надо писать, то просит есть.
– Ты же его моришь голодом, – сказал Андрес, осуществляя переливание молока из бутылки в Мануэля, – смотри, бедняжка засыпает, ты, бесстыдник, я об этом донесу в ФАО и в ЮНИСЕФ, раз уж речь зашла об аббревиатурах.
Вдвоем они уложили малыша, очень бережно, чего от них трудно было ожидать, тем временем вскипела вода для кофе, и раввинчик пошел рассуждать об аббревиатурах, пока, после второй стопки водки, Андрес не взглянул на него («ожидается информация о потрясающем похищении… между тем Мирей Матье поет о большом успехе») и не спросил сердито, какого черта он занялся аббревиатурами теперь, когда творятся такие дела, словно Лонштейн зарекся говорить о Буче, хотя транзистор, неудержимо лопотавший про bossa nova [140] и Мирей Матье, был у него все время включен, и Лонштейн опять завел свое насчет интернационального синкретического языка и аббревиатур, ведь можно сказать, что все сводится к этому перечню неуклюжих чудищ, кишащих в напечатанном на ротаторе листке, который раввинчик с презрением кинул мне.
– У меня на то есть причины, – сказал Лонштейн, – и, кстати, скажи, что это ты такой бледный, друже?
С другой стороны, соседи указали, что мать и другие родственники Хосе Рейнальдо Нуньеса живут рядом с сараем, где обитает он, и, мол, очень странно, что никто не слышал криков о помощи или какого-либо шума, хотя оба строения практически соединяются.
Во всяком случае, дабы не попасться на удочку убийцы, карабинеры задержали Хосе Рейнальдо Нуньеса и посадили под арест, чтобы сегодня пораньше передать его судье по особо важным делам Педро Агирре Серде.
Район «гомиков»
«Район между улицами Санхон-де-ла-Агуада и Сан-Хоакин и улицей Сан-Альфонсо плюс три квартала к востоку кишит «гомиками», и, как вы сами видите, сеньор журналист, на всякую старуху бывает проруха».
Так сказал вчера корреспонденту «Hypo Чиле» житель этого района Мигель Анхель Дельгадо Ромеро, который поселился там недавно, но достаточно хорошо знает своих соседей.
– Уверяю вас, что убийца Маноло из здешних…
Он смотрит на улицу и указывает пальцем на двух странного вида типов направляющихся к жилищу убитого:
– Глядите! Эти два «гомика», что там идут, это Энрике и Негр, друзья покойного.
«Гомики» подходят к дому и, увидев, что там полно карабинеров и детективов, обмениваются следующими комментариями:
– Боже мой! Я, кажется, сейчас сойду с ума, да, да, сойду… Могла ли я подумать, что беднягу Маноло отправят на тот свет!
– И я тоже, и, если бы здесь не собралось столько настоящих мужчин, я бы ни за что не подошла сюда.
Затем, сообразив, что, если они слишком приблизятся к месту преступления, их могут задержать, оба повернули обратно, отчаянно вихляя бедрами… Ну и ну!
– Забавно, – сказал Маркосу Патрисио, – эта ночь получается совсем не такая, как я себе представлял, даже похищение Гада не такое. Всегда все происходит иначе, и очень хорошо, Сусанита, что ты вклеиваешь в книгу Мануэля сообщения, совершенно не связанные с тем, что ты думала, когда покупала этот синий альбом на улице Севр.
– Ты романтик, – сказал Эредиа, – но, говоря откровенно, я тоже воображал это похищение как цветной фильм со шпионами и драками, а тут, гляди, сидим при свече и вырезаем фигурки из бумаги, хотя, конечно, фильм еще не закончился. И покамест, чтобы дать Мануэлю кое-что посерьезней, дарю тебе, Сусана, вот эту заметку, не скрою, если ты прочтешь ее нашим блуждающим французикам, ты доставишь мне большое удовольствие в такой день, ох, долго я его ждал.
URUGUAY [135]
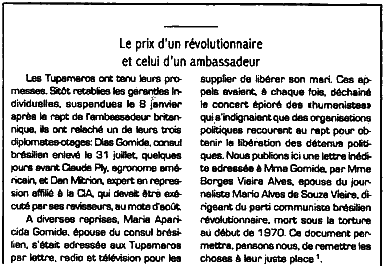
– Но ведь две колонки мелким шрифтом, – возроптала Сусана, – да еще при таком ужасном освещении, че. Ну ладно, освобождение бразильского консула, похищенного тупамаро, обращение его жены по радио и телевидению, безутешный хор лягушек-гуманистов, негодующих, что политические организации прибегают к похищениям, чтобы вызволить политзаключенных, – сказала Сусана железным тоном учительницы, подводящей к самому трудному пункту теоремы, тут еще напечатано письмо, полученное женой бразильского консула перед тем, как тупамаро возвратили ей мужа, вот оно: «Сеньора Апарасида Гомиде, Ваши страдания и страх известны всем. Пресса и радио ежедневно освещают Вашу драму: Ваш муж, дипломатический работник за рубежом, был похищен и, таким образом, оказался замешан в события политического характера. Сеньора, не одни Вы плачете. Однако о моем страдании и моем страхе не говорит никто. Я плачу в одиночестве. У меня нет Ваших возможностей заставить себя услышать, тоже сказать, что «сердце мое разрывается» и что «я хочу снова увидеть моего мужа». Ваш муж жив, с ним хорошо обращаются. Он вернется к Вам. Мой муж скончался от пыток, умерщвленный молодчиками Первой армии. Он был убит без суда и без приговора. Я потребовала выдать его тело. Никто меня не услыхал, даже Комиссия по защите прав человека. Я не знаю, что с ним сделали и куда выбросили. Его звали Марио Алвеш де Соуса Виэйра, он был журналист. Он был схвачен полицией Первой армии 16 января этого года в Рио-де-Жанейро. Его привели в казарму военной полиции, где жестоко избивали всю ночь, насаживали на зазубренный кол, сдирали кожу со всего тела металлической щеткой, потому что, он отказывался давать сведения, которых требовали палачи. Заключенные, приведенные в пыточное помещение, чтобы вымыть пол, весь в крови и экскрементах, увидели моего мужа в агонии, кровь лилась у него изо рта и из носа, он лежал на полу голый, задыхался, просил пить. Военные палачи, пересмеиваясь, запретили оказать ему хот малейшую помощь».
– Все понятно, – сказал Ролан, – зa va comme ?a [136].
– Ах нет, уж я закончу, – сказала Сусана, гневно посмотрев на него. – «Я знаю, сеньора, что Вам не понять моих страданий, ибо для каждого его горе больнее, чем горе другого. Но надеюсь. Вы поймете, что обстоятельства, приведшие к похищению Вашего мужа и гибели под пытками моего мужа, одни и те же; необходимо осознать, что насилие-голод, насилие-нищета, насилие-угнетение, насилие-отсталость, насилие-пытка ведут к насилию-похищению, к насилию-терроризму, к насилию-геррилье; и очень необходимо понять, кто более виновен в насилии – те, кто доводят людей до нищеты, или те, кто с нею борются. Ваше отчаяние и Ваше горе показывают, что Ваш муж был любящим главой семьи, что Вы страдаете из-за его отсутствия и что его жизнь для Вас драгоценна. Марио Алвеш также был любящим главой семьи, мне также его недостает. У него осталась дочь, которую он обожал; он был умен, образован, добр, он никогда никого лично не обидел. Он погиб из любви к угнетенным, к жертвам несправедливости, к тем, у кого нет голоса и нет надежды. Он боролся за то, чтобы огромные материальные и человеческие ресурсы нашей родины шли на благо всем. Горячо желаю, чтобы было достигнуто соглашение, желанное для Вас и для тупамаро. Подпись: Дилма Борхес Виэйра».
– Уже светлеет, – сказал Эредиа. – Бери клей, милочка, а я приготовлю для вас утренний кофе, самый вкусный, особенно когда его готовит бразилец.
Голос его звучал странно, был словно не его, также и походка, когда он, повернувшись спиной ко всем, почти побежал на
* * *
.Теперь надо пройти по мосту; это нетрудно, мост всего в нескольких метрах от отеля, город, как обычно, исподтишка обдает утренней суетой, небо серое, низкое, дождливое, запах горящей нефти, режут глаза афиши, этот цирк, каждую неделю меняющий рекламы – электроплиты, мебель в рассрочку, «рено», «филипс», агентства по продаже недвижимости, изъеденные временем образцы товаров, старинные порталы «Manufacture d'lnstrunents dе Chirurgie en Caoutchouc et Plastique» [137], вывеска «Отель Террасе», мост, ведущий на площадь Клиши, на другую сторону; ничего не стоит пройти через мост, две дорожки с перилами для пешеходов, от гибели под колесами их охраняют муниципальные постановления, штрафы и другие наказания; главное – пересечь улицу, следя за красным светом и зеленым светом; ощущение почему-то такое, словно худшее осталось позади, воплотившись в оплату счета и в чаевые на облезлой стойке; нет, конечно, было бы преувеличением сказать, что пройти по мосту обратно – это проблема.
Проснулись мы в половине десятого, шторы оберегали нас от рассвета и от шумов; голова не болела ни у Франсины, ни у меня, хотя бутылка из-под «Мартелля» валялась на полу брюхом кверху, выставив все свои пять звездочек; усталость, Франсина гладит мне шею и, ввернувшись клубком, говорит, что хочет есть и пить, телефон и поднос с завтраком, долгое стояние под душем, все, как всегда, начало нового, логичного, нормально предсказуемого дня жизни. Мне надо заменить мадам Франк до часу, давай побыстрей, надеюсь, здесь поблизости будет такси. Ну да, малышка, ты приедешь вовремя, в доходах твоей книжной коммерции ничего не изменится, я оставлю тебя, как цветочек, у входа, вот увидишь, ты продаешь кучу премированных романов и два-три словаря. Я искал ее глаза, голая, чистая, она сидела в изножье кровати, снова идеальная славная подруга, да, дистанция между ночью и утром у нее безупречная; я искал ее глаза, потому что в них, возможно, что-то подскажет мне путь, будет бакеном в море и передышкой, неким алиби, если когда-нибудь придется объяснять, почему я не прошел по мосту, почему не передал послание для Гарсиа. А ты, Андрес? спросила я, я должна была это спросить, потому что в том, как он искал моего взгляда, уже словно бы притаился ответ. Ладно, я-то не торгую книгами, сказал он, приподнимаясь в постели, чтобы достать сигареты, я только должен произвести учет этих последних часов, которыми тебе обязан, которые помогают, может, и не понять что-то, но, во всяком случае, помогают сдвинуться с места, пойти вперед, а остальное мало-помалу само образуется, как то велит божественная мудрость. Я не хочу, чтобы ты ушел так, сказала я, ты мне столько наговорил, теперь я вправе предположить, что ты сделаешь глупость. Видишь ли, малышка, я не знаю, что я сделаю, и, вероятно, в этом-то и состоит глупость. В общем, хоть одно я все же знаю, а именно это. Франсина поняла не сразу, оба голые, мы сидели на краю кровати, и, если исключить кровать, были вроде Адама и Евы в час изгнания из рая, погруженных в тьму и в прошлое, прикрывающих лица, чтобы не видеть дня, встающего над могилами там, внизу.
– Я не прошу у тебя прощения за происшедшее, детка, хотя это тоже форма такой просьбы, и ты не отрицай, не качай своей рыжей головой, ты меня щекочешь, и я засмеюсь, что в данных обстоятельствах не слишком достойно. Вчера вечером ты спросила, почему я хочу тебя унизить, и, возможно, после этой бутылки, после измывательств над твоей попкой и других, о коих ты помнишь, ты чувствуешь себя, как эта тряпка на краю биде: Позволь сказать тебе, что никто никогда не сделал для меня столько, в некоем смысле, который я сам едва понимаю, а тебе он показался бы неизлечимым безумием. К сожалению, трудно определить, есть ли тут какое-то равновесие, трудно определить, что я-то тебе дал с тех пор, как мы встретились вчера вечером в кафе, начиная с лицезрения мадам Антинеи, ты же ее помнишь, все, что я тебе говорил, все, что я никому, малышка, никому не говорил так, как тебе, ведь сверх всего было и другое, твоя кожа и твоя слюна, позволь, детка, сказать тебе только это, нет, я не унизил тебя, заставляя пить этот коньяк и насилуя, не унизил, все это смыл душ, все ушло, потому что я, конечно, тебя изнасиловал, детка, и, конечно, ты плакала, и, поспав часок, проснулась и обозвала меня подонком и садистом, и, говоря это, свернулась гусеницей, и пришлось начинать все снова, и это было так не похоже на прежнее – ты осознаешь, что не похоже? – а потом мы уснули сном праведников, и никаких кошмаров, и вот видишь, видишь, что у тебя в глазах, ты только взгляни в зеркало, детка, потом скажешь.
– Да, ты меня не унизил, – почти беззвучно сказала Франсина, – но ты-то, Андрес, что с тобой.
– Что ж, я уже говорил тебе, что ничего не понимаю, черное пятно все еще здесь, как вот эти шторы, но заметь, шторы-то мы раздвинем, как только ты прикроешь свои грудки, было бы жаль не увидеть такое пышное кладбище в панораме города, правда ведь, и, быть может, в какой-то миг пятно, точно шторы, отодвинется, и за ним будет не кладбище, а что-то другое, черт знает что, словом, что-то, и этим я обязан тебе, тебе и, конечно, мадам Антинее, не думай, что ты единственная спасительница.
– Дурень, дурень, почему ты смеешься, когда на самом деле ты… Нет, Андрес, дорогой, не скажу кто, уж не обижайся, и не трогай, пожалуйста, мой платочек, вот так.
Потом мы уже мало говорили, я смотрел, как она одевается, оделся сам, думая о Гарделе и о том, что настоящий мужчина не должен, и так далее. Она, не противясь, вышла на балкон, мы смотрели на нелепые надгробия, на это пошлое увековечение великого безобразия. Мне надо идти, почти сразу же сказала Франсина, мадам Франк наверняка меня ждет. Для нее, конечно, не было орла или решки, начинался новый нормальный день. Нормальный, сказал я, целуя ее так, как никогда раньше не целовал, какое слово, детка. Но она меня не поняла, для нее значение этого слова было так логично, в нем и магазин, и мадам Франк. Нет, для меня в Париже не было нормальных дней, как не было орла или решки для Франсины, грустно и молча входившей в кабину лифта, будто ее отсюда опустят прямехонько вниз, на кладбище. Да, знаю, ты будешь удручена, сказал я, гладя ее волосы, будешь плакать, тебе не преодолеть ни себя, ни меня, начинается еще один нормальный день, ты осталась цела и невредима в своей молочно-белой коже, в своей самодостаточной грусти, ты не захочешь понять смысл этой ночи, аминь.
– А ты, а ты.
– Вероятно, и я, по другую сторону моста ты и я будем такими, как всегда, у меня осталось достаточно честности, чтобы заподозрить, что комедиант выдумывает гибель мелкого буржуа, что он лишь воображает, будто, пройдя мост, окажется на другой территории.
– Ты уходишь?
– Ну, сперва я отвезу тебя домой, because мадам Франк, видишь, я ничего не забываю, а потом я помчусь к Лонштейну узнать, что удастся, по радио, не говоря о том, что в этом киоске мы купим газету, уже должны быть первые громы.
– Но потом.
– Потом – не знаю, детка, возможно, позвоню тебе, чтобы сходить вместе в кино, во всяком случае, идти домой я сейчас не намерен, в квартире тоскливо и грязно, на полу, наверно, валяются очистки лука и вещи Людмилы, я, детка, эстет, мелкий буржуа тщится умереть, но, сама видишь, по другую сторону моста разница не очень-то заметна. Так что вскоре я тебе позвоню, если только ты не надумаешь идти играть в теннис или что другое.
– Не звони мне, играть в теннис я не пойду, но ты не звони.
Он посмотрел на меня так, словно вдруг перестал меня узнавать; потом направился к газетному киоску и вернулся с сигаретой во рту и газетой, раскрытой на второй странице; показав мне сообщение, он подозвал такси. Лишь тогда я подумала, что в глубине души всегда отказывалась этому верить, а теперь вот заголовки ползли по смятому газетному листу, как муха по столику в кафе. Он даже не вышел из такси проститься со мной; его рука погладила мне волосы, но он не вынул изо рта прилипшую к губам сигарету. Как всегда, выдернет ее в последний момент и, ободрав до крови губу, ругнется.
– На улицу Камбронн, угол улицы Мадемуазель, – сказал Андрес, бросая газету на пол такси. Ехать к Лонштейну, может, и не следовало, что там делать, кроме как курить и пить. На углу он вышел из такси, дальше пошел пешком, делая крюк, чтобы сбить со следа любого, кто, быть может, засекает гостей раввинчика, и заглянул в бар на улице Коммерс как раз тогда, когда посетители слушали информацию о дерзком похищении ответственного за координацию латиноамериканских интересов в Европе, как определил его пост диктор при полном равнодушии слушавших, ждавших сообщений о погоде и о полуфинале чемпионата, вот это важно. Я спрашивал себя, дома ли Людмила, ничего не стоило позвонить, но Людмилы же нет дома, там только лук да пластинки Ксенакиса и Джонни Митчелл, которые я не успел послушать, кофе, и Ксенакис, и Джонни Митчелл, и кровать, соблазн, что и говорить, а через несколько кварталов, в одном из домов, наверно, Людмила, ведь Маркос не настолько безответствен, чтобы впутать ее в дело, которым была заполнена вторая страница «Фигаро», но Людмилы там, наверно, тоже нет, это от Маркоса не зависит, в любом случае, лучше всего пойти к раввинчику и послушать известия, подумав это, я, конечно, не двинулся с места, затем другое кафе, так как пять звездочек «Мартелля» давали о себе знать в области двенадцатиперстной кишки, вероятно, я даже вздремнул в этом уголке, где не было никого, кроме собаки да двух пенсионеров, день был долгий, нормальный, правительства в ответ на ультиматум похитителей объявят свое решение вскоре после полудня по французскому времени; тогда орел или решка, для Бучи орел и даже более того, невероятно, подумал Андрес, потягиваясь и доставая сигареты, как-то вдруг осознаешь, что это не так уж странно, но даже модно, это случается в каждой стране, не говоря о воздушных пиратах, не понимаю, как это может до сих пор удаваться, ну ясно, координатор латиноамериканских интересов это вам не пустяк, но допустим, что там не согласятся на обмен, допустим, что кончится срок, и тогда. Людмила наверняка дома, не может быть, чтобы. Тогда Маркос или Эредиа, они это сделают, или Ролан. Да, но потом и в этой стране. Люд. Наверно, спит дома, я должен. Да нет, я ее знаю, телефон будет звонить в пустой квартире, эти бесконечные звонки, эти спазмы в желудке. А если мне поехать в Веррьер, но это абсурд, я могу еще ухудшить их положение, а Людмила небось дома или у Лонштейна, играет с Мануэлем, единственно разумный выход – пойти к раввинчику, странно, но я чувствую себя, словно и не принимал душ, а все этот липкий, нормальный день, нет, надо быть глупцом, навоображать себе, что надо, мол, сделать учет, что будет орел или решка, ничего не изменилось, старик, черное пятно на месте, хотя бедная малышка, бедная малышка смотрела на кладбище, ох и сукин ты сын, Андрес Фава, столько раз было орел или решка, а потом мост, когда возвращались с ней под руку, и вот мы идем, нормальный день для обоих, хотя ты этого и не хочешь, к чему столько грязи и столько валянья в кровати, где твое ночное завещание, дурень с писаной торбой, где орел или решка, почему клейстер черного пятна приклеил тебя к этой обтрепанной табуретке, к другой чашке кофе с коньяком, которую ты немедля закажешь. – Чашку кофе и коньяк, – немедля заказал Андрес.
* * *
В книге Мануэля эта заметка была вклеена под довольно-таки загадочным названием: «Злоключения мальчика на побегушках», копирайт на которое, вероятно, принадлежал Маркосу.
Встреча Бруно Кихано и Киссинджера не состоялась
ВАШИНГТОН. 4. Как сообщает агентство Латин, Белый дом сегодня опроверг информацию, исходившую из дипломатических кругов, о том, что аргентинский министр юстиции Исмаэль Бруно Кихано встретился с советником президента Генри Киссинджером.
Представители экономическо-политической делегации аргентинского правительства, находящиеся там с понедельника и ведущей переговоры о получении кредита более чем на 1 046 миллионов долларов, заявили в 16 ч. прессе, что такая встреча осуществилась.
Канцелярия президентского советника утверждает, что Кихано явился на встречу, однако доктор Киссинджер не мог е<ч> принять, ибо «в этот момент у него были неотложные дела».
К этому было добавлено, что Киссинджер предложил министру побеседовать с одним из своих помощников, «после чего Кихано, разгневавшись, удалился».
Одна из секретарш советника подтвердила, что в книге посещения была запись о встрече с Кихано.
Один из помощников Киссинджера сказал представителю агентства Латин, что «тот факт, что его патрон не смог принять министра, достоин сожаления, однако причина его в неожиданном возникновении срочных заданий президента. Мы стараемся обеспечить осуществление новой встречи».
Представители делегации, сообщившие прессе о якобы состоявшейся встрече, сказали, что Киссинджер и Кихано обсуждали отношения между Вашингтоном и Буэнос-Айресом в свете преимуществ, которые якобы отдают Соединенные Штаты своим отношениям с Бразилией.
Вдобавок они сообщили, что оба деятеля также рассматривали тезис о идеологическом плюрализме, о роли нынешнего чилийского правительства на континенте и о политическом и институциональном будущем Аргентинской Республики.
Экономическая делегация, собирающаяся отбыть в Нью-Йорк, отменила назначенную на сегодня пресс-конференцию, на которой предполагалось заслушать ее заявление о результате якобы успешных пятидневных переговоров в Вашингтоне с североамериканским правительством, Валютным фондом и Всемирным банком.
План этих переговоров был намечен Кихано – еще до того, как он в октябре занял пост министра юстиции, – и Луисом Кантило, приближенным президента Лануссе.
Как можно было предвидеть, Лонштейн все время забывал про Мануэля, который меланхолически сосал бахрому занавески на окне, не стиранной с 1897 года, когда хозяйка квартиры мадам Лавуазье повесила столь полезную принадлежность, дабы предохранять глаза от солнца, каковое, по мнению раввинчика, черта с два увидишь в этом так называемом граде Просвещения. Еще не позвонив, Андрес услышал хохот Лонштейна, и тот подал ему левую руку, потому что в правой у него была вырезка, вероятно, предназначенная для того, чтобы ее когда-нибудь прочел Мануэль, если питательные бульоны из бахромы позволят ему дорасти до грамотности.
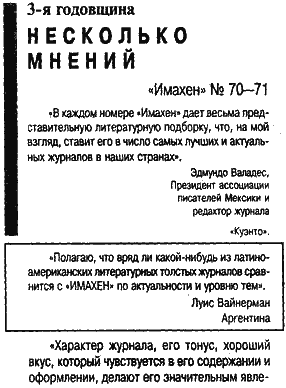
– Нет, ты погляди, какая прелесть, – прохрипел раввинчик, – какой суперизобор, старик, журнал справляет свой день рождения, и ты прочитай, что пишет один из наших соотечественников, думаю, в искусстве пустословия никто его не превзошел.
– Самое осмысленное здесь – это, по-моему, кружок, которым ты обвел его мнение, – сказал Андрес, падая в кресло и одновременно обнаруживая там ножки Мануэля, безнадежно запутавшегося в занавеске и пребывающего в экстазе сосания. Потрудившись, Андресу удалось извлечь его из мальстрема бахромы и кистей, хотя и не без борьбы, ибо Мануэль, как настоящий мужчина, упорно сопротивлялся, ведь оставалось еще обсосать сантиметров тридцать бахромы, и когда малыш очутился на коленях у Андреса и стал рассказывать ему что-то вроде «ифктугпи», «фэнудэ» и прочих подобных словечек, Андрес спросил Лонштейна, давал ли он ребенку хоть немного молока и той дурацкой пищи, которой пичкают младенцев.
– Давал, но немного, – сознался пристыженный раввинчик, – Сусана, видишь ли, оставила три литра с лишком, но ты же понимаешь, что из-за известий по радио и патриотического энтузиазма, который во мне возбудила вот эта заметка, я не очень-то мог соблюсти режим молококорм-ления, уж не говоря о том, что гриб стал у меня клониться вправо, и это кажется мне дурным знаком. А в общем, как подумаю, во сколько обходится один бифштекс моей женушке в ее домике в Рио-Куарто, а тут эти кретины швыряют сорок девять миллионов долларов на самолеты, чтобы пугать бразильцев.
– Давай, старик, – сказал Андрес Мануэлю, который начал понимать, что обстановка в доме улучшается, – давай пей, пока этот варвар перескажет мне известия.
– Фиата, фика, фифа, фига, – сказал Мануэль, очень довольный.
Argentine [138]
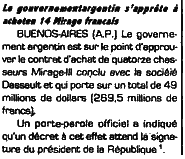
– У него поразительные мнемонические способности, – удивился Лонштейн, – вчера вечером он слышал мое каббалистическое толкование аббревиатур в списке международных организаций, который мне передал Расмуссен, наш копен, он в ЮНЕСКО писмашинирует; кстати, знай, что У Тан упустил единственный в жизни случай решить международные проблемы, взгляни на список и сам посуди.
– Известия, – повторил Андрес.
– А, чепуха, все то же, срок ультиматума истекает в полдень, все правительства возмущаются, французская полиция идет по следу, нюх, нюх. Кто-нибудь видел, как ты входил, байзе-уэй [139]?
– Думаю, что нет.
– В конце концов вы меня угробите, я такую ночь провел с этим дитятком, ты не представляешь, то ему надо писать, то просит есть.
– Ты же его моришь голодом, – сказал Андрес, осуществляя переливание молока из бутылки в Мануэля, – смотри, бедняжка засыпает, ты, бесстыдник, я об этом донесу в ФАО и в ЮНИСЕФ, раз уж речь зашла об аббревиатурах.
Вдвоем они уложили малыша, очень бережно, чего от них трудно было ожидать, тем временем вскипела вода для кофе, и раввинчик пошел рассуждать об аббревиатурах, пока, после второй стопки водки, Андрес не взглянул на него («ожидается информация о потрясающем похищении… между тем Мирей Матье поет о большом успехе») и не спросил сердито, какого черта он занялся аббревиатурами теперь, когда творятся такие дела, словно Лонштейн зарекся говорить о Буче, хотя транзистор, неудержимо лопотавший про bossa nova [140] и Мирей Матье, был у него все время включен, и Лонштейн опять завел свое насчет интернационального синкретического языка и аббревиатур, ведь можно сказать, что все сводится к этому перечню неуклюжих чудищ, кишащих в напечатанном на ротаторе листке, который раввинчик с презрением кинул мне.
– У меня на то есть причины, – сказал Лонштейн, – и, кстати, скажи, что это ты такой бледный, друже?
