Страница:
– Пусть это не будет пошло, – сказала Людмила.
– Я тоже об этом подумал, полечка.
Задерживая дыхание, он медленно приподнялся, чтобы снять туфли. Людмила ему помогла, заставила выпить глоток чаю и отправилась искать водку, отказавшись, однако, от мысли о примочке, потому что водка уж слишком отдавала водкой и потому что Маркос тем временем медленно прошел в спальню и, скинув брюки и сорочку, в одних трусах растянулся на кровати и сделал знак Людмиле, – она выключила свет в кухне и в гостиной и пришла к нему со стаканами и с бутылкой водки, которую, несомненно, можно было применить и внутрь. С сигаретой во рту Маркос завел речь о Гаде; Людмила, сидя на полу возле кровати, смотрела на блестевшие в свете ночника вьющиеся волосы Маркоса. Скоро рассвет, но спать обоим не хотелось. Пусть не будет пошло, пусть блузка, которую Людмила снимала, пока Маркос ей объяснял, что произойдет в пятницу ночью, будет лишь данью повторяющемуся ритуалу, пусть в том, что она расстегнула сандалеты и сняла чулки, будет иной смысл или не будет никакого смысла, кроме желания приблизиться к отдыху, ко сну. В уголках рта у Маркоса еще виднелись следы запекшейся крови. В ванной – странная роскошь – была губка; сквозь клубы дыма Маркос увидел силуэт раздевшейся Людмилы, ее спину, бедра, смуглое, крепко сбитое тело, устремившееся к двери, чтобы принести губку.
– Будьте любезны, удостоверение личности, – сказал кассир. С небольшими вариантами это требование повторилось в один и тот же час в двадцати трех банковских залах и меняльных конторах Парижа; группа Люсьена Вернея и Ролана действовала умело, и между половиной третьего – время открытия банков – и тремя четвертями третьего шедевры старика Коллинса переменили владельцев и превратились во французские франки. Случилась всего одна заминка в агентстве «Космик» на площади Италии, где кассирша в синем костюме и очках для близоруких принялась проверять купюры с преувеличенной, как счел клиент, тщательностью, и тут кассирша заметила ему, что это ее обязанность, а клиент возразил, что он всего лишь агент из бюро путешествий и что если есть какие-либо сомнения, пусть она тотчас позвонит мсье Макр?пулосу, ГОБелен 45.44. К удивлению клиента, придумавшего Макропулоса лишь для того, чтобы выиграть время и посмотреть, как пойдет дело, прежде чем смываться, эта дама довольно быстро обменяла ему деньги, хотя не без дальнейших рассуждений о своем профессиональном долге. Первый сигнал полиция получила в четверть шестого из филиала «Креди Лионнэ»; вечером в префектуре уже были почти все фальшивые доллары и некоторое количество примет – поскольку группа Люсьена Вернея состояла из парней, которые в своей бездельной жизни куда чаще заходили в банки, чтобы взять деньги, чем чтобы их вложить. По расчетам Люсьена и Ролана, у них мог быть срок в пять-шесть дней до первого прокола или просто доноса; Гомес и Моника, а также Патрисио и Эредиа между тем делали необходимые покупки.
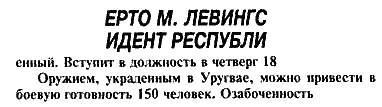
Стремление покончить с Онаном [98], сколь это ни парадоксально, было, видимо, одной из причин, побудивших Лонштейна говорить с Онаном как с одним из многих воображаемых чудищ-людоедов, коих еще никому не удалось уничтожить, этого скопища подсознательных чудищ, истинных властителей дневной гармонии, которая обычно именуется нравственностью и которая в любой день может обернуться – индивидуально, неврастенией и кушеткой психоаналитика, и – также в любой день – коллективно, фашизмом и/или расизмом. Че, старик, бормотал мой друг, подавленный огромностью подтекста и подсмысла рассуждении раввинчика, было, однако, бесполезно всякими там «заткни фонтан» или «давай кончай, олух» охладить желание Лонштейна высказаться, его раскольниковскую страсть к беседе с глазу на глаз – создавалась некая гротескная сага нисхождения Гильгамеша или Орфея в преисподнюю либидо; что толку, что мой друг то смеялся ему в лицо, то отшатывался, до крайности шокированный этим эксгибиционизмом в четыре утра после пятой рюмки водки, – мало-помалу становилось ясно, что Лонштейн вытаскивал Онана на поверхность не только ради удовольствия придать ему легальный статус или вроде того, нет, вырвать Онана из подсознательного скопища означало убить, по крайней мере, одно из чудищ, а может, и больше, преобразить его приобщением к дневному началу, к открытости, расчудить, сменить его жалкое подпольное обличье на плюмажи и колокола – раввинчик вдруг ударялся в лирику, настаивал и развивал, становился чем-то вроде public-relations [99] и администратора при людоеде, который, в конце-то концов, как многие людоеды, был принцем, ему лишь требовалось чуть-чуть помочь, чтобы он перестал быть чудищем. Мой друг начинал понимать, что Лонштейн действовал по-раввински мудро, избрав одного людоеда из многих и предлагая еще и еще спуститься к преисподнему скопищу, дабы постепенно уничтожить остальных, учинить этакую кромешную Бучу, и, наконец, мой друг осознал, что его роль в эту ночь, если он играет ее честно, состоит в том, чтобы подзуживать, и подстрекать, и разъярять раввинчика, дабы охота на Онана и преображение его могли пригодиться впоследствии, когда он станет хронистом Онана, что Лонштейн считал само собой разумеющимся, и он не ошибался, ибо мой друг не преминул рассказать мне об этой исповеди (я только проснулся поздним утром после тяжелого сна, Людмила спала на диване, никто из нас двоих не завтракал и, похоже, о завтраке не помышлял), и хотя сперва я ничего не понял и даже повел себя как мой друг, то есть осудил Лонштейна, но потом, обдумав этот эпизод всесторонне, я проникся уважением к дерзновенному экзорцизму, ведь и я, на свой жалкий лад, пытался витийствовать с балкона и уничтожать каких-то чудищ, только у меня это был малюхонький балкончик с цветочными горшками, выходящий в патио только к окнам Людмилы и Франсины, индивидуальное, эгоистическое заклятие бесов, пустые слова, дохлая птичка, бесплодная попытка. Но, возможно, что Лонштейн прав, и в Бучу надо включаться самыми различными путями (если предположить, что он или я ясно знаем, о чем речь), во всяком случае, раввинчик толковал моему другу об Онане не просто ради удовольствия, он искал способ притчеобразно соотнести с Бучей (тут, конечно, и фортран!) эту горячечную степень обнаженности слова, показывающую, насколько стриптиз, которому он подверг себя перед моим другом, был, по сути, необходимым условием для Веррьера и ночи в пятницу, для другой охоты на других чудищ, и, хотя это казалось затеей безумных, мой друг и я начинали чувствовать, что в почти немыслимом, бесстыдном поведении Лонштейна было нечто вроде рыцарского бдения во всеоружии перед ночью в Веррьере. И то, что теперь воспринимается всего лишь как безумное сочетание противоречий, может когда-нибудь проясниться для каких-то других людей и для других Буч, а мой друг и я, мы были вроде сивилл и горе-пророков, знающих и не знающих, глядящих друг на друга с видом человека, подозревающего, что другой испустил газы, облегчение всегда предосудительное.
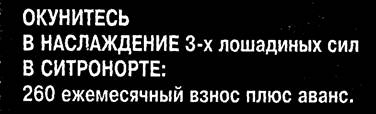
Сусана, купая и одевая Мануэля, играет с ним и искоса поглядывает на Патрисио, у которого один глаз изрядно заплыл и боль в запястье. Хорошо, еще пригодилось одно из его любимейших буэнос-айресских сокровищ – наручный ремешок, сохранившийся с тех пор, когда он играл в пелоту с ракеткой в Лаурак Бате, и что темные очки полностью скрывают другой его дефект. Три часа дня, но после столь бурной ночи все семейство еще в постели, даже Мануэль, невероятно послушный и не стремящийся задушить себя тальком или ватными тампонами. Обед свелся к походам на кухню за салями, стаканами с молоком и с вином, кусками холодного омлета и полудюжиной бананов – отец, мать и сын чувствуют себя превосходно, нарушая почем зря благонравные обычаи, и, когда является Людмила, встречают ее в белье, угощают кофе с коньяком, приглашают ее
Эредиа и Гомес корчатся от смеха, читая газеты и глядя на свои опухшие рожи, которые Моника им лечит с видом сестры милосердия и обильным применением ртутной мази. Загадочное появление бирюзового пингвина на берегах Сены в часы рассвета вызвало к жизни две теории, ибо полиция быстро установила причинно-следственную цепочку, начало коей Орли, хотя затем звенья ее рассыпаются: либо на Кэ-дез-Орфевр уже подозревают истинное назначение контейнеров, и это их наводит на
Одна газета пишет о контрабанде оружием, другая о контрабанде наркотиками. Маркос уже позвонил Оскару, чтобы они покинули отель «Лютеция» – надо сбить с толку муравьев, – а Оскар в это время, лежа в постели, пожирает последний роскошный завтрак, пока Гладис ждет ухода официантки, чтобы принести свой поднос и, присев у кровати на корточки, заняться своей, медицинской частью, и Оскар сообщает ей, что Маркос их ждет в четверть одиннадцатого у Патрисио и что все надежды, которые могли остаться у Гладис на возвращение к ее деятельности стюардессы, терпят крах из-за причинно-следственной цепочки, о каковой говорится в
– Бедный Педернера, – говорит Гладис, – кто теперь будет приносить ему в кабинет пампельмусовый сок. И Пепите придется работать через силу.
– Этот Педернера, видно, положил на тебя глаз, – говорит Оскар.
– Просто никто не подавал ему сок так деликатно, что он мог не отвлекаться от своего пульта.
– Наконец-то ты, кажется, перескочила через ограду, малышка, – говорит Оскар, соскальзывая с кровати, пока последний круассан скользит по его пищеводу. Гладис смотрит, недоумевая, о какой ограде речь, но Оскар целует ее волосы с чувством блаженства, вероятно, от вкусного рогалика, этого полулуния, но тут также и полнолуние – неумолимый механизм игры слов, открывающий многие двери и освещающий темные закутки. Гладис, узнав новости, не выказала ни малейшего огорчения, значит, так, значит, она перелезла через ограду, как девочки при свете полной луны, она уже по-настоящему в Буче, а тут тебе и ограда, думает Оскар, и открывшаяся улица, хотя бы вся полиция Парижа и все пожарники Ла-Платы гнались за девчонками, ошалевшими от карнавала, за Алисией Кинтepoc, за Гладис, которая швыряет хорошо оплачиваемое место, сулящее солидную пенсию, в лицо капитану Педернере.
согласен, но почему ты так быстро признал себя побежденным после твоей Йоланды / После Йоланды? / Да, и сдался онанизму, полностью капитулировал, так сказать / Понимаю, ты-то, исполненный надежды, повторил бы все сызнова / Ну, конечно, а что такое любовь, как не постоянное повторение / Проблема не в этом, дружище, полсотни эрудитов всю жизнь допытывались у тени Гоголя, почему он предпочел онанизм браку, не говоря уж о Канте – раз в месяц под деревом, – и, естественно, в каждом случае есть либо Эдипово либо хромосоматическое объяснение, также и у меня наверняка нехватка или излишек молекул «бета», но не это меня интересует, хотя ты, ясное дело, цепляешься за понятие нормального, точно это все еще спасательный жилет. / Но послушай, даже если все сводить к статистике, некое понятие нормального необходимо, чтобы из него исходить / Как тебе угодно, считай, что я ненормальный, и осуждай меня, ни твои понятия, ни твое осуждение меня теперь не волнуют, и я говорю тебе об этом потому, что ты и прочие нормальные, все вы законченные лицемеры, а кому-то надо же исполнять в тысячепервый раз роль шута, и не из самоотверженности, я не жертвую собой ради тебя, нормального самца, но по причине, которую сам не знаю, как назвать, скажем, ради нового начинания / Ну, ну, ты еще и цель себе ставишь / Да нет же, балда, я говорю не об онтологическом начинании, хотя и там необходимы шуты, чтобы перевертывать премногие омлеты, поджариваемые мадам Историей, я говорю о начинании другого рода, если угодно, вроде того, что должен был предпринять де Сад, начинании, которое предстает главным образом как разрушение, как низвержение идолов, дабы потом, когда-нибудь, явились те жуткие трудящиеся, как говорил тип из Харара, или тот новый человек, которым так озабочен Маркос и вся эта шайка Бучи, и тогда я открою дверь и скажу, что все мы Онаны, сперва по очевидным причинам детского возраста, а затем – из-за того, что, хотя одинокое наслаждение несовершенно, однобоко, эгоистично и гнусно, сколь те6e угодно, но это не порок, а главное, не отрицание мужественности и женственности, нет, нет, напротив, но вот ты уже задрал нос и глядишь на меня так, будто никогда не занимался онанизмом после четырнадцати лет, ты, страус дерьмовый / Че, я ведь даже рта не раскрыл, чего ты / Ладно, никто не требует, чтобы ты объявлял во всеуслышание о своих сексуальных причудах, лучше предаваться им, чем о них рассказывать, однако вот тебе ближайший пример – Буча провозглашается средством уничтожения призраков, мнимых преград и прочих понятий из марксистского словаря, в котором я не силен, но которым ты сразу же мысленно украсишь список общественных и личных заблуждений и язв, подлежащих уничтожению, и, если это верно, я считаю своим долгом также внести посильную лепту, и защита онанизма годится не только для этого – сама по себе она не так уж важна, – но потому, что она помогает произвести многие другие необходимые разломы в схеме антропоса / Ладно, согласен, но то же можно сказать о лесбиянстве и других, многих других вещах, о вкладах по почте, о лотерее и прочем / Разумеется, но согласись, что с гомосексуализма табу уже частично снято, и с каждым днем не только его практика становится все очевидней, но сам этот факт и его словесное выражение становится обычным и эффектным элементом словарей и послеобеденных бесед, чего не происходит с мастурбацией, которой грешат все, но которая присутствует и языке лишь как тема исхода детства / И ты действительно полагаешь, что все? / Конечно, женатые или холостые, это не имеет значения. Стоит какой-нибудь паре разлучиться по любой мимолетной причине – от поездки до упорного гриппа, – большинство этим занимается, а что до холостяков, не пересказывать же тебе казарменные, тюремные или моряцкие анекдоты, чтобы это знать, ты сам можешь составить свой карманный сборник, – поспрашивай у хорошо знакомых женщин, не балуются ли они пальчиком перед сном, когда остаются одни, и они это подтвердят, ведь у них это менее хлопотно, чем у нас, и такое признание не повредит доброму имени и чести, тогда как для нас сказать, что ты даже изредка онанируешь, порочит твою мужественность и мораль того, кто признался, или того, кто дал себя поймать с поличным, и идиотизм именно в этом, в том, что между фактом и признанием его такой разрыв, что все это продолжает совершаться под знаком табу, вот почему каждый снова становится Онаном, которому его отец Иуда велел лечь с женой брата, дабы обманом дать ему потомство, и Онан отказывается, зная, что его дети не будут признаны его детьми, и, прежде чем возлечь с невесткой, онанирует – в действительности технически это, видимо, был просто coitus interruptus [100], и тогда Иегова на него осердился и его умертвил; вот в этом вся штука – в том, что Иегова осуждает и мечет молнии, с тех пор это застряло у нас в душе, coitus interruptus кажется нам вполне дозволенным, но на мастурбации лежит табу Онана, и отсюда мысль, что она грех, что она постыдна, что это ужасная тайна. Из всего этого, сказал Лонштейн, вздохнув так, будто выбрался из пучин Мальстрёма, я создал истинное произведение искусства, изобор и технику, которой, увы, немногие сумеют овладеть, ибо, онанируя с чувством вины, они это делают примитивно и из срочной необходимости – как иные бегут к девкам, – без утонченности самодовлеющего сексуального наслаждения. Парный эротизм породил литературу, которая удваивает, отражает и обогащает описываемую реальность, ее чарующую диалектику: одно дело заниматься любовью, другое – читать, как это делается; но так как для меня пара невозможна и женщины мне скучны во всех смыслах, пришлось мне создать собственную онанистическую диалектику, мои фантазии, еще не записанные, но столь же – или еще более – богатые, как эротическая литература. / Не менее того? / Да, не менее того / Ну, знаешь, когда я в пятнадцать или шестнадцать лет занимался онанизмом, я воображал, что держу в объятиях Грету Гарбо или Марлен Дитрих, тоже, как видишь, дерзал, так что мне непонятна особая ценность твоих фантазий / Они развиваются не совсем в том плане, хотя и допускают куда более головокружительные видения, чем твои Греты или Марлен, самое важное тут исполнение, в нем-то все искусство. Для тебя все дело в умелой руке, тебе неведомо, что первая ступенька к истинной вершине фортрана состоит в полном отказе от употребления руки /Да, знаю, всякие приспособления, резиновые куклы, обработанные губки, пятнадцать способов применения подушки, согласно герру доктору Баренсу / И чего это ты так горячишься? Пары с воображением тоже применяют всяческие приспособления, подушки и кремы. Эредиа тут показывал руководство по позам, привезенное из Лондона и действительно превосходное; будь у меня средства, а главное, желание, и бы издал учебник по технике мастурбации, и ты увидел бы, сколько тут возможностей, а уж бестселлером он был бы наверняка, но, во всяком случае, я могу тебе их описать / Я пошел, че, уже поздно / Иначе говоря, ты не хочешь меня слушать / Ты мне надоел, мой мальчик / Козел, сказал Лонштейн, я-то думал, что растолковал тебе, почему я с тобой об этом говорю / Я понимаю, старик, понимаю, но все равно ухожу / Козел, трус, и ты, и все ны, и вы еще хотите делать революцию и низвергнуть идолов империализма или черт знает как вы их называете, вы, не способные честно смотреть на себя в зеркало, проворные, когда надо нажать на гашетку, и хлипкие, как малиновое мороженое / я его ненавижу /, когда речь идет о настоящей борьбе, борьбе спелеологической, доступной здесь наверху для каждого мало-мальски стойкого человека / Че, я раньше не замечал у тебя этих мыслишек о лучшем будущем / Ты ничего обо мне не знаешь, даже не знаешь, какого цвета эта сорочка на мне, ты, лживый свидетель Буч, тоже лживых / Значит, ты думаешь, что Буча это ложь? / Нет, не в том суть, сказал Лонштейн, слегка раскаиваясь, она наполовину ложь, потому как лишний раз будет неполным звеном цепи, также неполной, и печально то, что чудесные парни, которых ты знаешь, пойдут, чтобы их убивали, или сами будут убивать, не взглянув по-настоящему на лицо, которое показывает им зеркало каждое утро. Да, знаю, знаю, что ты хочешь возразить, да, нельзя требовать, чтобы все люди по-сократовски познавали себя, прежде чем выйти на улицу и лезть в драку с прогнившим обществом и так далее. Но ты, претендующий быть хронистом Бучи, ты сам отрекаешься в час истины, то бишь в час признания онанизма, а ведь я говорю о настоящем человеке, каков он есть, а не о том, что видят прочие, глядя на жизнь через «Капитал» /Лонштейн, сказал мой друг серьезно, и, видимо, очень даже серьезно, если назвал его по фамилии, можешь сколь тебе угодно считать меня подлецом, но вот уже больше получаса, как я вполне разобрался в твоем изобаре и твоем фортране, одним словом, в той аллегории, которую ты под видом онанизма тычешь мне под нос / Ну ладно, сказал раввинчик, как человек, разочарованно отказывающийся от спора / И если я говорю, что ухожу, так, во-первых, я падаю от усталости, и, во-вторых, раз я понял твой сократический метод, не вижу, зачем мне и дальше вникать в технику мастурбации / Ну ладно уж, повторил раввинчик, но мне хотелось бы узнать только одно – твое равнодушие к технике – это опять-таки страусов прием, или ты просто предпочитаешь отрабатывать ее в паре / Вторая гипотеза попала в точку, но раз уж мы зашли так далеко и чтобы ты в свой черед узнал меня чуть лучше и перестал поминать страуса и козла, сообщаю, что у меня нет антионанисти-ческих предрассудков и что не раз в отсутствие кого-то, кто должен бы присутствовать, но не мог или не хотел, я утешался в одиночестве, конечно, без того совершенства, которое мне видится сквозь твои рассуждения / Ну ладно уж, в третий раз сказал раввинчик, на чьем лице впервые появились улыбка и расслабление, тогда ты мне простишь эти явно антифортранные и контризоборные эпитеты / Не скрою, я уже начал сердиться, что ты каждые две минуты. обзываешь меня козлом / Давай выпьем еще мате, сказал Лонштейн, было бы куда дерьмовей, кабы после всего этого трепа ты бы еще обиделся и ушел с убеждением, что это всего лишь тема для болтовни / Уже всходит солнце, сказал мой друг с зевком, который был бы более уместен при закате упомянутого светила, но все равно, налей-ка мне мате и полную рюмку водки, и потом я исчезаю / К тому же мы еще можем поговорить о других вещах, сказал Лонштейн со счастливым видом, лицо его словно обновилось и оживилось от пепельно-грязновато-розового света, сочившегося сквозь занавески. Ты же понимаешь, мы еще можем поговорить о других вещах, старина.
На улице Кловис тоже светало, и Людмила, войдя с мокрой губкой, увидела первый свет зари, от которого ночник поблек и черты лица Маркоса смягчились, – лежа ма спине с закрытыми глазами, он засыпал. Людмила тихонько села на пол, держа в руке губку, будто лампаду в катакомбах; не вставая, осторожным движением она выключила ночник, в полутьме обозначились очертания окна, неясные утренние шумы проникали в жаркую, глухую тишину спальни.
– Я не сплю, полечка, – сказал Маркос, не открывая глаз, – я думал о том, что с пятницы мы вступаем на ничейную землю и что ты еще даже толком не знаешь почему.
– Про Гада я знаю, – сказала Людмила, – но, прижаться, о дальнейшем имею смутное представление.
– . В том, что мы собираемся делать, нет ничего оригинального, разве что необычная география и множественный эффект. За Гада правительства пяти-шести стран должны будут освободить нескольких наших товарищей. О них почти уже забыли, но только не мы, и тут поднимется адская буча из-за национального престижа; это я говорю о более далеком будущем, но я помню, что ты живешь и работаешь здесь. Обдумай это.
– Конечно, я живу здесь, но для меня это все равно, что моя работа, я ведь зарабатываю тем, что играю в разных пьесах, – сегодня это что-то неопределенно славянское, завтра будет драма Пиранделло'или водевиль с музыкой и танцами. Да, конечно, Париж, Париж. Будет непросто привыкать к другой жизни, но, сам видишь, по сути, мне это не в новинку, поменять роль не так уж трудно.
– Возможно, но все равно я должен был тебе сказать. Остальные приготовили себе убежища: у Патрисио и Сусаны есть друзья в Лувене, а Гомес может жить у родителей Моники, они в Люксембурге, у Эредиа есть зацепки в разных местах, Ролан и другие – французы-ветераны, и они играют на своем поле.
– А ты?
– Для меня это не проблема, и для Лонштейна тоже. Бедняга в нашем деле сбоку припека, он связан с нами чем-то таким, чего никто не понимает, даже он сам. В общем, ты поставлена в известность, полечка.
– У тебя еще кровь возле рта, – сказала Людмила, опускаясь на колени у кровати и проводя влажной губкой по губам Маркоса. Когда он пристально посмотрел на нее в тусклом утреннем свете, на фоне белых простыней, Людмила, вытирая ему губы, улыбалась чему-то, возможно, очень далекому, и, когда он заключил ее в объятия и поцеловал в ложбинку между грудями, она прижалась к нему, пряча лицо в копне его вьющихся волос, которые она тихонько покусывала, окутанная ароматом банного мыла и усталого тела.
В какой-то момент этой сумбурной истории мой друг начинает сознавать, что стихия его одолевает, и, когда он берется приводить в порядок свои документы (невозможно описать огромную коробку или суповую миску, в которые он бросал то, что у него называлось «карточками»), иные эпизоды, в свое время казавшиеся важными, жутко умаляются, тогда как всякие глупости, вроде того, как Мануэль ест или что там сказала Гладис о какой-то прическе, наполняют его суповую миску и память, словно-в-бронзе-отлитые. Мой друг прикрывает глаза и думает – вряд ли из-за этого можно его считать кретином, – что забывчивость и память такие же эндокринные железы, как гипофиз и щитовидка, регуляторы наслаждения, ведающие обширными сумеречными зонами и ярчайшими выступами, дабы повседневная жизнь не надорвала наши силы. По мере возможности он накалывает своих мошек в некоем порядке, и Лонштейн, единственный, кому дарована привилегия заглядывать в суповую миску или коробку с листочками, в конце концов согласится, что Буча в целом представлена связно – есть бучевая предыстория, история и постистория, есть удовлетворительная причинная связь, например, пингвин, появляющийся в нужном месте и в нужный момент, – деталь важнейшая. Плохо то, что попадаются карточки, содержание коих ставит в туник, – вы бы посмотрели, как мой друг приставляет к своим вискам большие пальцы обеих рук и потом говорит, не знаю, че, это случилось, кажется, с Эредиа или с Гомесом и Моникой, погоди минутку, – и принимается вертеть карточку и так, и этак, проклиная самоцензуру, южноамериканскую стыдливость; ибо всегда или почти всегда тема была скользкая, а мой друг желал идти по стопам раввинчика и ни о чем не умалчивать – доказательство, что он записал это, что эта карточка здесь, – и именно тогда обе желёзки начинают просеивать отложившееся в памяти, и, более того, тут есть еще одно обстоятельство – Лонштейн первый это замечает, – уже заполняя карточку, мой друг мошенничает, события ведь у него прикрыты словесным облачением, порой не знаешь, кто делал то или иное и для кого, впоследствии мой друг будет оправдываться тем, что, мол, спешил или что надо было дополнить информацию, но Лонштейн взглянет на него с сожалением и поинтересуется, почему в таком-то месте на такой-то карточке все имеет вид увядшего салата, а на другой, если это удобно, расцветает пышной икебаной. Да пойми же ты, все не так просто, с отчаянием рявкает мой друг, пойми же, черт, что описывать эстетично, хотя и не погрешая против истины, это одно, и совсем другое – вот это, то есть когда изымаешь эротизм и прочие сопутствующие темы из рамок эстетики, ибо, оставив их там, ты продолжаешь делать литературу, облегчаешь себе игру, можешь рассказывать или описывать самые немыслимые вещи, так как есть нечто, служащее тебе завесой или алиби, ты рассказываешь гладко и красиво, ты опять-таки распутник с образованием, панегирист левых или правых, хотя сам высокомерно посмеиваешься над этим языком. Easy, easy, советует раввинчик, easy does, baby [101]
– Я тоже об этом подумал, полечка.
Задерживая дыхание, он медленно приподнялся, чтобы снять туфли. Людмила ему помогла, заставила выпить глоток чаю и отправилась искать водку, отказавшись, однако, от мысли о примочке, потому что водка уж слишком отдавала водкой и потому что Маркос тем временем медленно прошел в спальню и, скинув брюки и сорочку, в одних трусах растянулся на кровати и сделал знак Людмиле, – она выключила свет в кухне и в гостиной и пришла к нему со стаканами и с бутылкой водки, которую, несомненно, можно было применить и внутрь. С сигаретой во рту Маркос завел речь о Гаде; Людмила, сидя на полу возле кровати, смотрела на блестевшие в свете ночника вьющиеся волосы Маркоса. Скоро рассвет, но спать обоим не хотелось. Пусть не будет пошло, пусть блузка, которую Людмила снимала, пока Маркос ей объяснял, что произойдет в пятницу ночью, будет лишь данью повторяющемуся ритуалу, пусть в том, что она расстегнула сандалеты и сняла чулки, будет иной смысл или не будет никакого смысла, кроме желания приблизиться к отдыху, ко сну. В уголках рта у Маркоса еще виднелись следы запекшейся крови. В ванной – странная роскошь – была губка; сквозь клубы дыма Маркос увидел силуэт раздевшейся Людмилы, ее спину, бедра, смуглое, крепко сбитое тело, устремившееся к двери, чтобы принести губку.
* * *
– Будьте любезны, удостоверение личности, – сказал кассир. С небольшими вариантами это требование повторилось в один и тот же час в двадцати трех банковских залах и меняльных конторах Парижа; группа Люсьена Вернея и Ролана действовала умело, и между половиной третьего – время открытия банков – и тремя четвертями третьего шедевры старика Коллинса переменили владельцев и превратились во французские франки. Случилась всего одна заминка в агентстве «Космик» на площади Италии, где кассирша в синем костюме и очках для близоруких принялась проверять купюры с преувеличенной, как счел клиент, тщательностью, и тут кассирша заметила ему, что это ее обязанность, а клиент возразил, что он всего лишь агент из бюро путешествий и что если есть какие-либо сомнения, пусть она тотчас позвонит мсье Макр?пулосу, ГОБелен 45.44. К удивлению клиента, придумавшего Макропулоса лишь для того, чтобы выиграть время и посмотреть, как пойдет дело, прежде чем смываться, эта дама довольно быстро обменяла ему деньги, хотя не без дальнейших рассуждений о своем профессиональном долге. Первый сигнал полиция получила в четверть шестого из филиала «Креди Лионнэ»; вечером в префектуре уже были почти все фальшивые доллары и некоторое количество примет – поскольку группа Люсьена Вернея состояла из парней, которые в своей бездельной жизни куда чаще заходили в банки, чтобы взять деньги, чем чтобы их вложить. По расчетам Люсьена и Ролана, у них мог быть срок в пять-шесть дней до первого прокола или просто доноса; Гомес и Моника, а также Патрисио и Эредиа между тем делали необходимые покупки.
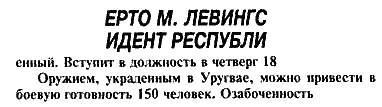
* * *
Стремление покончить с Онаном [98], сколь это ни парадоксально, было, видимо, одной из причин, побудивших Лонштейна говорить с Онаном как с одним из многих воображаемых чудищ-людоедов, коих еще никому не удалось уничтожить, этого скопища подсознательных чудищ, истинных властителей дневной гармонии, которая обычно именуется нравственностью и которая в любой день может обернуться – индивидуально, неврастенией и кушеткой психоаналитика, и – также в любой день – коллективно, фашизмом и/или расизмом. Че, старик, бормотал мой друг, подавленный огромностью подтекста и подсмысла рассуждении раввинчика, было, однако, бесполезно всякими там «заткни фонтан» или «давай кончай, олух» охладить желание Лонштейна высказаться, его раскольниковскую страсть к беседе с глазу на глаз – создавалась некая гротескная сага нисхождения Гильгамеша или Орфея в преисподнюю либидо; что толку, что мой друг то смеялся ему в лицо, то отшатывался, до крайности шокированный этим эксгибиционизмом в четыре утра после пятой рюмки водки, – мало-помалу становилось ясно, что Лонштейн вытаскивал Онана на поверхность не только ради удовольствия придать ему легальный статус или вроде того, нет, вырвать Онана из подсознательного скопища означало убить, по крайней мере, одно из чудищ, а может, и больше, преобразить его приобщением к дневному началу, к открытости, расчудить, сменить его жалкое подпольное обличье на плюмажи и колокола – раввинчик вдруг ударялся в лирику, настаивал и развивал, становился чем-то вроде public-relations [99] и администратора при людоеде, который, в конце-то концов, как многие людоеды, был принцем, ему лишь требовалось чуть-чуть помочь, чтобы он перестал быть чудищем. Мой друг начинал понимать, что Лонштейн действовал по-раввински мудро, избрав одного людоеда из многих и предлагая еще и еще спуститься к преисподнему скопищу, дабы постепенно уничтожить остальных, учинить этакую кромешную Бучу, и, наконец, мой друг осознал, что его роль в эту ночь, если он играет ее честно, состоит в том, чтобы подзуживать, и подстрекать, и разъярять раввинчика, дабы охота на Онана и преображение его могли пригодиться впоследствии, когда он станет хронистом Онана, что Лонштейн считал само собой разумеющимся, и он не ошибался, ибо мой друг не преминул рассказать мне об этой исповеди (я только проснулся поздним утром после тяжелого сна, Людмила спала на диване, никто из нас двоих не завтракал и, похоже, о завтраке не помышлял), и хотя сперва я ничего не понял и даже повел себя как мой друг, то есть осудил Лонштейна, но потом, обдумав этот эпизод всесторонне, я проникся уважением к дерзновенному экзорцизму, ведь и я, на свой жалкий лад, пытался витийствовать с балкона и уничтожать каких-то чудищ, только у меня это был малюхонький балкончик с цветочными горшками, выходящий в патио только к окнам Людмилы и Франсины, индивидуальное, эгоистическое заклятие бесов, пустые слова, дохлая птичка, бесплодная попытка. Но, возможно, что Лонштейн прав, и в Бучу надо включаться самыми различными путями (если предположить, что он или я ясно знаем, о чем речь), во всяком случае, раввинчик толковал моему другу об Онане не просто ради удовольствия, он искал способ притчеобразно соотнести с Бучей (тут, конечно, и фортран!) эту горячечную степень обнаженности слова, показывающую, насколько стриптиз, которому он подверг себя перед моим другом, был, по сути, необходимым условием для Веррьера и ночи в пятницу, для другой охоты на других чудищ, и, хотя это казалось затеей безумных, мой друг и я начинали чувствовать, что в почти немыслимом, бесстыдном поведении Лонштейна было нечто вроде рыцарского бдения во всеоружии перед ночью в Веррьере. И то, что теперь воспринимается всего лишь как безумное сочетание противоречий, может когда-нибудь проясниться для каких-то других людей и для других Буч, а мой друг и я, мы были вроде сивилл и горе-пророков, знающих и не знающих, глядящих друг на друга с видом человека, подозревающего, что другой испустил газы, облегчение всегда предосудительное.
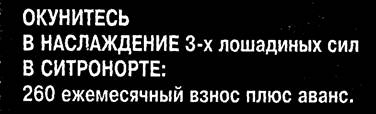
* * *
Сусана, купая и одевая Мануэля, играет с ним и искоса поглядывает на Патрисио, у которого один глаз изрядно заплыл и боль в запястье. Хорошо, еще пригодилось одно из его любимейших буэнос-айресских сокровищ – наручный ремешок, сохранившийся с тех пор, когда он играл в пелоту с ракеткой в Лаурак Бате, и что темные очки полностью скрывают другой его дефект. Три часа дня, но после столь бурной ночи все семейство еще в постели, даже Мануэль, невероятно послушный и не стремящийся задушить себя тальком или ватными тампонами. Обед свелся к походам на кухню за салями, стаканами с молоком и с вином, кусками холодного омлета и полудюжиной бананов – отец, мать и сын чувствуют себя превосходно, нарушая почем зря благонравные обычаи, и, когда является Людмила, встречают ее в белье, угощают кофе с коньяком, приглашают ее
* * *
Эредиа и Гомес корчатся от смеха, читая газеты и глядя на свои опухшие рожи, которые Моника им лечит с видом сестры милосердия и обильным применением ртутной мази. Загадочное появление бирюзового пингвина на берегах Сены в часы рассвета вызвало к жизни две теории, ибо полиция быстро установила причинно-следственную цепочку, начало коей Орли, хотя затем звенья ее рассыпаются: либо на Кэ-дез-Орфевр уже подозревают истинное назначение контейнеров, и это их наводит на
* * *
Одна газета пишет о контрабанде оружием, другая о контрабанде наркотиками. Маркос уже позвонил Оскару, чтобы они покинули отель «Лютеция» – надо сбить с толку муравьев, – а Оскар в это время, лежа в постели, пожирает последний роскошный завтрак, пока Гладис ждет ухода официантки, чтобы принести свой поднос и, присев у кровати на корточки, заняться своей, медицинской частью, и Оскар сообщает ей, что Маркос их ждет в четверть одиннадцатого у Патрисио и что все надежды, которые могли остаться у Гладис на возвращение к ее деятельности стюардессы, терпят крах из-за причинно-следственной цепочки, о каковой говорится в
* * *
– Бедный Педернера, – говорит Гладис, – кто теперь будет приносить ему в кабинет пампельмусовый сок. И Пепите придется работать через силу.
– Этот Педернера, видно, положил на тебя глаз, – говорит Оскар.
– Просто никто не подавал ему сок так деликатно, что он мог не отвлекаться от своего пульта.
– Наконец-то ты, кажется, перескочила через ограду, малышка, – говорит Оскар, соскальзывая с кровати, пока последний круассан скользит по его пищеводу. Гладис смотрит, недоумевая, о какой ограде речь, но Оскар целует ее волосы с чувством блаженства, вероятно, от вкусного рогалика, этого полулуния, но тут также и полнолуние – неумолимый механизм игры слов, открывающий многие двери и освещающий темные закутки. Гладис, узнав новости, не выказала ни малейшего огорчения, значит, так, значит, она перелезла через ограду, как девочки при свете полной луны, она уже по-настоящему в Буче, а тут тебе и ограда, думает Оскар, и открывшаяся улица, хотя бы вся полиция Парижа и все пожарники Ла-Платы гнались за девчонками, ошалевшими от карнавала, за Алисией Кинтepoc, за Гладис, которая швыряет хорошо оплачиваемое место, сулящее солидную пенсию, в лицо капитану Педернере.
* * *
согласен, но почему ты так быстро признал себя побежденным после твоей Йоланды / После Йоланды? / Да, и сдался онанизму, полностью капитулировал, так сказать / Понимаю, ты-то, исполненный надежды, повторил бы все сызнова / Ну, конечно, а что такое любовь, как не постоянное повторение / Проблема не в этом, дружище, полсотни эрудитов всю жизнь допытывались у тени Гоголя, почему он предпочел онанизм браку, не говоря уж о Канте – раз в месяц под деревом, – и, естественно, в каждом случае есть либо Эдипово либо хромосоматическое объяснение, также и у меня наверняка нехватка или излишек молекул «бета», но не это меня интересует, хотя ты, ясное дело, цепляешься за понятие нормального, точно это все еще спасательный жилет. / Но послушай, даже если все сводить к статистике, некое понятие нормального необходимо, чтобы из него исходить / Как тебе угодно, считай, что я ненормальный, и осуждай меня, ни твои понятия, ни твое осуждение меня теперь не волнуют, и я говорю тебе об этом потому, что ты и прочие нормальные, все вы законченные лицемеры, а кому-то надо же исполнять в тысячепервый раз роль шута, и не из самоотверженности, я не жертвую собой ради тебя, нормального самца, но по причине, которую сам не знаю, как назвать, скажем, ради нового начинания / Ну, ну, ты еще и цель себе ставишь / Да нет же, балда, я говорю не об онтологическом начинании, хотя и там необходимы шуты, чтобы перевертывать премногие омлеты, поджариваемые мадам Историей, я говорю о начинании другого рода, если угодно, вроде того, что должен был предпринять де Сад, начинании, которое предстает главным образом как разрушение, как низвержение идолов, дабы потом, когда-нибудь, явились те жуткие трудящиеся, как говорил тип из Харара, или тот новый человек, которым так озабочен Маркос и вся эта шайка Бучи, и тогда я открою дверь и скажу, что все мы Онаны, сперва по очевидным причинам детского возраста, а затем – из-за того, что, хотя одинокое наслаждение несовершенно, однобоко, эгоистично и гнусно, сколь те6e угодно, но это не порок, а главное, не отрицание мужественности и женственности, нет, нет, напротив, но вот ты уже задрал нос и глядишь на меня так, будто никогда не занимался онанизмом после четырнадцати лет, ты, страус дерьмовый / Че, я ведь даже рта не раскрыл, чего ты / Ладно, никто не требует, чтобы ты объявлял во всеуслышание о своих сексуальных причудах, лучше предаваться им, чем о них рассказывать, однако вот тебе ближайший пример – Буча провозглашается средством уничтожения призраков, мнимых преград и прочих понятий из марксистского словаря, в котором я не силен, но которым ты сразу же мысленно украсишь список общественных и личных заблуждений и язв, подлежащих уничтожению, и, если это верно, я считаю своим долгом также внести посильную лепту, и защита онанизма годится не только для этого – сама по себе она не так уж важна, – но потому, что она помогает произвести многие другие необходимые разломы в схеме антропоса / Ладно, согласен, но то же можно сказать о лесбиянстве и других, многих других вещах, о вкладах по почте, о лотерее и прочем / Разумеется, но согласись, что с гомосексуализма табу уже частично снято, и с каждым днем не только его практика становится все очевидней, но сам этот факт и его словесное выражение становится обычным и эффектным элементом словарей и послеобеденных бесед, чего не происходит с мастурбацией, которой грешат все, но которая присутствует и языке лишь как тема исхода детства / И ты действительно полагаешь, что все? / Конечно, женатые или холостые, это не имеет значения. Стоит какой-нибудь паре разлучиться по любой мимолетной причине – от поездки до упорного гриппа, – большинство этим занимается, а что до холостяков, не пересказывать же тебе казарменные, тюремные или моряцкие анекдоты, чтобы это знать, ты сам можешь составить свой карманный сборник, – поспрашивай у хорошо знакомых женщин, не балуются ли они пальчиком перед сном, когда остаются одни, и они это подтвердят, ведь у них это менее хлопотно, чем у нас, и такое признание не повредит доброму имени и чести, тогда как для нас сказать, что ты даже изредка онанируешь, порочит твою мужественность и мораль того, кто признался, или того, кто дал себя поймать с поличным, и идиотизм именно в этом, в том, что между фактом и признанием его такой разрыв, что все это продолжает совершаться под знаком табу, вот почему каждый снова становится Онаном, которому его отец Иуда велел лечь с женой брата, дабы обманом дать ему потомство, и Онан отказывается, зная, что его дети не будут признаны его детьми, и, прежде чем возлечь с невесткой, онанирует – в действительности технически это, видимо, был просто coitus interruptus [100], и тогда Иегова на него осердился и его умертвил; вот в этом вся штука – в том, что Иегова осуждает и мечет молнии, с тех пор это застряло у нас в душе, coitus interruptus кажется нам вполне дозволенным, но на мастурбации лежит табу Онана, и отсюда мысль, что она грех, что она постыдна, что это ужасная тайна. Из всего этого, сказал Лонштейн, вздохнув так, будто выбрался из пучин Мальстрёма, я создал истинное произведение искусства, изобор и технику, которой, увы, немногие сумеют овладеть, ибо, онанируя с чувством вины, они это делают примитивно и из срочной необходимости – как иные бегут к девкам, – без утонченности самодовлеющего сексуального наслаждения. Парный эротизм породил литературу, которая удваивает, отражает и обогащает описываемую реальность, ее чарующую диалектику: одно дело заниматься любовью, другое – читать, как это делается; но так как для меня пара невозможна и женщины мне скучны во всех смыслах, пришлось мне создать собственную онанистическую диалектику, мои фантазии, еще не записанные, но столь же – или еще более – богатые, как эротическая литература. / Не менее того? / Да, не менее того / Ну, знаешь, когда я в пятнадцать или шестнадцать лет занимался онанизмом, я воображал, что держу в объятиях Грету Гарбо или Марлен Дитрих, тоже, как видишь, дерзал, так что мне непонятна особая ценность твоих фантазий / Они развиваются не совсем в том плане, хотя и допускают куда более головокружительные видения, чем твои Греты или Марлен, самое важное тут исполнение, в нем-то все искусство. Для тебя все дело в умелой руке, тебе неведомо, что первая ступенька к истинной вершине фортрана состоит в полном отказе от употребления руки /Да, знаю, всякие приспособления, резиновые куклы, обработанные губки, пятнадцать способов применения подушки, согласно герру доктору Баренсу / И чего это ты так горячишься? Пары с воображением тоже применяют всяческие приспособления, подушки и кремы. Эредиа тут показывал руководство по позам, привезенное из Лондона и действительно превосходное; будь у меня средства, а главное, желание, и бы издал учебник по технике мастурбации, и ты увидел бы, сколько тут возможностей, а уж бестселлером он был бы наверняка, но, во всяком случае, я могу тебе их описать / Я пошел, че, уже поздно / Иначе говоря, ты не хочешь меня слушать / Ты мне надоел, мой мальчик / Козел, сказал Лонштейн, я-то думал, что растолковал тебе, почему я с тобой об этом говорю / Я понимаю, старик, понимаю, но все равно ухожу / Козел, трус, и ты, и все ны, и вы еще хотите делать революцию и низвергнуть идолов империализма или черт знает как вы их называете, вы, не способные честно смотреть на себя в зеркало, проворные, когда надо нажать на гашетку, и хлипкие, как малиновое мороженое / я его ненавижу /, когда речь идет о настоящей борьбе, борьбе спелеологической, доступной здесь наверху для каждого мало-мальски стойкого человека / Че, я раньше не замечал у тебя этих мыслишек о лучшем будущем / Ты ничего обо мне не знаешь, даже не знаешь, какого цвета эта сорочка на мне, ты, лживый свидетель Буч, тоже лживых / Значит, ты думаешь, что Буча это ложь? / Нет, не в том суть, сказал Лонштейн, слегка раскаиваясь, она наполовину ложь, потому как лишний раз будет неполным звеном цепи, также неполной, и печально то, что чудесные парни, которых ты знаешь, пойдут, чтобы их убивали, или сами будут убивать, не взглянув по-настоящему на лицо, которое показывает им зеркало каждое утро. Да, знаю, знаю, что ты хочешь возразить, да, нельзя требовать, чтобы все люди по-сократовски познавали себя, прежде чем выйти на улицу и лезть в драку с прогнившим обществом и так далее. Но ты, претендующий быть хронистом Бучи, ты сам отрекаешься в час истины, то бишь в час признания онанизма, а ведь я говорю о настоящем человеке, каков он есть, а не о том, что видят прочие, глядя на жизнь через «Капитал» /Лонштейн, сказал мой друг серьезно, и, видимо, очень даже серьезно, если назвал его по фамилии, можешь сколь тебе угодно считать меня подлецом, но вот уже больше получаса, как я вполне разобрался в твоем изобаре и твоем фортране, одним словом, в той аллегории, которую ты под видом онанизма тычешь мне под нос / Ну ладно, сказал раввинчик, как человек, разочарованно отказывающийся от спора / И если я говорю, что ухожу, так, во-первых, я падаю от усталости, и, во-вторых, раз я понял твой сократический метод, не вижу, зачем мне и дальше вникать в технику мастурбации / Ну ладно уж, повторил раввинчик, но мне хотелось бы узнать только одно – твое равнодушие к технике – это опять-таки страусов прием, или ты просто предпочитаешь отрабатывать ее в паре / Вторая гипотеза попала в точку, но раз уж мы зашли так далеко и чтобы ты в свой черед узнал меня чуть лучше и перестал поминать страуса и козла, сообщаю, что у меня нет антионанисти-ческих предрассудков и что не раз в отсутствие кого-то, кто должен бы присутствовать, но не мог или не хотел, я утешался в одиночестве, конечно, без того совершенства, которое мне видится сквозь твои рассуждения / Ну ладно уж, в третий раз сказал раввинчик, на чьем лице впервые появились улыбка и расслабление, тогда ты мне простишь эти явно антифортранные и контризоборные эпитеты / Не скрою, я уже начал сердиться, что ты каждые две минуты. обзываешь меня козлом / Давай выпьем еще мате, сказал Лонштейн, было бы куда дерьмовей, кабы после всего этого трепа ты бы еще обиделся и ушел с убеждением, что это всего лишь тема для болтовни / Уже всходит солнце, сказал мой друг с зевком, который был бы более уместен при закате упомянутого светила, но все равно, налей-ка мне мате и полную рюмку водки, и потом я исчезаю / К тому же мы еще можем поговорить о других вещах, сказал Лонштейн со счастливым видом, лицо его словно обновилось и оживилось от пепельно-грязновато-розового света, сочившегося сквозь занавески. Ты же понимаешь, мы еще можем поговорить о других вещах, старина.
* * *
На улице Кловис тоже светало, и Людмила, войдя с мокрой губкой, увидела первый свет зари, от которого ночник поблек и черты лица Маркоса смягчились, – лежа ма спине с закрытыми глазами, он засыпал. Людмила тихонько села на пол, держа в руке губку, будто лампаду в катакомбах; не вставая, осторожным движением она выключила ночник, в полутьме обозначились очертания окна, неясные утренние шумы проникали в жаркую, глухую тишину спальни.
– Я не сплю, полечка, – сказал Маркос, не открывая глаз, – я думал о том, что с пятницы мы вступаем на ничейную землю и что ты еще даже толком не знаешь почему.
– Про Гада я знаю, – сказала Людмила, – но, прижаться, о дальнейшем имею смутное представление.
– . В том, что мы собираемся делать, нет ничего оригинального, разве что необычная география и множественный эффект. За Гада правительства пяти-шести стран должны будут освободить нескольких наших товарищей. О них почти уже забыли, но только не мы, и тут поднимется адская буча из-за национального престижа; это я говорю о более далеком будущем, но я помню, что ты живешь и работаешь здесь. Обдумай это.
– Конечно, я живу здесь, но для меня это все равно, что моя работа, я ведь зарабатываю тем, что играю в разных пьесах, – сегодня это что-то неопределенно славянское, завтра будет драма Пиранделло'или водевиль с музыкой и танцами. Да, конечно, Париж, Париж. Будет непросто привыкать к другой жизни, но, сам видишь, по сути, мне это не в новинку, поменять роль не так уж трудно.
– Возможно, но все равно я должен был тебе сказать. Остальные приготовили себе убежища: у Патрисио и Сусаны есть друзья в Лувене, а Гомес может жить у родителей Моники, они в Люксембурге, у Эредиа есть зацепки в разных местах, Ролан и другие – французы-ветераны, и они играют на своем поле.
– А ты?
– Для меня это не проблема, и для Лонштейна тоже. Бедняга в нашем деле сбоку припека, он связан с нами чем-то таким, чего никто не понимает, даже он сам. В общем, ты поставлена в известность, полечка.
– У тебя еще кровь возле рта, – сказала Людмила, опускаясь на колени у кровати и проводя влажной губкой по губам Маркоса. Когда он пристально посмотрел на нее в тусклом утреннем свете, на фоне белых простыней, Людмила, вытирая ему губы, улыбалась чему-то, возможно, очень далекому, и, когда он заключил ее в объятия и поцеловал в ложбинку между грудями, она прижалась к нему, пряча лицо в копне его вьющихся волос, которые она тихонько покусывала, окутанная ароматом банного мыла и усталого тела.
* * *
В какой-то момент этой сумбурной истории мой друг начинает сознавать, что стихия его одолевает, и, когда он берется приводить в порядок свои документы (невозможно описать огромную коробку или суповую миску, в которые он бросал то, что у него называлось «карточками»), иные эпизоды, в свое время казавшиеся важными, жутко умаляются, тогда как всякие глупости, вроде того, как Мануэль ест или что там сказала Гладис о какой-то прическе, наполняют его суповую миску и память, словно-в-бронзе-отлитые. Мой друг прикрывает глаза и думает – вряд ли из-за этого можно его считать кретином, – что забывчивость и память такие же эндокринные железы, как гипофиз и щитовидка, регуляторы наслаждения, ведающие обширными сумеречными зонами и ярчайшими выступами, дабы повседневная жизнь не надорвала наши силы. По мере возможности он накалывает своих мошек в некоем порядке, и Лонштейн, единственный, кому дарована привилегия заглядывать в суповую миску или коробку с листочками, в конце концов согласится, что Буча в целом представлена связно – есть бучевая предыстория, история и постистория, есть удовлетворительная причинная связь, например, пингвин, появляющийся в нужном месте и в нужный момент, – деталь важнейшая. Плохо то, что попадаются карточки, содержание коих ставит в туник, – вы бы посмотрели, как мой друг приставляет к своим вискам большие пальцы обеих рук и потом говорит, не знаю, че, это случилось, кажется, с Эредиа или с Гомесом и Моникой, погоди минутку, – и принимается вертеть карточку и так, и этак, проклиная самоцензуру, южноамериканскую стыдливость; ибо всегда или почти всегда тема была скользкая, а мой друг желал идти по стопам раввинчика и ни о чем не умалчивать – доказательство, что он записал это, что эта карточка здесь, – и именно тогда обе желёзки начинают просеивать отложившееся в памяти, и, более того, тут есть еще одно обстоятельство – Лонштейн первый это замечает, – уже заполняя карточку, мой друг мошенничает, события ведь у него прикрыты словесным облачением, порой не знаешь, кто делал то или иное и для кого, впоследствии мой друг будет оправдываться тем, что, мол, спешил или что надо было дополнить информацию, но Лонштейн взглянет на него с сожалением и поинтересуется, почему в таком-то месте на такой-то карточке все имеет вид увядшего салата, а на другой, если это удобно, расцветает пышной икебаной. Да пойми же ты, все не так просто, с отчаянием рявкает мой друг, пойми же, черт, что описывать эстетично, хотя и не погрешая против истины, это одно, и совсем другое – вот это, то есть когда изымаешь эротизм и прочие сопутствующие темы из рамок эстетики, ибо, оставив их там, ты продолжаешь делать литературу, облегчаешь себе игру, можешь рассказывать или описывать самые немыслимые вещи, так как есть нечто, служащее тебе завесой или алиби, ты рассказываешь гладко и красиво, ты опять-таки распутник с образованием, панегирист левых или правых, хотя сам высокомерно посмеиваешься над этим языком. Easy, easy, советует раввинчик, easy does, baby [101]
