Страница:
– Если речь пошла о вермишели, а главное, о слизняках, – сказал Лонштейн, – я всех зовприглашаю ко мне посмотреть, как растет мой гриб.
– Уж верно, будет лучше, чем все эти ребячества, – сказал я, силясь не уснуть. – Глядите, как бы кто-нибудь в полиции не решил, что с него довольно, и устроят они тогда генеральную уборку, выметут вас за границу, и посыплются мне открытки из Бельгии и Андорры.
– Похоже, ты нарочно стараешься не понимать, – сказала Сусана, подавая мне уже сильно разбавленный мате.
– Ничего он не старается, – сказала Людмила, – это у него само так выходит.
Маркос смотрел на нас как бы издали, но Сусана и Патрисио явно искали повода для ссоры со мной, и началось зачем ты живешь, если весь ты сплошное равнодушье (похоже на строчку из болеро) Людмила по крайней мере поможет нам наготовить еще спичечных коробков (о да, о да) и вот например Фернандо, он только приехал и уже понимает лучше тебя, что происходит во Франции (возможно, но я еще не совсем) по-моему я всех зовпригласил, но вы что-то отклосвернули в другую сторону (объясни, что это за гриб) это невозможно, гриб разрастается за пределы экзегезы (завари-ка еще мате), а больше его нет, и так постепенно все осознали, что уже двадцать минут четвертого и что некоторым на работу с утра, но перед прощаньем Патрисио достал газетную вырезку и вручил ее Маркосу, который вручил ее Лонштейну, который вручил ее Сусане.
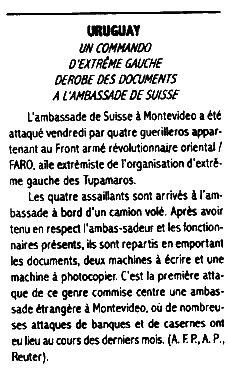
Переведи это для Фернандо, приказал Патрисио, и в Уругвае группа боевиков крайней левой захватила документы в швейцарском посольстве. На посольство Швейцарии в Монтевидео было совершено нападение четырьмя партизанами, принадлежащими к Восточному Революционному Вооруженному Фронту (ВРВФ), экстремистскому крылу крайней левой организации Тупамаро. – Автор нагромоздил тут столько крайностей и экстремизма, что середины не видно. – Четверо нападавших подъехали к посольству на украденном грузовике. Приказав послу и сотрудникам посольства стоять с поднятыми руками, они захватили документы, две пишущие машинки, фотокопировальный аппарат и удалились. Это первое нападение на иностранное посольство в Монтевидео, где за последние месяцы было совершено много нападений на банки и полицейские участки (АФП, АП, Рейтер). Налей ты еще мате, я же не могу повсюду поспеть.
– Крутые ребята эти тупамаро, – сказал Патрисио. В это время Лонштейн показывал Фернандо наброски поэмы, чилийца в эту ночь все опекали, а я меж тем развлекался, еще раз спрашивая у Маркоса, а главное у Патрисусаны, какой смысл в этих более или менее рискованных шалостях, которыми они занимаются с бандой французов и латиноамериканцев, – особенно же после чтения уругвайской телеграммы, которая все их дела сводит на нет, уж не говоря о многих других телеграммах, которые я читал днем и где, как обычно, были внушительные цифры пытаемых, убитых и арестованных в разных наших странах, и Маркос смотрел на меня молча, будто забавляясь, проклятущий тип, меж тем как Сусана на меня наступала, держа по вилке в каждой руке, по ее мнению, устраивать вой в кино не менее опасно, чем отобрать у швейцарского посла две пишущие машинки, а Патрисио как бы просил разрешения или вроде того у Маркоса (ребята, видимо, в смысле иерархии неплохо организованы, хотя во внешнем поведении это, к счастью, не было заметно), чтоб выдать мне речугу из тех, что Лонштейн назвал бы аргумскорблением, и под конец, когда Людмила уснула на ковре и я понял, что, по сути, пора уходить, по рукам пошла поэма, или как ее там, тут уж ничего не поделаешь, не говоря о том, что Патрисио, слегка удивленный ее содержанием, для него неожиданным, передал ее Сусане, приказав прочитать вслух. По сей причине нам перед уходом довелось еще выслушать лонштейновские
Карточки для закладки в IBM
На обочине дорог
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
(traveler's cheque are welcome [39])
ESSO BP YPF
ROYAL DUTCH SUPERCORTEMAGGIORE *
Придорожные столбы на обочине дорог храмы
snack-bars [42]и нужники
дряблые лингамы которые жрец в синей форме и фуражке с козырьком поднимает и сует в отверстие ВАШЕЙ МАШИНЫ, и вы смотрите чтобы он дал сдачу ДВАДЦАТЬ ЛИТРОВ РЕЗИНА ВОДА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
придите и поклонимся
hoc signo vinces [43]
СУПЕР: самый надежный.
Его храм пахнет огнем
Его храм пахнет кровью
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ДРУГИЕ
Да, у нас есть в резерве, они нас защитят
храм техники, запасные части
БОГА МЕРТВОГО ЗАМЕНИМ БОГОМ НОВЫМ
Это уже бывало и мир не провалился в тартарары***
На обочине кроватей
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
их мурлыкающие названия
покой, покой, покой
от половины одиннадцатого вечера до шести утра
аминь
И ГРОЗНЫЕ
героические
к которым взывают в часы тоски
загадочные заступники
пред таинственными Матерями с неведомыми именами
и трехгранный CORTISON
На обочине дорог
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
МИРСКИЕ БОГИ
воплощенные
сыны и дщери Бога
погибшие на кресте (на разбившемся самолете)
или под сенью дерева Боди (швейцарская клиника с садом)
молись за нас грешных
над нашими веснушками прыщами грудями и бедрами смилуйся, владычица
laudate adoremus [44]
На обочине жизни
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
(операторы компьютера могут дополнить информацию)
Стало быть, подумал мой друг, спускаясь по лестнице после обычного своего прощанья, которое, по сути, сводилось к тому, чтобы ни с кем не прощаться, если надо писать текст с идеологическим и даже политическим содержанием, раввинчик отказывается от своего оригинального устного языка и изъясняется на самом что ни на есть пристойном литературном. Странно, странно. А как поступал бы Маркос, кабы перипетии Бучи сделали его когда-нибудь тем, что в ассирийских табличках называется «начальник над людьми»? Его обычная речь похожа на его жизнь, это смесь иконоборчества и творчества, реакция сознательного революционера на всю систему; но уже Владимир Ильич, не говоря о Льве Давидовиче и – более близком нам и нашему времени – Фиделе, вряд ли понимал, как далеко от слова до дела, от улицы до кормила власти. И все же задаешься вопросом о причине этого перехода от речи, обусловленной жизнью, как речь Маркоса, к жизни, обусловленной речью, вроде правительственных программ и неоспоримого пуританства, таящегося в революциях. А что, если когда-нибудь спросить у Маркоса, забудет ли он свое «к черту» и «к такой-то матери» в случае, если придет его час приказывать; конечно, это лишь умозрительная аналогия, дело не в словечках, а в том, что скрыто за ними, божество плоти, великая жаркая река любви, эротика революции (пусть не этой, но ближайших, тех, что еще впереди, то есть почти всех), которой когда-то придется подбирать другую дефиницию человека, ибо, насколько мы видим, у нового человека обычно проглядывает обличье старого, едва он увидит мини-юбку или фильм Энди Вароля. Ах, все это ни к чему, подумал мой друг, ребята из Бучи и так достаточно теоретизируют, чтобы еще мне добавлять эти свои чепуховые и явно излишние размышления. Но я хотел бы знать, что об этом думает Маркос и как бы он жил, если бы настал его час.
Была еще глубокая ночь, но на маленькой площади Фальгьер нас поджидал как бы предрассветный ветер. Людмила, пока мы шли по улицам, почти не разговаривала, видно, была сонная и покорно разрешала себя вести; я снял куртку, накинул ей на плечи. Хорошо бы найти такси, сказал я без всякой надежды. Ради десятка кварталов, дурачок, когда так приятно идти пешком в это время. Но ты же устала, озябла. Чепуха, сказала Людмила. Во всяком случае, дело было не в этом. А в чем же – но после такой ночи я был не способен связно размышлять. Завтра я усну прямо на сцене, надо будет воспользоваться моментом, когда старик пытается меня соблазнить на диване, ох и дрянная же пьеса, пять месяцев ежедневно это говно, и еще как аплодируют, а в театре прямо разит гнилью. Вот где надо бы продавать окурки, Андрес, мы должны им немного помочь.
– Не знаю, – сказал я, заставляя ее ускорить шаг, холод пробирал меня до желудка, если то был холод. – Я уже отказался от попыток чрезмерно вникать в их дела, но ты же видела – баклажаны, да шпагаты, да горелые спички, месяцами они заняты этой ерундой, и что с того.
– Маркос до сих пор об этом почти не говорил.
– Да. Вопрос – почему?
– Он Лонштейна привел как предлог затронуть эту тему так, чтобы не показалось слишком нарочито, и обращался к нам двоим. У Патрисио это повторилось, все время у меня было впечатление, словно он нас ищет, надеется, что-то в этом роде. Какими глазами он смотрел на нас.
– Тебе холодно, Людлюд. И зачем только мы засиделись так поздно, при твоей работе это безумие, ты захвораешь.
– Ба, из-за одного раза! Мне понравилось, я же не жалуюсь, и Лонштейн, со своими цветами в пятнах и поэмой, это что-то невероятное. С каждым разом он мне кажется все более сложным и одновременно все более простым, ну, как Маркос, но в другом плане, хотя еще неизвестно, насколько в другом, интересно знать, было ли такое же различие между Лениным и Рембо. Конечно, разные профессии, главное, разные словари и цели, но в основе, в основе…
Она обозначала основу, указывая рукой вниз, на плиты тротуара. Я привлек ее к себе, погладил ее маленькие груди, почувствовал, что она вся какая-то зажатая, далекая, мне стало еще холодней, и я рассмеялся – в самом деле, сравнивать Маркоса с Лениным, уж не говоря о другом сопоставлении. Но Людмила все указывала на основу, опустив голову, точно пряча лицо от холодного ветра, и молчала, и вдруг она тоже засмеялась и рассказала мне про Мануэля, про пипку спящего Мануэля, какое чудо были эти два крохотных пальчика Мануэля, охвативших розовую пипку, не прижимая ее, но изумительно нежно придерживая. Такого в театре никогда не увидишь, такого явления благодати, такого потрясающего (но также нежного) впечатления от невинности, утраченной теми, кто смотрит на действительность по-взрослому, с другого берега, носясь со своими идиотскими грехами, желтыми в пятнах цветами, взятыми с трупов индусов.
Раздевшись догола, изнеможенные, сделав последний глоток остывшего мате, Патрисио и Сусана лежали рядом с Мануэлем, который сбросил простынку на пол и спал ничком, похрапывая. У него на затылке складочка, с восхищением сказал Патрисио. Уже две недели, как появилась, обиженно сказала Сусана, складочка, точно как были у тебя на том фото, которое мне дала твоя мама, когда приезжала в Париж. Старуха хотела меня уязвить, это ж надо, дарить тебе такое, а ну-ка, дай сюда, посмотрю, верно ли это. Дудки, сказала Сусана, я знаю, ты хочешь фото сжечь, сеньору не терпится уничтожить следы прошлого, эх ты, дурень ты этакий, фото я надежно спрятала вместе с моими любовными письмами, ты его никогда не найдешь, погаси свет, я уже без сил, такой день, такая ночь, такая жизнь, ах, ах. Комедиантка. Болван. Значит, любовные письма. Конечно, от балканского графа, того, что мне хотел подарить зеленый бриллиант, единственный в мире, а я не приняла, он наверняка был фальшивый или же упал в хорошо заваренный мате. Да не смейся так, разбудишь ребенка, нам пришлось дать ему ложку успокоительного, он весь прямо искрился, но теперь неизвестно, до каких пор он будет спать. Еще спасибо, что вы не подержали его у газового крана. Чудовище. Спокойной ночи, милашка. Тебе также, противный. А Фернандо симпатичный парень, правда? Да, только он еще не вполне встал на задние ноги. Да не смейся же, ты его разбудишь. Убери руку с моего рта, ммм. Спокойной ночи, мой цветочек. И тебе также, пых-пых, спичка. Завтра в одиннадцать надо быть у Гомеса, беднягу выгнали из ресторана, это можно было предвидеть. Не думаю, чтобы он огорчился, такую работу найти нетрудно, ведь метекам почти ничего не платят. Как тебе понравился Андрес в эту ночь? Гм. Не знаю, почему Маркос его так тщательно прощупывает. Сколько шипящих, болтушка. Спи, образина. Насчет фото мы еще с тобой потолкуем, напрасно ты думаешь, что я потерплю в доме подобную иконографию. Возможно, когда-нибудь, а пока я ее храню. У, ископаемое. Голый младенец на шкуре пумы, ах ты, осел. Это ты выпросила фото. Ладно уж, скелетина, а почему у этого чилийца такое странное произношение? Спроси у своего балканского графа, малышка. Это невозможно, его убили в финале партии в покер в пятнадцатой главе, автор Эрик Амблер. Ну тебя, с твоими кровавыми книжными любвями. Не предавайся ретроспективной ревности, моим единственным возлюбленным был парикмахер из Альмагро, а потом, в злосчастный день, появился ты. Все парикмахеры педики. В Альмагро и думать не моги. Я из Ла-Патерналь, че, мне незачем знать, что там творится за границей. Кому ты это рассказываешь. Спи, любовь моя. Сплю, и ты спи, и уже протянулся какой-то серый коридор, Сусана видела a fulltime [45] сон из своей жизни, рука Патрисио, лежавшая на ее бедрах, была тем розовым платьем, которое ей тесновато, и Мануэль остался один в доме, где полно собак и карликов, как она могла его там оставить, надо спешить, повторяющийся кошмар, но, пожалуй, спешить не стоило, я обхватил Людмилу за талию и почти бегом провел ее последние два квартала, еле живые от холода и желания лечь спать, мы прошли по улице Просессион на улицу Уэст, home sweet home [46], всего лишь пять этажей без лифта, и на третьем опять о Мануэле, какой милашка этот Мануэль, когда держит пипку пальчиками. Впопыхах готовя ей очень горячий чай с ромом и лимоном (афония, этот театральный бич, все что угодно, только не потерять голос), я в тысячный раз подумал, что, без сомнения, в конце концов, уже пора, что я был слишком эгоистичен, – принес ей чай в постель и, раздеваясь, все это ей выложил.
– Нет, не надо, лучше не надо, – сказала Людмила. – Я могу говорить о Мануэле совершенно спокойно, без всякого надрыва. Театр и материнство плохо совмещаются, вдобавок уже поздно.
– Нет, не поздно, Люд. До сих пор мы не хотели, я согласен, но я сам не знаю, ты так говоришь о Мануэле, и потом, черт возьми, всегда находится какой-то выход, только идеальным отцом я не буду, это точно.
– Поздно, – повторила Людмила, она пила чай, не глядя на меня. – Поздно уже, Андрес.
Я взял у нее чашку, лег, стараясь согреться, ноги Людмилы заскользили по моим ногам, теплые собачки – конечно, Франсина, Неодолимо. Но не только это, Людмила закрыла глаза и покорялась тому, что руки Андреса медленно ласкали ее, очерчивая в темноте ее тело, и в какой-то миг Андрес снова включил свет, они никогда не занимались любовью в темноте, им надо было видеть друг друга, насладиться всей полнотой бытия, отказаться от какого-либо из пяти чувств было бы плевком в лицо жизни, и дело не только во Франсине, хотя и в ней тоже, ведь если б они дали себе волю и сделали ребенка, ей было бы безразлично, будет ли отцом Андрес или кто-то другой, хотя кого-то другого не было, ей было бы безразлично, потому что Андрес уходит и приходит, Франсина или другая, было бы безразлично, ведь, по сути, он бы не был отцом этого ребенка, он только что сам сказал, что не будет идеальным отцом, в этом вопросе он не способен врать, он ей предлагал нечто такое, с чем она никогда не сможет вполне согласиться. Да не все ли равно теперь, лучше поскорее уснуть, но я не хотел, чтобы она уснула вот так, усталая и грустная, три действия каждый вечер и утренники по воскресеньям, и все же я не мог дать ей вот так погрузиться в забытье, пусть даже тут была Франсина, рыжий инкуб в ночи.
– Да, и из-за этого тоже, из-за твоей манеры жить и желания жить мною, – сказала Людмила. – И Франсина, в случае чего, не захочет иметь от тебя ребенка, она слишком умна, почти как я. Давай спать, Андрес, я совершенно без сил. Нет, пожалуйста, не надо, я чувствую себя вроде тех сигаретных пачек Гомеса. Ах да, я же обещала Сусане прийти и помочь изготовить еще одну партию.
– Ну что ж, придется соединить наши окурки, – сказал я, – тогда наша деятельность, вероятно, станет более захватывающей.
– Не говори глупостей, не надо смотреть на это свысока.
– Но это неизбежный вывод – предъявляешь к жизни огромные требования, доискиваешься до ее глубинного смысла, и обнаруживаешь, что мы идем прямехонько к куче горелых спичек, так ведь. Да, знаю, это фразы, но также – истина, ведь было бы так просто и так благоразумно, Людлюд, ничего тебе не говорить, никогда ни словом не обмолвиться ни о Франсине, ни о какой-либо другой женщине.
– Сказал, и ладно, дурачок, зачем опять возвращаться к этому. Не то чтобы я молитвенно сложила руки, восхищаясь твоей прямотой, ведь в основе тут нечистая совесть, которая любой ценой жаждет отмыться, но эту проблему, Андрес, мы уже обмусолили до тошноты, а все дело в том, что мне следовало иметь от тебя ребенка раньше, когда нас было только двое, и именно поэтому мы не желали быть тремя, не желали детского рева и грязной ваты по всему дому, тебе был необходим порядок, покой и твой Бодлер, а мне репетиции перед зеркалом «все ароматы Аравии не заглушили бы», и так далее. Союз двух Нарциссов, двух законченных эгоистов, подписавших пакт, дабы к тому же чувствовать себя менее эгоистами. И вместо пугающего нас писюна и сосуна является Франсина, свеженькое дитя университета и haute couture [47] со своим красненьким авто, и своим книжным магазином, и своей свободой. Я могу это понять, хотя ни она, ни я никогда не усвоим твоих Сцилл и Харибд, но ребенка я не хочу, уже не хочу. В тот день, когда мой метаболизм потребует этого слишком сильно – кажется, гак было этой ночью, – я лягу с первым, к кому меня потянет, или отправлюсь к Ксавьеру, чтобы он осеменил меня, как корову. Good night, sweet prince [48].
– А я, Люд. Почему ты меня терпишь, если не можешь усвоить мой стиль жизни? Вернее, мой стиль жаждать жизни, который на каждом повороте терпит аварию.
– Потому что я тебя очень люблю, – сказала Людмила, и, по коварству языка, словечко «очень» почти полностью лишало силы слово «люблю», но это была правда, она его очень любила, потому что он был добрый и веселый как котенок, и всегда увлечен неосуществимыми планами, и пластинками экспериментальной музыки, и метафизическими восторгами, и нежными маленькими заботами, он делал нарядными ее дни, как бы завешивал разноцветными занавесками окна времени, играл с нею и разрешал играть собой, уходил к Франсине и возвращался с полным собранием сочинений Роберто Арльта, к тому же время делало свое дело, установилась привычка, такая миленькая квартирка, уже не надо было ничему учиться, ни учить, было вдоволь здоровья и здорового смеха, прогулок под руку по Парижу, встреч с друзьями, был Маркос, сдержанный немногословный корд овец, который что-то часто стал захаживать, разговаривать, приводить Лонштейна, рассказывать об агитпропе, о вое, о спичечных коробках, да так, будто говорил только для нее, хотя Андрес полагал, что это прямо касается его, но почему же «будто», лицемерная полечка, она только что ощутила это, до сих пор ощущала как бы кожей небрежные кордовские интонации Маркоса, говорящего прежде всего для нее, для того, чтобы она поняла, что происходит, пусть это пока не столь существенно, но в конце-то концов будет Буча, полечка.
Я почувствовал, что она отдаляется, поворачивается ко мне спиной, good night, sweet prince, good night, little thing [49], я легонько погладил ее спину, попку и передал ее сну или бессоннице, и, как всегда после долгого разговора, я ее хотел, но знал, что в эту ночь я встречу только покорный механизм, нет, ни за что, go to sleep [50], sweet prince, они в самом деле свихнулись на этих спичках, только подумать, что в Биафре, но нет, че, так ты не уснешь, да еще Лонштейн со своими придорожными богами, что-то не клеится, братец, я же мог остаться дома и слушать «Prozession», зачем мне поддаваться на волну Маркоса, они сумасшедшие, убери волосы, Людлюд, они лезут мне в глаза, ох, извини, я спала, и мне что-то снилось, не извиняйся, глупенькая, мне нравятся твои волосы, спи, забудься, да, Андрес, да.
Теперь, например, кафе у Порт-де-Шамперре, Мануэль совсем ошалел от кусочков сахара и ложечек, гоп-гоп, лошадка / поехали в Вифлеем /, не трудись, этот ребенок не уснет даже от фильма Пазолини, и сквозь платаны на площади вечереющее небо, нежный ветерок, который уносит моего друга в край воспоминаний, к сумеркам в пампе, far away and long ago [51], но в то же время он внимательно наблюдает за тем, что происходит за столом, да почти ничего, вот только Мануэль, хотя так или иначе, думает мой друг, о чем-то они должны заговорить, не зря ведь Ролан и Маркос провели главную часть совещания, не пригласив Лонштейна (а кстати, и меня, и Людмилу, но Людмила не может, because [52] занавес поднимается, и с половины девятого идет славянская меланхолия), то есть в кафе у Порт-де-Шамперре, совсем не в их районе, они засели не для того, чтобы дружески посудачить о том, что творится в мире, сеньор, можете себе представить, донья, хотя покамест самое яркое, что мог отметить мой друг, это погремушка, которой Сусана судорожно трясет, дабы отвлечь Мануэля от снующих вокруг столика выутюженных брюк. И так проходит с полчаса, пока из автобуса № 92 не выходит Гомес и, фактически не здороваясь, подает Маркосу две телеграммы, которые тот прочитывает и без комментариев передает Сусане (над этой девушкой они иногда подшучивают), чтобы она их перевела для Люсьена Вернея, Моники и Ролана, этих закоснелых французов, которым лень сделать малейшее усилие, чтобы изучать языки, хотя так легко понять «ПАПОЧКЕ ЛУЧШЕ ТОЧКА ЦЕЛУЮ КОКА» (это из Буэнос-Айреса) и «A BANANA DO BRAZIL NAG) ТЕМ ЗAROCO» [53], посланную из Лондона, тексты исключительно идиотского содержания для непосвященных, однако же их элементы складываются в тот смысл, что некий Оскар Лемос прилетает в Орли и везет с собой некие вещи, не слишком напоминающие молочные списки, чем отчасти объясняется то, что не пригласили Лонштейна (и меня) явиться раньше в кафе у Порт-де-Шамперре, ибо еще неизвестно, насколько Лонштейн, хотя Маркос говорит «да», но он не спешит и до самого конца предоставит Лонштейну требовать меню или благодарить официанта, в таких случаях обычно можно повременить, но придет момент, когда надо определиться, как может произойти с Людмилой (или со мной, но тут мы еще посмотрим), вот по этим-то причинам у моего друга создается впечатление, что кафе у Порт-де-Шамперре – вроде двускатной крыши с острым коньком, и теперь что-то произойдет, – хотя с виду все идет нормально и Мануэль путешествует от стула к стулу, к ужасу Ролана и Люсьена Вернея, которые уже давно предвидят смачный плевок на незапятнанный лацкан, уж не говоря о лужице, растекшейся без предупреждения, вопреки гарантиям розовых резиновых трусиков.
– Уж верно, будет лучше, чем все эти ребячества, – сказал я, силясь не уснуть. – Глядите, как бы кто-нибудь в полиции не решил, что с него довольно, и устроят они тогда генеральную уборку, выметут вас за границу, и посыплются мне открытки из Бельгии и Андорры.
– Похоже, ты нарочно стараешься не понимать, – сказала Сусана, подавая мне уже сильно разбавленный мате.
– Ничего он не старается, – сказала Людмила, – это у него само так выходит.
Маркос смотрел на нас как бы издали, но Сусана и Патрисио явно искали повода для ссоры со мной, и началось зачем ты живешь, если весь ты сплошное равнодушье (похоже на строчку из болеро) Людмила по крайней мере поможет нам наготовить еще спичечных коробков (о да, о да) и вот например Фернандо, он только приехал и уже понимает лучше тебя, что происходит во Франции (возможно, но я еще не совсем) по-моему я всех зовпригласил, но вы что-то отклосвернули в другую сторону (объясни, что это за гриб) это невозможно, гриб разрастается за пределы экзегезы (завари-ка еще мате), а больше его нет, и так постепенно все осознали, что уже двадцать минут четвертого и что некоторым на работу с утра, но перед прощаньем Патрисио достал газетную вырезку и вручил ее Маркосу, который вручил ее Лонштейну, который вручил ее Сусане.
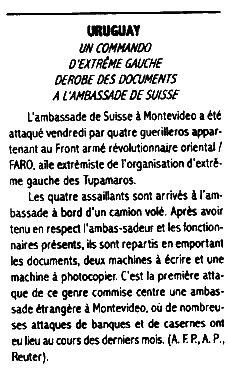
Переведи это для Фернандо, приказал Патрисио, и в Уругвае группа боевиков крайней левой захватила документы в швейцарском посольстве. На посольство Швейцарии в Монтевидео было совершено нападение четырьмя партизанами, принадлежащими к Восточному Революционному Вооруженному Фронту (ВРВФ), экстремистскому крылу крайней левой организации Тупамаро. – Автор нагромоздил тут столько крайностей и экстремизма, что середины не видно. – Четверо нападавших подъехали к посольству на украденном грузовике. Приказав послу и сотрудникам посольства стоять с поднятыми руками, они захватили документы, две пишущие машинки, фотокопировальный аппарат и удалились. Это первое нападение на иностранное посольство в Монтевидео, где за последние месяцы было совершено много нападений на банки и полицейские участки (АФП, АП, Рейтер). Налей ты еще мате, я же не могу повсюду поспеть.
– Крутые ребята эти тупамаро, – сказал Патрисио. В это время Лонштейн показывал Фернандо наброски поэмы, чилийца в эту ночь все опекали, а я меж тем развлекался, еще раз спрашивая у Маркоса, а главное у Патрисусаны, какой смысл в этих более или менее рискованных шалостях, которыми они занимаются с бандой французов и латиноамериканцев, – особенно же после чтения уругвайской телеграммы, которая все их дела сводит на нет, уж не говоря о многих других телеграммах, которые я читал днем и где, как обычно, были внушительные цифры пытаемых, убитых и арестованных в разных наших странах, и Маркос смотрел на меня молча, будто забавляясь, проклятущий тип, меж тем как Сусана на меня наступала, держа по вилке в каждой руке, по ее мнению, устраивать вой в кино не менее опасно, чем отобрать у швейцарского посла две пишущие машинки, а Патрисио как бы просил разрешения или вроде того у Маркоса (ребята, видимо, в смысле иерархии неплохо организованы, хотя во внешнем поведении это, к счастью, не было заметно), чтоб выдать мне речугу из тех, что Лонштейн назвал бы аргумскорблением, и под конец, когда Людмила уснула на ковре и я понял, что, по сути, пора уходить, по рукам пошла поэма, или как ее там, тут уж ничего не поделаешь, не говоря о том, что Патрисио, слегка удивленный ее содержанием, для него неожиданным, передал ее Сусане, приказав прочитать вслух. По сей причине нам перед уходом довелось еще выслушать лонштейновские
ФРАГМЕНТЫ ОДЫ БОГАМ НАШЕГО ВЕКА
Карточки для закладки в IBM
На обочине дорог
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
(traveler's cheque are welcome [39])
AZUR
SHELL МЕХ
TOTAL
ESSO BP YPF
ROYAL DUTCH SUPERCORTEMAGGIORE *
* Их могущество – это грохот, полет, блицкриг. Им приносят в жертву кровь, голых женщин, авторучки, карточки Diner's Club [40], развлечения уик-энда, подростков с темными кругами под глазами, поэтов-стипендиатов («creative writing» [41]), поездки на конференции, планы Камело; за каждого купленного сенатора дается индульгенция на год и т. д.
Придорожные столбы на обочине дорог храмы
snack-bars [42]и нужники
дряблые лингамы которые жрец в синей форме и фуражке с козырьком поднимает и сует в отверстие ВАШЕЙ МАШИНЫ, и вы смотрите чтобы он дал сдачу ДВАДЦАТЬ ЛИТРОВ РЕЗИНА ВОДА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
придите и поклонимся
hoc signo vinces [43]
СУПЕР: самый надежный.
ПОМЕСТИТЕ В ВАШ МОТОР ТИГРА
ПОМЕСТИТЕ ЛИНГАМ БОГА
Его храм пахнет огнем
TOTAL AZUR BP SHELL МЕХ
Его храм пахнет кровью
ELF ESSO ROYAL DUTCH**
** Главные боги (умалчиваем о неназываемых, младших, второстепенных, сопутствующих, двойниках, заместителях); культ главных богов публичный, зловонный и громогласный, его представляют под именем «Положительное», «Праздник», «Свобода». Один день без главных богов – это паралич для рода людского; одна неделя без богов – это смерть для рода людского. Главные боги – совсем недавние, еще неизвестно, останутся ли они или покинут своих поклонников. В отличие от Будды или Христа они – проблема, неопределенность; поклоняться им надлежит горячечно, помещать в мотор тигра, требовать максимальное количество, наполнять баки их холодным, презрительным оргазмом: смотреть, пока еще можно бесплатно, до нового распоряжения, но это также ненадежно, Теологи совещаются: Где находится тайный смысл священных текстов? Поместите в свой мотор тигра: Неотвратимый апокалипсис? Покинут ли нас когда-нибудь главные боги? (Ср. Кавафис.)
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ДРУГИЕ
Да, у нас есть в резерве, они нас защитят
храм техники, запасные части
БОГА МЕРТВОГО ЗАМЕНИМ БОГОМ НОВЫМ
Это уже бывало и мир не провалился в тартарары***
*** Представляется несомненным, говорят теологи, что главные боги не спорят об иерархии; если легкомыслие верующих перемещает симпатии и алтари, если вдруг небольшой божок четвертого порядка (ср. инфра) воцаряется безраздельно среди курильщиков и спортсменов, великие божества, по-видимому, не обращают на это внимания; так-то лучше, говорят теологи, которые в 1950 году затрепетали, когда главный бог Паркер и его сподвижник Уотермен были заменены божочками Бироме, Бик и Фьельтро.
На обочине кроватей
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
EQUANIL
BELLERGAL
OPTALIDON
их мурлыкающие названия
покой, покой, покой
от половины одиннадцатого вечера до шести утра
аминь
И ГРОЗНЫЕ
героические
к которым взывают в часы тоски
загадочные заступники
пред таинственными Матерями с неведомыми именами
ANDROTARDIL TESTOVIRON PROGESTEROL
ERGOTAMIN
и трехгранный CORTISON
На обочине дорог
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
МИРСКИЕ БОГИ
воплощенные
сыны и дщери Бога
погибшие на кресте (на разбившемся самолете)
или под сенью дерева Боди (швейцарская клиника с садом)
HELENA RUBINSTEIN
молись за нас грешных
JACQUES FATH
CARDIN CHANEL
DOROTHY GRAY
над нашими веснушками прыщами грудями и бедрами смилуйся, владычица
YVES SAINT-LAURENT
MAX FACTOR BALENCIAGA
laudate adoremus [44]
На обочине жизни
останавливайтесь
приветствуйте их
совершайте жертвенные возлияния
(операторы компьютера могут дополнить информацию)
* * *
Стало быть, подумал мой друг, спускаясь по лестнице после обычного своего прощанья, которое, по сути, сводилось к тому, чтобы ни с кем не прощаться, если надо писать текст с идеологическим и даже политическим содержанием, раввинчик отказывается от своего оригинального устного языка и изъясняется на самом что ни на есть пристойном литературном. Странно, странно. А как поступал бы Маркос, кабы перипетии Бучи сделали его когда-нибудь тем, что в ассирийских табличках называется «начальник над людьми»? Его обычная речь похожа на его жизнь, это смесь иконоборчества и творчества, реакция сознательного революционера на всю систему; но уже Владимир Ильич, не говоря о Льве Давидовиче и – более близком нам и нашему времени – Фиделе, вряд ли понимал, как далеко от слова до дела, от улицы до кормила власти. И все же задаешься вопросом о причине этого перехода от речи, обусловленной жизнью, как речь Маркоса, к жизни, обусловленной речью, вроде правительственных программ и неоспоримого пуританства, таящегося в революциях. А что, если когда-нибудь спросить у Маркоса, забудет ли он свое «к черту» и «к такой-то матери» в случае, если придет его час приказывать; конечно, это лишь умозрительная аналогия, дело не в словечках, а в том, что скрыто за ними, божество плоти, великая жаркая река любви, эротика революции (пусть не этой, но ближайших, тех, что еще впереди, то есть почти всех), которой когда-то придется подбирать другую дефиницию человека, ибо, насколько мы видим, у нового человека обычно проглядывает обличье старого, едва он увидит мини-юбку или фильм Энди Вароля. Ах, все это ни к чему, подумал мой друг, ребята из Бучи и так достаточно теоретизируют, чтобы еще мне добавлять эти свои чепуховые и явно излишние размышления. Но я хотел бы знать, что об этом думает Маркос и как бы он жил, если бы настал его час.
* * *
Была еще глубокая ночь, но на маленькой площади Фальгьер нас поджидал как бы предрассветный ветер. Людмила, пока мы шли по улицам, почти не разговаривала, видно, была сонная и покорно разрешала себя вести; я снял куртку, накинул ей на плечи. Хорошо бы найти такси, сказал я без всякой надежды. Ради десятка кварталов, дурачок, когда так приятно идти пешком в это время. Но ты же устала, озябла. Чепуха, сказала Людмила. Во всяком случае, дело было не в этом. А в чем же – но после такой ночи я был не способен связно размышлять. Завтра я усну прямо на сцене, надо будет воспользоваться моментом, когда старик пытается меня соблазнить на диване, ох и дрянная же пьеса, пять месяцев ежедневно это говно, и еще как аплодируют, а в театре прямо разит гнилью. Вот где надо бы продавать окурки, Андрес, мы должны им немного помочь.
– Не знаю, – сказал я, заставляя ее ускорить шаг, холод пробирал меня до желудка, если то был холод. – Я уже отказался от попыток чрезмерно вникать в их дела, но ты же видела – баклажаны, да шпагаты, да горелые спички, месяцами они заняты этой ерундой, и что с того.
– Маркос до сих пор об этом почти не говорил.
– Да. Вопрос – почему?
– Он Лонштейна привел как предлог затронуть эту тему так, чтобы не показалось слишком нарочито, и обращался к нам двоим. У Патрисио это повторилось, все время у меня было впечатление, словно он нас ищет, надеется, что-то в этом роде. Какими глазами он смотрел на нас.
– Тебе холодно, Людлюд. И зачем только мы засиделись так поздно, при твоей работе это безумие, ты захвораешь.
– Ба, из-за одного раза! Мне понравилось, я же не жалуюсь, и Лонштейн, со своими цветами в пятнах и поэмой, это что-то невероятное. С каждым разом он мне кажется все более сложным и одновременно все более простым, ну, как Маркос, но в другом плане, хотя еще неизвестно, насколько в другом, интересно знать, было ли такое же различие между Лениным и Рембо. Конечно, разные профессии, главное, разные словари и цели, но в основе, в основе…
Она обозначала основу, указывая рукой вниз, на плиты тротуара. Я привлек ее к себе, погладил ее маленькие груди, почувствовал, что она вся какая-то зажатая, далекая, мне стало еще холодней, и я рассмеялся – в самом деле, сравнивать Маркоса с Лениным, уж не говоря о другом сопоставлении. Но Людмила все указывала на основу, опустив голову, точно пряча лицо от холодного ветра, и молчала, и вдруг она тоже засмеялась и рассказала мне про Мануэля, про пипку спящего Мануэля, какое чудо были эти два крохотных пальчика Мануэля, охвативших розовую пипку, не прижимая ее, но изумительно нежно придерживая. Такого в театре никогда не увидишь, такого явления благодати, такого потрясающего (но также нежного) впечатления от невинности, утраченной теми, кто смотрит на действительность по-взрослому, с другого берега, носясь со своими идиотскими грехами, желтыми в пятнах цветами, взятыми с трупов индусов.
* * *
Раздевшись догола, изнеможенные, сделав последний глоток остывшего мате, Патрисио и Сусана лежали рядом с Мануэлем, который сбросил простынку на пол и спал ничком, похрапывая. У него на затылке складочка, с восхищением сказал Патрисио. Уже две недели, как появилась, обиженно сказала Сусана, складочка, точно как были у тебя на том фото, которое мне дала твоя мама, когда приезжала в Париж. Старуха хотела меня уязвить, это ж надо, дарить тебе такое, а ну-ка, дай сюда, посмотрю, верно ли это. Дудки, сказала Сусана, я знаю, ты хочешь фото сжечь, сеньору не терпится уничтожить следы прошлого, эх ты, дурень ты этакий, фото я надежно спрятала вместе с моими любовными письмами, ты его никогда не найдешь, погаси свет, я уже без сил, такой день, такая ночь, такая жизнь, ах, ах. Комедиантка. Болван. Значит, любовные письма. Конечно, от балканского графа, того, что мне хотел подарить зеленый бриллиант, единственный в мире, а я не приняла, он наверняка был фальшивый или же упал в хорошо заваренный мате. Да не смейся так, разбудишь ребенка, нам пришлось дать ему ложку успокоительного, он весь прямо искрился, но теперь неизвестно, до каких пор он будет спать. Еще спасибо, что вы не подержали его у газового крана. Чудовище. Спокойной ночи, милашка. Тебе также, противный. А Фернандо симпатичный парень, правда? Да, только он еще не вполне встал на задние ноги. Да не смейся же, ты его разбудишь. Убери руку с моего рта, ммм. Спокойной ночи, мой цветочек. И тебе также, пых-пых, спичка. Завтра в одиннадцать надо быть у Гомеса, беднягу выгнали из ресторана, это можно было предвидеть. Не думаю, чтобы он огорчился, такую работу найти нетрудно, ведь метекам почти ничего не платят. Как тебе понравился Андрес в эту ночь? Гм. Не знаю, почему Маркос его так тщательно прощупывает. Сколько шипящих, болтушка. Спи, образина. Насчет фото мы еще с тобой потолкуем, напрасно ты думаешь, что я потерплю в доме подобную иконографию. Возможно, когда-нибудь, а пока я ее храню. У, ископаемое. Голый младенец на шкуре пумы, ах ты, осел. Это ты выпросила фото. Ладно уж, скелетина, а почему у этого чилийца такое странное произношение? Спроси у своего балканского графа, малышка. Это невозможно, его убили в финале партии в покер в пятнадцатой главе, автор Эрик Амблер. Ну тебя, с твоими кровавыми книжными любвями. Не предавайся ретроспективной ревности, моим единственным возлюбленным был парикмахер из Альмагро, а потом, в злосчастный день, появился ты. Все парикмахеры педики. В Альмагро и думать не моги. Я из Ла-Патерналь, че, мне незачем знать, что там творится за границей. Кому ты это рассказываешь. Спи, любовь моя. Сплю, и ты спи, и уже протянулся какой-то серый коридор, Сусана видела a fulltime [45] сон из своей жизни, рука Патрисио, лежавшая на ее бедрах, была тем розовым платьем, которое ей тесновато, и Мануэль остался один в доме, где полно собак и карликов, как она могла его там оставить, надо спешить, повторяющийся кошмар, но, пожалуй, спешить не стоило, я обхватил Людмилу за талию и почти бегом провел ее последние два квартала, еле живые от холода и желания лечь спать, мы прошли по улице Просессион на улицу Уэст, home sweet home [46], всего лишь пять этажей без лифта, и на третьем опять о Мануэле, какой милашка этот Мануэль, когда держит пипку пальчиками. Впопыхах готовя ей очень горячий чай с ромом и лимоном (афония, этот театральный бич, все что угодно, только не потерять голос), я в тысячный раз подумал, что, без сомнения, в конце концов, уже пора, что я был слишком эгоистичен, – принес ей чай в постель и, раздеваясь, все это ей выложил.
– Нет, не надо, лучше не надо, – сказала Людмила. – Я могу говорить о Мануэле совершенно спокойно, без всякого надрыва. Театр и материнство плохо совмещаются, вдобавок уже поздно.
– Нет, не поздно, Люд. До сих пор мы не хотели, я согласен, но я сам не знаю, ты так говоришь о Мануэле, и потом, черт возьми, всегда находится какой-то выход, только идеальным отцом я не буду, это точно.
– Поздно, – повторила Людмила, она пила чай, не глядя на меня. – Поздно уже, Андрес.
Я взял у нее чашку, лег, стараясь согреться, ноги Людмилы заскользили по моим ногам, теплые собачки – конечно, Франсина, Неодолимо. Но не только это, Людмила закрыла глаза и покорялась тому, что руки Андреса медленно ласкали ее, очерчивая в темноте ее тело, и в какой-то миг Андрес снова включил свет, они никогда не занимались любовью в темноте, им надо было видеть друг друга, насладиться всей полнотой бытия, отказаться от какого-либо из пяти чувств было бы плевком в лицо жизни, и дело не только во Франсине, хотя и в ней тоже, ведь если б они дали себе волю и сделали ребенка, ей было бы безразлично, будет ли отцом Андрес или кто-то другой, хотя кого-то другого не было, ей было бы безразлично, потому что Андрес уходит и приходит, Франсина или другая, было бы безразлично, ведь, по сути, он бы не был отцом этого ребенка, он только что сам сказал, что не будет идеальным отцом, в этом вопросе он не способен врать, он ей предлагал нечто такое, с чем она никогда не сможет вполне согласиться. Да не все ли равно теперь, лучше поскорее уснуть, но я не хотел, чтобы она уснула вот так, усталая и грустная, три действия каждый вечер и утренники по воскресеньям, и все же я не мог дать ей вот так погрузиться в забытье, пусть даже тут была Франсина, рыжий инкуб в ночи.
– Да, и из-за этого тоже, из-за твоей манеры жить и желания жить мною, – сказала Людмила. – И Франсина, в случае чего, не захочет иметь от тебя ребенка, она слишком умна, почти как я. Давай спать, Андрес, я совершенно без сил. Нет, пожалуйста, не надо, я чувствую себя вроде тех сигаретных пачек Гомеса. Ах да, я же обещала Сусане прийти и помочь изготовить еще одну партию.
– Ну что ж, придется соединить наши окурки, – сказал я, – тогда наша деятельность, вероятно, станет более захватывающей.
– Не говори глупостей, не надо смотреть на это свысока.
– Но это неизбежный вывод – предъявляешь к жизни огромные требования, доискиваешься до ее глубинного смысла, и обнаруживаешь, что мы идем прямехонько к куче горелых спичек, так ведь. Да, знаю, это фразы, но также – истина, ведь было бы так просто и так благоразумно, Людлюд, ничего тебе не говорить, никогда ни словом не обмолвиться ни о Франсине, ни о какой-либо другой женщине.
– Сказал, и ладно, дурачок, зачем опять возвращаться к этому. Не то чтобы я молитвенно сложила руки, восхищаясь твоей прямотой, ведь в основе тут нечистая совесть, которая любой ценой жаждет отмыться, но эту проблему, Андрес, мы уже обмусолили до тошноты, а все дело в том, что мне следовало иметь от тебя ребенка раньше, когда нас было только двое, и именно поэтому мы не желали быть тремя, не желали детского рева и грязной ваты по всему дому, тебе был необходим порядок, покой и твой Бодлер, а мне репетиции перед зеркалом «все ароматы Аравии не заглушили бы», и так далее. Союз двух Нарциссов, двух законченных эгоистов, подписавших пакт, дабы к тому же чувствовать себя менее эгоистами. И вместо пугающего нас писюна и сосуна является Франсина, свеженькое дитя университета и haute couture [47] со своим красненьким авто, и своим книжным магазином, и своей свободой. Я могу это понять, хотя ни она, ни я никогда не усвоим твоих Сцилл и Харибд, но ребенка я не хочу, уже не хочу. В тот день, когда мой метаболизм потребует этого слишком сильно – кажется, гак было этой ночью, – я лягу с первым, к кому меня потянет, или отправлюсь к Ксавьеру, чтобы он осеменил меня, как корову. Good night, sweet prince [48].
– А я, Люд. Почему ты меня терпишь, если не можешь усвоить мой стиль жизни? Вернее, мой стиль жаждать жизни, который на каждом повороте терпит аварию.
– Потому что я тебя очень люблю, – сказала Людмила, и, по коварству языка, словечко «очень» почти полностью лишало силы слово «люблю», но это была правда, она его очень любила, потому что он был добрый и веселый как котенок, и всегда увлечен неосуществимыми планами, и пластинками экспериментальной музыки, и метафизическими восторгами, и нежными маленькими заботами, он делал нарядными ее дни, как бы завешивал разноцветными занавесками окна времени, играл с нею и разрешал играть собой, уходил к Франсине и возвращался с полным собранием сочинений Роберто Арльта, к тому же время делало свое дело, установилась привычка, такая миленькая квартирка, уже не надо было ничему учиться, ни учить, было вдоволь здоровья и здорового смеха, прогулок под руку по Парижу, встреч с друзьями, был Маркос, сдержанный немногословный корд овец, который что-то часто стал захаживать, разговаривать, приводить Лонштейна, рассказывать об агитпропе, о вое, о спичечных коробках, да так, будто говорил только для нее, хотя Андрес полагал, что это прямо касается его, но почему же «будто», лицемерная полечка, она только что ощутила это, до сих пор ощущала как бы кожей небрежные кордовские интонации Маркоса, говорящего прежде всего для нее, для того, чтобы она поняла, что происходит, пусть это пока не столь существенно, но в конце-то концов будет Буча, полечка.
Я почувствовал, что она отдаляется, поворачивается ко мне спиной, good night, sweet prince, good night, little thing [49], я легонько погладил ее спину, попку и передал ее сну или бессоннице, и, как всегда после долгого разговора, я ее хотел, но знал, что в эту ночь я встречу только покорный механизм, нет, ни за что, go to sleep [50], sweet prince, они в самом деле свихнулись на этих спичках, только подумать, что в Биафре, но нет, че, так ты не уснешь, да еще Лонштейн со своими придорожными богами, что-то не клеится, братец, я же мог остаться дома и слушать «Prozession», зачем мне поддаваться на волну Маркоса, они сумасшедшие, убери волосы, Людлюд, они лезут мне в глаза, ох, извини, я спала, и мне что-то снилось, не извиняйся, глупенькая, мне нравятся твои волосы, спи, забудься, да, Андрес, да.
* * *
Теперь, например, кафе у Порт-де-Шамперре, Мануэль совсем ошалел от кусочков сахара и ложечек, гоп-гоп, лошадка / поехали в Вифлеем /, не трудись, этот ребенок не уснет даже от фильма Пазолини, и сквозь платаны на площади вечереющее небо, нежный ветерок, который уносит моего друга в край воспоминаний, к сумеркам в пампе, far away and long ago [51], но в то же время он внимательно наблюдает за тем, что происходит за столом, да почти ничего, вот только Мануэль, хотя так или иначе, думает мой друг, о чем-то они должны заговорить, не зря ведь Ролан и Маркос провели главную часть совещания, не пригласив Лонштейна (а кстати, и меня, и Людмилу, но Людмила не может, because [52] занавес поднимается, и с половины девятого идет славянская меланхолия), то есть в кафе у Порт-де-Шамперре, совсем не в их районе, они засели не для того, чтобы дружески посудачить о том, что творится в мире, сеньор, можете себе представить, донья, хотя покамест самое яркое, что мог отметить мой друг, это погремушка, которой Сусана судорожно трясет, дабы отвлечь Мануэля от снующих вокруг столика выутюженных брюк. И так проходит с полчаса, пока из автобуса № 92 не выходит Гомес и, фактически не здороваясь, подает Маркосу две телеграммы, которые тот прочитывает и без комментариев передает Сусане (над этой девушкой они иногда подшучивают), чтобы она их перевела для Люсьена Вернея, Моники и Ролана, этих закоснелых французов, которым лень сделать малейшее усилие, чтобы изучать языки, хотя так легко понять «ПАПОЧКЕ ЛУЧШЕ ТОЧКА ЦЕЛУЮ КОКА» (это из Буэнос-Айреса) и «A BANANA DO BRAZIL NAG) ТЕМ ЗAROCO» [53], посланную из Лондона, тексты исключительно идиотского содержания для непосвященных, однако же их элементы складываются в тот смысл, что некий Оскар Лемос прилетает в Орли и везет с собой некие вещи, не слишком напоминающие молочные списки, чем отчасти объясняется то, что не пригласили Лонштейна (и меня) явиться раньше в кафе у Порт-де-Шамперре, ибо еще неизвестно, насколько Лонштейн, хотя Маркос говорит «да», но он не спешит и до самого конца предоставит Лонштейну требовать меню или благодарить официанта, в таких случаях обычно можно повременить, но придет момент, когда надо определиться, как может произойти с Людмилой (или со мной, но тут мы еще посмотрим), вот по этим-то причинам у моего друга создается впечатление, что кафе у Порт-де-Шамперре – вроде двускатной крыши с острым коньком, и теперь что-то произойдет, – хотя с виду все идет нормально и Мануэль путешествует от стула к стулу, к ужасу Ролана и Люсьена Вернея, которые уже давно предвидят смачный плевок на незапятнанный лацкан, уж не говоря о лужице, растекшейся без предупреждения, вопреки гарантиям розовых резиновых трусиков.
