Страница:
«Кордова: ЧЕТЫРЕХ ЭКСТРЕМИСТОВ ПОДВЕРГЛИ ПЫТКАМ
Подтверждение судебного врача
Кордова, 9 (АП). Судебный врач подтвердил, что четырех экстремистов подвергали пыткам, и, по сведениям, имеющимся в юридических кругах, прокурор возбудил иск против ответственных чинов полиции. Имена пострадавших: Карлос Эриберте Астудильо, Альберто Кампс, Маркос Осатинский и Альфред Кон, обвиняемые в участии в совершенном 29 декабря нападении на Кордовский банк, в результате чего, согласно данным прокурора Хосе Намба Кармоны, были убиты двое полицейских. Этот же чиновник сообщает, что судебный врач Рауль Дзунино после соответствующего осмотра узников подтвердил факт варварского, бесчеловечного обращения и жестоких пыток.
„У всех задержанных, – утверждает врач, – после недели пыток и истязаний имеются на теле ссадины и следы зверских побоев. У Астудильо вся спина – сплошной синяк и на теле множественные волдыри от применения пиканы. У Осатинского – причиненные избиением повреждения внутренних органов, по-видимому, имеется также нарушение сердечной деятельности, так как он говорит с трудом, передвигается медленно и охает от боли. Все четверо нуждаются в срочной медицинской помощи"».
– Позвони Маркосу, – сказал Гомес, обращаясь к Патрисио, – пончики готовы, с пылу с жару. Моника, налей-ка мне глоток вина, а то краской всю душу затопило.
Образы, образы! Мой друг подумал, что три минуты тому назад Гомес восстал против Парацельса, а теперь, видите ли, краска затопила ему душу, то самое воображение, которое он только что охаял, подарило ему такой оборот для описания его усталости. Вы только взгляните, настаивала Сусана, вклеивая еще одну вырезку для будущего ученика и хохоча до. слез, хорошо еще, что в этом дерьмовом мире иногда можно получить утешение из того самого уголка, где начиналось твое существование, – дело было в кинотеатре на улице Суипача, – а вот пойди я посмотреть на проделки Грегори Пека, ох и нахмурился бы мой супруг, он ревнует меня даже к киноленте. Нет, лучше я вам прочту, эта заметка из тех, где схвачена сама суть.
«ЕГО ОСУЖДАЮТ ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ГИМНУ»
Уголовный суд Федеральной палаты приговорил к двум месяцам тюрьмы условно Альберто Дионисио Лопеса, аргентинца двадцати двух лет, холостого, служащего и учащегося, за неуважение к Национальному гимну, согласно статье 230-бис Уголовного кодекса, недавно включенной в свод нашего репрессивного законодательства, трактующей о публичном неуважении к национальным знамени, гербу или гимну или к эмблемам аргентинских провинций и предусматривающей наказание от двух месяцев до двух лет тюремного заключения.
9 июля сего года при исполнении Национального гимна во втором зале ночного показа в кинотеатре на улице Суипача, 378, Лопес не встал и на обращение к нему капельдинера ответил, что он не встает потому, что по национальности он англичанин и если бы он знал, что это наказуемо, он бы лучше сходил на это время в уборную». Дальше идут несколько скучных абзацев о первой судимости и отмененном приговоре, и появляется прокурор, который inter alias [65] говорит: «Нет сомнения, что Лопес слышал аккорды Национального гимна и умышленно и сознательно продолжал сидеть, вопреки традиции и глубоко укоренившемуся обычаю, порожденному инстинктивным и патриотическим почтением к этому символу нашей нации. Примечательно, что он не внял предложению встать, что позволило бы ему избежать суда, а предпочел выйти из зала и нагло заявить, что он лучше бы сходил в уборную».
– Верно, он пошел бы туда слушать грохот разрываемых цепей, – сказал Патрисио. – Такая была у нас шутка в четвертом классе, а в общем, очень хорошо, что ты включила эту заметку в чтение Мануэля, и, кстати, я избавлюсь от ехидных упреков моего друга. (Каковой, задумавшись о Парацельсе, и ухом не повел.)
* * *
Как часто мы что-то делаем шутки ради или считая это шуткой, а потом, когда исподволь, постепенно начинается настоящее дело, эта шутка, или каламбур, или случайная выходка вновь и вновь вторгается в то, что шуткой отнюдь не является, и, взобравшись на житейский постамент, диктует оттуда лукавые приказы, нарушает ваши движения, разлагает мораль, – во всяком случае, Оскар шутки ради послал Маркосу газетную вырезку о бунте девочек в Ла-Плате и на время совершенно об этом забыл, так как подготовка контейнеров на службе у Гладис была делом долгим и деликатным, и Гладис порой еще прекращала обивку контейнеров, чтобы растормошить Оскара, который отвечал тем же, а потом они принимали душ, и пили, и слушали сообщения по радио, и спускались поесть, но воспоминание о бунте снова пробивалось наверх, образы, возникшие при обычном чтении хроники, оседали в уме, как образы снов, которые не желают выселяться, несмотря на все протесты рассудка. У Гладис, которая тоже читала эту вырезку, был более рациональный взгляд на вещи, и намеки Оскара она считала следствием усталости или нервного состояния, то и другое обычно идут в паре, и отвлекала его от навязчивых мыслей легким умственным толчком, Оскар начинал смеяться и прятал еще одну пачку долларов, made by стариком Коллинсом, в двойную стенку контейнера, готовился к сварке стенок, ходил приласкать бирюзового пингвина, который, с прошлого вечера поселившись в ванной, принимал душ вместе с людьми, радостно хлопал крыльями и уплетал за милую душу свою порцию хека. Королевские броненосцы в тот же вечер прибыли из Чако, и в Эсейсу следовало приехать к одиннадцати утра, в последний суматошный момент, а тут еще из-за служебных перестановок вдруг изменяют дежурства стюардесс, и вдруг раздается звонок заместителя начальника диспетчерской, он предупреждает Гладис, что, мол, ей придется лететь ночным самолетом в Нью-Йорк, по Гладис оказалась неподражаема в драматически-астроло
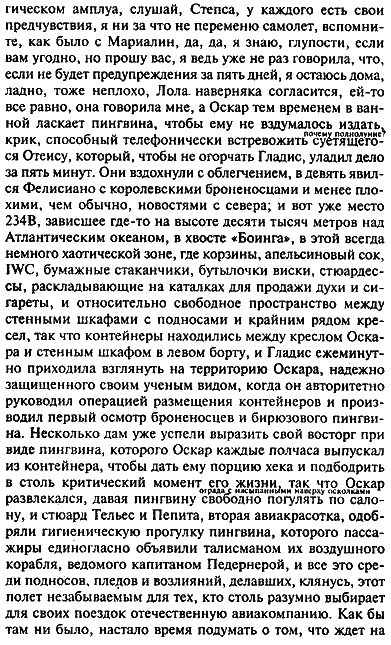
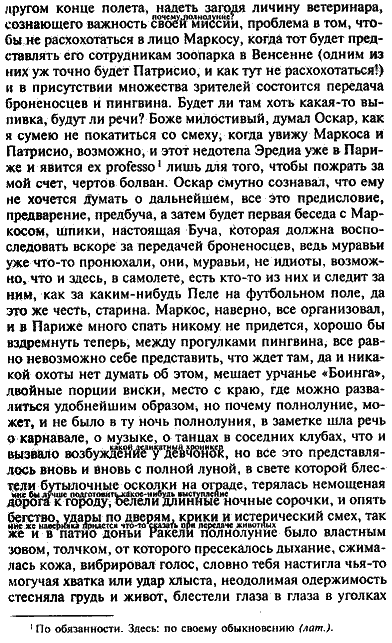
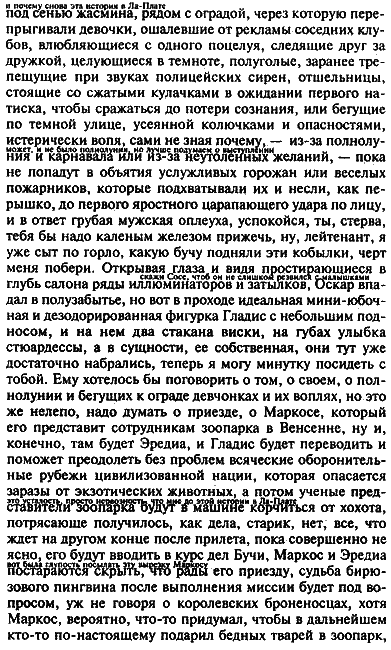
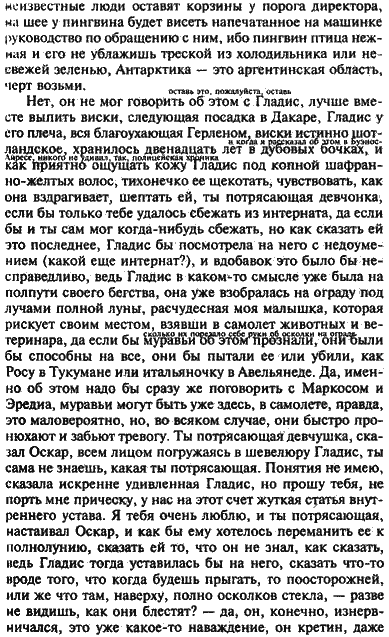
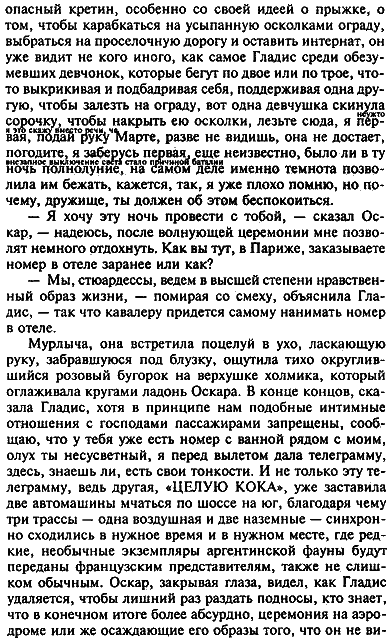
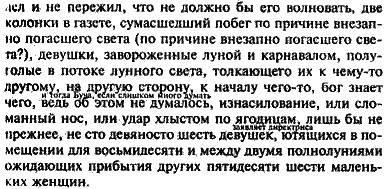
* * *
Бывало, что мой друг не всегда был в курсе деятельности наших ребят; он, например, понятия не имел о том, что суровые представители зоопарка в Венсенне изберут Лонштейна вести машину североамериканской марки, взятую напрокат в Герце, с предварительным уточнением цвета и характеристик, соответствующих важности церемониала. Чтобы понять что-нибудь в пересказе раввинчика, всегда требовалось его текст расшифровывать, но на сей раз симфонический размах лонштейновского восприятия уложил моего друга в постель на несколько дней, хотя он никогда не пожаловался на то, что узнал о выгрузке королевских броненосцев и бирюзового пингвина по изложению, жанр коего Лонштейн определил как плюраспектро-мутантный, – короче говоря, броненосцы, вступив на французскую землю, видимо, почувствовали себя неуютно, зато пингвин тотчас проявил опасную резвость, стал биться о стенки контейнера, несмотря на укротительские свистки Оскара и воду с экванилом, которой его напоила Гладис, едва «Боинг» вошел в предварительную фазу приземления и капитан Педернера голосом Пепиты пожелал уважаемым пассажирам счастливого пребывания в Париже.
– Все трое они были мегааккордом, – резюмировал Лонштейн, – представь себе эту церемонию в зале для приемов, малыш, не хватало только, чтобы Хайле Селассие в черном плаще вручал абиссинские ордена.
Не хватало там и меня, но вечером Людмила мне рассказала, что Ролан и Люсьен Верней вышли из машины с таким видом, будто аршин проглотили, и что обмен приветствиями между аргентинским ветеринаром, сопровождающим животных, и представителями зоопарка, получателями упомянутых тварей, был воспринят таможенниками, инспекторами и полицейскими аэропорта как нечто совершенно нормальное, уж не говоря о местном ветеринаре, по долгу службы осмотревшем заморских зверюшек и проверившем их медицинские свидетельства, все это изящно переводила Гладис, с явным весельем решая лингвистические проблемы ученых мужей. Еще по пути в аэропорт Маркос сказал Людмиле, что в принципе трудностей быть не должно, сама операция слишком абсурдна, чтобы ей мог грозить провал; единственный риск был в том, что какому-либо хитроумному таможеннику могло прийти в голову, будто эти контейнеры больше пригодны для транспортировки леопардов, чем пингвинов, но Люсьен Верней и Ролан были готовы это опровергнуть научными аргументами, основанными на Бюффоне и Джулиане Хаксли, не говоря об импозантности взятой напрокат машины, идеальный Gestalt [66]. Однако не только таможенники были очарованы редкими животными, но некая дама, с виду начальница, смуглая и полная особа, прямо влюбилась в бирюзового пингвина и посулила время от времени навещать его в Венсенне, что с величайшей серьезностью восприняли представители зоопарка и с особым патриотическим волнением ветеринар-сопровождающий. Ты упустил изумительное зрелище, сказала Людмила, сугубо аргентинского вида Оскар в клетчатом пиджаке, причесавшийся в последнюю минуту и щедро опрысканный нашим бортовым одеколоном, который я издали узнаю, потому что он скорее для женщин, и Лонштейн в кожаной куртке и берете, чтобы выглядеть как средний француз, какого теперь и днем с огнем не сыщешь, но все же…
– А ты что там делала? – спросил Андрес.
– Написала в трусики, сама не знаю, то ли от страха, то ли от смеха, но думаю, скорей от страха. Погоди, раз уж вспомнила, сейчас переоденусь, если найду чистые.
* * *
По всей квартире пахнет луком, но я не голоден, у меня есть последний квартет Бартока, вино и сигареты, взгляну раз-другой на кастрюлю и подумаю, ждать ли мне Людмилу или пойти побродить. Эта история с пингвином, о которой говорил Маркос, прежде чем пришел просить машину, вероятно, одна из идиотских выдумок его микроагитации; окруженный последними аккордами квартета, еще участвуя в некоем порядке, которого у меня не будет ни раньше ни позже (ну конечно, ну ясно, будущее в прошедшем), я по возможности затягиваю эту ненадежную примиряющую передышку – жалкая, неискренняя уловка, я заставляю себя сидеть дома, а потом вдруг позвоню Франсине и побегу вниз по лестнице. Бродить по Парижу – это для меня тоже музыка, ночь не принесла утешения, мне словно бы хочется еще одной, дополнительной части квартета, которую Барток не сочинял, но которая где-то таится в той зоне времени, которую не измерить часами, оттуда мне слышится тревожащее меня требование порядка, некое неосознанное знание, из которого снова возникает аура, беспокойство сна в кинотеатре в ночь Фрица Ланга; когда идешь по улице как бы ощупью, без назначенной цели, в этом есть какая-то открытость, возможность того, что за любым углом и в любой миг ты можешь услышать первую фразу той музыки, которая сумеет тебя примирить со всем ускользающим или ненадежным, Людмила моя и чужая, Людмила, все более увлеченная пингвинами и агитаторами, – я испытываю легкую тошноту оттого, что ее теряю из-за скопления непримиримых обстоятельств, и заодно чувство неотвратимости, чувство, что мы подошли к рубежу и теперь что-то будет тихо обламываться так, чтобы каждый из нас остался на своей стороне трещины, огромного разлома времени, с напрасными жестами дружбы, слезами и платочками, оба голые под порывами черного ветра. Зато каждый вход в метро еще раз унесет меня в любимые районы или по фонетической, смутно магической ассоциации представит мне еще какую-нибудь неведомую станцию, где начнется новый кусок бесконечного парижского ковра, новая волшебная шкатулка, новые приключения. Впрочем, это мрачноватое умонастроение, которое издавна тянет меня погружаться в город, будто в музыку, в метания от Франсины к Людмиле (почему метания, почему их не объединить, к чему это тягостное раздвоение, от которого мне так хочется избавиться и которое порождено исключительно их собственными точками зрения?), приводит к любопытным открытиям, глухо созвучным состоянию моего духа, служащему мне компасом. Вчера, пройдя по убогой площади Клиши с ее безумной и хмурой толпой и углубившись в улицу Куленкур, я впервые увидел под аспидно-серым небом нос «Отель-Террасе», его шесть или семь этажей с окнами и балконами, выходящими на Монмартрское кладбище. На середине моста, подвешенного над склепами и могилами, как скорбный меч халтурного Страшного суда, я облокотился на перила и спросил себя, неужели это возможно, неужели это вероятно, неужели туристы и провинциалы, живущие в «Отель-Террасе», каждое утро как ни в чем не бывало поднимают жалюзи своих окон, выходящих на это окаменевшее море надгробий, и неужели после этого возможно заказывать себе завтрак с круассанами, выходить на улицу, начинать обживать новый день. Надо бы мне провести ночь в этом отеле, послушать во тьме гул Монмартра, медленно уступающий тишине, услышать последний автобус на резонирующем мосту, нависшем над смертью, на этом балконе, заливаемом иным, неподвижным и тайным, гулом, который жизнь отвергает своими словесами, своей любовью, своим упорным забвением. Я приведу сюда тебя, моя маленькая француженка Франсина, чтобы ты, книжница, картезианка (как и я), получила здесь первый настоящий урок патафизики вместо поверхностного литературного взгляда, который ты так часто смешиваешь (мы смешиваем) с тем, что струится под кожей дня. И однажды я также поведу тебя в галерею близ Пор-Рояля, где постепенно оседает пыль, как если бы время засыпало своим прахом витрины и переходы, пыль, пахнущая перчатками, и перьями, и сухими фиалками, и там покажу тебе – не торжественно, но мимоходом, как следует поступать в «жилых» местах, – витрину со старинными куклами. Запыленные, они стоят там невесть как давно, в своих чепчиках и бантах, в немыслимых париках, в черных или белых башмачках, наводя уныние глупостью улыбающихся лиц, которые теперь тоже прах, к которым прикасались крошечные пальчики и были обращены любовные сонеты, сохранившиеся, быть может, в каком-то альбоме мещанской гостиной. Лавочка эта маленькая, и в те два раза, что я подходил к витрине, я внутри никого не видел; в глубине там есть намек на лестницу, темные занавески и опять же пыль. Видимо, некая постыдная торговля производится в другие часы дня, приходят люди продать фамильных кукол, самых лучших, фаянсовых или фарфоровых, а другие приходят их покупать для своих коллекций и, прогуливаясь по этому мини-борделю типа голландских витрин, рассматривают ляжки, трогают грудки, заставляют кукол вращать голубыми глазками, обязательный ритуал, сопровождаемый возгласами и долгими паузами, комментариями продавщицы, которая мне представляется сухощавой старухой, – и, возможно, посещением чердака, где валяются отдельные головы и ноги, взаимозаменяемые одежки, чепчики и башмачки, тайника этакого Синей Бороды, куда забредают подобрать подарок перед визитом к тетушке, коллекционирующей кукол, дабы остановить время. И возможно.
* * *
– Может быть, так, а может быть, совсем иначе, – сказала Франсина, проводя пальцем по стеклу и отворачиваясь, как бы с досадой. – Почему ты вечно погружен в сомнения? Ведь можно зайти, посмотреть. Ну да, ты предпочитаешь тайну, всякое определение тебя разочаровывает.
– Так же, как тебя раздражает сомнение, – сказал я, – и все, что ты видишь, кажется тебе доказуемой теоремой. Я не хочу туда заходить, мне там нечего делать, мне ни к чему это знание, с которым ты, засунув ладошки под подушку, спишь так крепко и без снов там, где безумные девушки в белых чепчиках бросаются с балконов отеля, выходящего на кладбище.
– Нет, ты никогда не поумнеешь, не научишься понимать меня.
– Вот видишь – понимать тебя. А что же мы делаем, если не стараемся понять друг друга единственно возможным способом – кожей, глазами, словами, которые не просто сухие термины? Ах ты моя машинка айбиэм, светоориентирующаяся пчелка, да ведь никто тебя, рыжую-прерыжую, не понимает лучше, чем я. Чтобы тебя понять, мне не нужны твои рассуждения, незачем входить в эту лавку, чтобы знать, что это западня с кривыми зеркалами.
– О да, иллюзии, – сказала Франсина, прижимаясь ко мне, – блаженство тех, кто предпочитает правде фантазию. Ты правильно поступаешь, Андрес. Очень правильно.
Ее влажные губы, всегда ищущие и так не похожие на то, что они говорят. Мы оба принялись смеяться, пошли бродить по улицам, пока усталость и желание не привели нас в квартиру Франсины в Марэ, над ее магазином, где продаются книги и бумага; мне нравилось заходить в торговое помещение, где в этот час хозяйничала мадам Франк с видом идеальной ответственной совладелицы, глядящей на приход младшей партнерши с ее другом так, как если бы то были клиенты: мне нравилось листать новинки, покупать у мадам Франк пачку бумаги или книгу и платить за них на глазах у Франсины, которая так охотно подарила бы их мне. По внутренней лестнице мы поднимались в квартиру, аккуратную, четкую, как сама Франсина, надушенную лавандой, с затененным освещением, уютную, как мурлычущая кошка, кошачий уют исходил от гостиной и двух комнат, от голубого ковра, от библиотеки с коллекцией «Плеяд» и словарем Литтре, – ну, разумеется, Франсина и холодильник, Франсина и хрустальные стаканы, Франсина и шотландское виски, Франсина, трогательно приверженная интеллектуальной честности, которой так противоречило путаное и скользкое существование всяких там витрин и отелей с балконами, выходящими на кладбище, Франсина в своей точно пригнанной клетке, другая сторона моей жизни-Людмилы, конкретизация давней тоски по определенному рисунку дней и всего быта, но также почти мгновенное неприятие столь многих разумных, рациональных условностей, симметричное другому неприятию – Людмила посреди беспорядка в кухне, где на полу остались разбросанные куски лука, где транзистор изрыгает звуки «Радио Монте-Карло», где замусоленное посудное полотенце, подобно гнусной длани, обнимает единственную уцелевшую чашку из чайного сервиза, а сама Людмила бежит встречать какого-то пингвина.
– Но ты же ее любишь, Андрес. Я для тебя – контрудар, я, побыв с тобой, возвращаю тебя ей. Это не упрек, ты знаешь, что я тебя люблю, тебя такого, какой ты есть в твоем мире, в другом кругу, где я ничего и никого не знаю, не знакома ни с одним из твоих друзей, не знаю, как вы общаетесь, ты и эти южноамериканцы, которых я встречаю лишь в романах да в кино.
– Это не только моя вина, – хмуро сказал я, – в это племя включена Людмила, а вы обе порешили, что никогда, ни за что не сможете и не должны встречаться.
– Я спрашиваю себя, как могли бы мы встречаться, на чем в окружающем мире могут быть основаны наши отношения. Ты уходишь и приходишь, как могла бы уходить и приходить я, будь у меня кто-то другой; однажды, довольно давно, я смутно подумала, что это возможно, но на том все и кончилось, на смутной мысли. Ты, Андрес, не любишь нас по-настоящему, вот единственное объяснение, уж ты извини, я знаю, что тебе претит копанье в любовной психологии и тому подобное, претит все, что для тебя, но сути, невыгодно, извини еще раз.
– Мне претит не это, а все, что за этим скрывается, абсурдное сопротивление обветшавшего мира, который продолжает яростно отстаивать свои самые дряхлые формы. Любить, не любить – все это пустые формулы. Я был так счастлив с Людмилой, я был с ней совершенно счастлив, когда встретил тебя и понял, что ты – это другая извилина счастья, другой способ быть счастливым, не отказываясь от прежнего образа жизни; и я сразу тебе это сказал, и ты разрешила мне приходить сюда без всяких условий, ты согласилась.
– Что ж, соглашаешься, – сказала Франсина, – времени впереди много, вот и говоришь себе, что. Может быть. Когда-нибудь. Потому что любовь.
– Вывод, ясное дело, будет один: вы обе любите по-настоящему, тогда как я, и так далее. Пойми, у меня с Людмилой все поломалось вдрызг, ты это знаешь, потому что она не согласна, потому что мое желание быть честным ничего не дало, да, знаю, честным на мой лад, для меня это значит, что она и ты должны знать, что есть ты и она, вот и все, но так не пошло, никогда не пойдет, мы живем в такое время, когда все летит к черту, и, однако же, эти схемы прочно живут в людях вроде нас – ты, конечно, понимаешь, что я говорю о мелкобуржуазной и рабочей среде, о людях оседлых, и осемеенных, и женатых, и очагочтящих, и многодетных, ах, дерьмо, дерьмо.
– И ты, – сказала, чуть ли не забавляясь, Франсина, – разыгрываешь У Тана между мной и Людмилой, примирителя, пчелу между двумя цветками, так, что ли; хотела бы я посмотреть, как бы ты пил кофе с нами обеими сразу или вел бы нас под руку в кино. Ах, ты выводишь меня из себя.
– Хорошо бы, любовь моя, хорошо бы!
– Нет, У Тан, я тебя люблю вот таким, рядом со мной, и когда-нибудь ты меня покинешь, или я тебя покину, уж не говоря о том, что Людмила, по твоим словам, устремилась куда-то к пингвинам, но это ты мне еще не объяснил.
– Я слишком хорошо знаю, что тебе неприятно, когда я о ней говорю.
– А Людмилу наверняка бесит, когда ты упоминаешь мое имя, это очевидно. Но остается еще пингвин, согласись, это нечто из ряда вон, тут можно бы сделать исключение.
– Ты добрая, – сказал Андрес, – ты слишком добрая, малышка.
– Теперь ты таки выведешь меня из себя. Довольно того, что все обстоит гадко и нелепо, ты знаешь, я терплю, я сама этого хотела, я дала тебе ключ от дома, и ладно, я приемлю нас обоих в этом виде, я приемлю себя на одном конце клубка, и Людмила, думаю, поступает так же, моя сестра по другую сторону, держащая другой конец веревки.
– И последнюю фразу она произнесла с ироническим и почти жестоким смехом, – сказал я, целуя ее плечо, прижимая ее к себе так, чтобы сделать больно. – Да, конечно, да, твоя сестра по другую сторону думает то же самое, хотя стремится это выразить более наперченным языком, чем твой. И так мы движемся втроем, и так мы движемся втроем, пока клубок не попадет в когти космического кота или Маркосова пингвина, пора объяснить тебе его появление на сцене, сегодня ровно в тринадцать часов в аэропорту Орли. Вероятно, это политическая тайна, так что, пожалуйста, не рассказывай мадам Франк, ведь мы знаем, что она настоящая гидра реакции.
– У Тан удаляется, – сказала Франсина, – и входит ухмыляющийся палач.
Мы уже давно отработали ритуальные диалоги, идеально удобные начала, которые с Людмилой были горячечным бредом, завершавшимся борением на ковре и хохотом, а с Франсиной были обменом очень тонкими стрелами, которые вонзались все ближе к сонной артерии, к заветному месту соединения бедер.
– Палач, – сказал я, – дарит тебе маленькую древнюю мудрость: para mas despacio atormentarme llevфme alguna vez роr entre flores, что в переводе с испанского означает: «И чтобы дольше меня помучить, однажды он повел меня в цветы».
– В те давние времена этот поэт уже знал нас, – сказала Франсина ритуальным голосом.
– О да: Франсина Захер Мазох и Андрес де Сад. Мы могли долго тянуть этот ритуальный диалог, грусть
и желание не спеша обменивались легкими щелчками, туманными выпадами, заниматься любовью с Франсиной означало нечто большее, чем, поспорив, помириться, определить временную территорию для контакта, – Франсина тогда не только отбрасывала все, что поднимало ее против меня, но сама устремлялась из потока споров в зону немыслимых бурь и как бы звала меня срывающимся голосом, превращаясь в шквал ликующих кимвалов и ногтей. Она всегда первая протягивала руку к тому переключателю, который гасил часы враждебных лиц и колючих слов, чтобы мы раскрылись другому свету, в чьих лучах из нашего словаря, немногих, но насыщенных смыслом словечек, создавался особый язык-постель, шепот-подушка, где тюбик крема или прядь волос были ключами шифра, знаками; Франсина дает себя раздевать, стоя у кровати с закрытыми глазами, и ее рыжие волосы, мягко вьющиеся, лезут мне в лицо, и она вздрагивает при каждом движении моих пальцев среди пуговиц и молний, плавно садится на кровать, чтобы я снял ей чулки и спустил трусики, и все это не глядя, живет лишь осязание, даже когда я на миг отрываюсь от нее, чтобы раздеться в напряженной, как струна, тишине, объединяющей любовников, которые, полные ожидания, совершают подготовительные движения; и вот Франсина, упершись ступнями в ковер, мягко откидывается на спину, заранее постанывая жадными, отрывистыми всхлипами, – музыка кожи, отвечающей своим трепетом на губы, скользящие по ее бедрам, и руки, раздвигающие их для первого глубокого поцелуя, сдавленный возглас, когда мой язык касается клитора и начинается малое, легкое соитие, и я чувствую, как ее рука забирается в мою шевелюру, безжалостно дергая меня за волосы, призывая подняться и в то же время заставляя оставаться на месте до предела, тешить ее наслаждением, которое я пока не разделяю, я, коленопреклоненный на ковре раб, которого держат за волосы, принуждают посасывать что-то соленое и теплое, и тут мои пальцы углубляются к укрывшемуся меж двумя лепестками клитору, и указательный скользит назад, ища другое, твердое, упругое отверстие, и я знаю, что Франсина будет роптать: «Нет, нет», сопротивляясь двойной ласке, яростно сосредоточенная на наслаждении, накатывающем спереди, призывая меня теперь обеими руками, вцепившимися в мои волосы, и, когда я увлеку ее за собою в постель и повалю на спину в глубине кровати, она, приподнявшись и подмяв меня, хватает мой член рукою и втягивает в свой пересохший, шершавый рот, постепенно наполняющийся пеной и слюной; она сжимает губы так, что мне становится больно, и словно цепенеет в непрерывной одышке, из которой мне приходится ее вывести насильно, я не хочу, чтобы она сглотнула, я хочу познать ее глубже, в головокружительных недрах ее чрева, которое пожирает меня и тут же отдает обратно, наши уста сливаются, я обнимаю ее плечи, терзаю ее груди, до боли придавливая их, и она сама этого хочет и требует, самозабвенно изливаясь в приглушенном длящемся стоне, утробном зове, в котором звучит почти протест и вместе с тем желание подвергнуться насилию, каждый мускул ее, каждое движение охвачены одержимостью, рот приоткрыт, глаза заведены, подбородок упирается мне в шею, руки блуждают по моей спине, захватывая ягодицы, прижимая меня все больше и больше, пока она не начнет изгибаться в судорогах, либо же я первый, когда огненная влага обжигает мне бедра, погружаюсь в нее до предела, и мы соединяемся в общем стоне, освобождаясь от власти могучей неодолимой силы, которая еще раз истекла, излилась в слезах и всхлипах, в биении замедленного ошеломляющего мига, когда вселенная, бешено кружась, бросила нас в жарком поту на подушки, в сон, в благодарный шепот, замирающий вместе с ласками дрожащих рук.
