Страница:
— Вам нужна тсантса белого человека? — неожиданно прямо спросил он, наклонившись ко мне, как будто речь шла о тайном соглашении.
— Но, — сказал я, несколько захваченный врасплох, — у вас она, действительно, есть? Это так? Я думал, что отец Киршнер в своих записках…
— Отец Киршнер? — прервал он меня. — Никогда о таком и не слышал. Нет. Белая Тсантса. Белая, как, — он подыскивал нужное слово, — белая, как слоновая кость.
И тут я совершил преступление.
— Сколько она стоит? — спросил я.
— Простите, — в этот момент я прервал мистера Ф. — Я не понимаю, почему вы говорите о преступлении. Вы купили нечто, что запрещено продавать, с этим я согласен. Более того, оно было приобретено незаконным путем. Но вы в этом не виноваты, и если бы покупателем были не вы, это сделал бы кто-нибудь другой. Так что вы не виноваты!
Мне даже показалось, что мистер Ф. слегка покраснел. Как бы то ни было, я заметил, что он сделал над собой мучительное усилие, чтобы продолжить повествование.
— Сэр, — сказал он наконец, — слово «преступление» здесь, к сожалению, самое приемлемое. Когда Санчес предложил мне тсантсу белого человека и попросил за нее сто тысяч песо, я был убежден, что у него еще не было ее и ему придется где-то доставать.
— Но послушайте, — вновь прервал я его, — то, что вы мне говорите, должно вас тем более успокоить. Если Санчес должен был заполучить этот анатомический экземпляр еще от кого-то, это тем более уменьшает вашу вину.
— Вы не понимаете меня, так как в целом все это вообще омерзительно, — с отвращением ответил Ф. — Санчес должен был раздобыть тсантсу у племен, проживающих на Амазонке. У них не было такой тсантсы, и они должны были ее изготовить по его заказу. Вам ясно, что я имею в виду? По заказу.
В этом заключалось его признание. Казалось, мистеру Ф. стало легче. Но привычным жестом он вытер пот со лба, как и прежде, хотя в комнате, в которой мы сидели, было довольно прохладно.
Что я мог ему ответить? Я молчал. В конце концов, я пришел сюда не для того, чтобы спорить с человеком, который, по моему убеждению, был сумасшедшим, а для того, чтобы послушать его историю.
— Санчес был у меня в декабре, и так как в течение последующих месяцев я ничего о нем не слышал, а он не давал о себе знать, я стал надеяться, что этот тип не иначе, как привидение.
Элис была, если можно так сказать, охвачена очередным приступом холодности. Возможно, слово «охвачена» едва ли тут подходит, ведь всякий раз, когда ее отношение ко мне менялось, оно было тщательно продумано заранее. Она редко доставляла мне удовольствие сопровождать ее во время прогулок, и я с того времени совершал их один. Она никогда меня больше не целовала; надо признаться, она никогда не дарила мне свои поцелуи; но принимала мои не без удовольствия.
Когда я посетовал на ее холодность, которую, как мне казалось, я не заслужил, она уставилась на меня своими прекрасными невинными глазами и не сказала ни слова. Но однажды она ответила довольно таинственно.
— Ну что я могу поделать? Я разочарована…
И отказалась пояснить. Я понял, что она подразумевает тсантсу, но, поскольку мысль об этом пробудила во мне воспоминания относительно постыдной сделки с Санчесом, а также ужас от того, что я позорно поддался соблазну, я отверг такое объяснение, как слишком наивное, и впервые в своей жизни воспользовался распространенным американским правилом: «Не стоит об этом говорить».
Несмотря на ее отчуждение в последнее время, я всей душой желал возвращения Санчеса, хотя совсем недавно одно воспоминание о нем бросало меня в дрожь.
У меня было смутное подозрение, что очень многое зависело от его возвращения. Даже теперь я сомневался, действительно ли мисс Хойет жаждала овладеть этой тсантсой. Что ее привлекало, так это сама идея заставить меня уступить, лучше даже сказать, сдаться.
Поневоле у меня возникло ощущение, что, если я буду поддаваться ее прихотям, она не станет более противиться мне. Это был бы «справедливый обмен», что является основой любого разумного ведения дела. Как вы видите, я даже не пытаюсь вдохнуть поэзию в наши отношения. Я думаю, так бывает только в кинофильмах. Более того, я чувствовал, что это положит конец напряженности между нами, которая возникла из-за ее же капризов.
Вследствие жаркой погоды, стоявшей тогда, в селениях на границе с Бразилией и в соседних с севера странах появились случаи заболевания желтой лихорадкой. Власти очень разумно тут же издали указ для жителей столицы о необходимости профилактических прививок.
Миссис Хойет и я пошли в клинику, где производилась иммунизация. Элис отказалась присоединиться к нам.
Это стало причиной ее гибели, так как недели через три она оказалась в госпитале с этим опасным заболеванием.
Представьте себе, каково было мое состояние: мне не разрешали видеть больную. В этот самый момент, когда она висела на волоске между жизнью и смертью, появился Санчес. Опять швейцар сообщил, что со мной хочет поговорить какой-то человек, но на сей раз я догадался, о кем идет речь.
Я послал Санчесу записку с просьбой подняться ко мне в комнату. Через несколько минут он появился все с тем же неизменным кожаным ранцем, на который я на сей раз уставился со страхом. Что в нем было?
Но, поверите ли, так уж устроен человек, я отчасти был даже рад его визиту. В конце концов, это был последний акт драмы, ставшей для меня невыносимой. Этот акт следовало доиграть до конца, и я с нетерпением ждал, когда опустится занавес.
Санчес, не обращаясь ко мне со своими обычными приветствиями, сразу открыл ранец и с величайшей предосторожностью, которая так не соответствовала его грубой внешности, развернул несколько ярдов шелка, в котором покоилась тсантса.
И вот она была извлечена на свет божий. Я испытал настоящий шок, настолько она была не похожа на то, что я предполагал увидеть.
Не знаю, почему, но я настроился на то, что увижу тсантсу белого человека с волосами орехового цвета, которые, подходя к голубоватому оттенку чисто выбритого подбородка, в то же время будут противоречить желтоватой бледности его кожи.
 Но у этой тсантсы были удивительно тонкие светлые шелковистые локоны, которые оживали при малейшем движении головы, как будто были на действительно живом теле.
Но у этой тсантсы были удивительно тонкие светлые шелковистые локоны, которые оживали при малейшем движении головы, как будто были на действительно живом теле.
Лицо было цвета молочной белизны, а курносый нос был весь усыпан веснушками, как у английских подростков.
И тут у меня мелькнула мысль, что мне предлагают тсантсу, сделанную из головы юноши, студента или, скорее всего, школьника старших классов.
Я отказался прикасаться к этому «фрагменту трупа» (так я про себя ее назвал) и умолял Санчеса завернуть тсантсу опять в шелк, из которого он ее вынул жестом сентиментального заклинателя или мага.
Я смутно сознавал, что это было не давно сделанное, но нечто новое, ужасающе новое изделие, свежесть которого подчеркивалась молодостью самой жертвы.
Более того, поведение Санчеса усилило мою мысль.
— Сожалею, — сказал он, — но меня не устроят сто тысяч песо. Слишком многих пришлось заставить держать язык за зубами, а это не так легко, как закрыть рот этой тсантсе. Совесть ценится очень дорого. Поэтому вы должны мне двести тысяч песо.
Мне был настолько невыносимо отвратителен Санчес (и я сам), что в тот момент никакая сумма не показалась бы мне слишком большой, лишь бы поскорее от него избавиться. Не возразив ни слова, я немедленно дал ему чек на требуемую сумму.
Санчес ушел, оставив шелковый сверток на столе. Когда я прятал это жуткое приобретение в ящик стола, дверь вновь открылась.
— Послушайте, — из-за двери показалась голова Санчеса, если в национальном банке поинтересуются, за что уплачен чек, скажите, что купили драгоценный камень.
Дверь закрылась. Таким образом, драма подошла к концу, и с этого момента я буду наслаждаться более приятной жизнью. По крайней мере, так я считал тогда.
Прямо на следующий день миссис Хойет, не дожидаясь моего ежедневного визита с целью справиться о здоровье Элис, которая все еще была на карантине, попросила меня прийти к ней домой, где, к моему величайшему удивлению, меня сопроводили в ее комнату.
Слова, с которыми она приняла меня, отбросив в сторону обычные любезности, заставили меня понять, что случилось и почему она нарушает правила приличия, пригласив прямо к себе.
— Элис умерла, — произнесла она совершенно спокойно. — Вы не поможете мне выполнить необходимые формальности для похорон? Ну, ну, успокойтесь, — добавила она, увидя, как я побледнел. — Быстрее! Налейте немного виски; вам полегчает.
Это были ее единственные слова сочувствия. Три последующих дня прошли в молчании. Похороны были очень немноголюдные; очевидно, страх перед инфекцией свел количество пришедших попрощаться до минимума.
Через день миссис Хойет сказала мне, что решила вернуться в Бостон, где вторично закажет поминальную службу. Она дала понять, что ее дальние родственники в Бостоне посчитают мое присутствие при этом бесполезным, если не сказать большего. Как я мог после этого настаивать?
Я помог ей достать удобное место на пароход, идущий в Филадельфию, и решил отправиться при первой же возможности в Европу.
Мне казалось, что дальнее путешествие может слегка облегчить тяжесть переживаний.
В действительности, я обманывал себя. Именно здесь, в Марселе, я почувствовал общий упадок сил и духа. То, что я сейчас вам скажу, в самом деле очень странно. Никто не склонен верить тому, что я говорю, и все, на кого я полагался, неизбежно приходили к выводу, что я выжил из ума. Я не стану просить вас поверить мне, только выслушайте меня. Нельзя ожидать, чтобы люди верили в то, что непостижимо и выходит из ряда вон.
Мистер Ф. поднялся и открыл окна, которые выходили в сад. Нотр Дам де ля Гард вдалеке, казалось, парил в воздухе. Все бы говорило о мире и спокойствии, если бы толстые оконные прутья, пересекающие пейзаж, не напоминали о том месте, где мы находились. Казалось, они предупреждали меня на своем беззвучном языке: будь осмотрительнее, не принимай близко к сердцу все рассказанное.
— Именно в Марселе, — продолжал Ф., снова вернувшись в кресло, — почувствовал я начало заболевания, которое привело меня сюда.
О, вначале это не было очень серьезно; случайная мигрень, которую я отнес за счет перемен в диете и климате. Но эти головные боли стали все более частыми и острыми. Сначала они продолжались примерно час, и я избавлялся от них, приняв таблетку аспирина. Но потом приступы усилились и продолжались по нескольку часов, не поддаваясь даже большим дозам снотворного. Ощущение такое, будто голова моя зажата в тиски и кто-то невидимый все сильнее их сжимает. Вы подумаете, что это простое самовнушение. Возможно, я согласен, но однажды, собираясь выйти на утреннюю прогулку, я надел свою фетровую шляпу, и она спустилась мне прямо на глаза.
«Вчера парикмахер снял слишком много волос», — подумал я. Так как шляпа была старая, я купил другую, предусмотрев, чтобы она хорошо мне подходила.
Через три месяца, к моему удивлению, новая шляпа тоже стала сползать на глаза.
На сей раз я рассердился! Ведь я не был у. парикмахера накануне. Я пошел к торговцу шляпами и сорвал на нем свое дурное настроение. Он очень извинялся.
— После войны, — объяснил он, — фетр стал совсем не того качества, что прежде; кроме того, кожа, которая используется для подкладки, слишком новая. Если вы позволите, я проложу изнутри ленту из плотной ткани, и все будет в порядке.
Я ушел из магазина успокоенный. Прошло еще три месяца. Я вынужден был согласиться с торговцем: шляпа, действительно, была плохого качества, так как сильно растянулась.
Я отдал ее швейцару отеля, который явно обрадовался, получив в подарок практически новую шляпу. Потом я пошел в другой магазин. В этот раз, чтобы избежать всяких неприятностей, я купил шляпу у Лока, лондонского мастера, несмотря на очень высокую цену. Вы знаете, как тщательно эти шляпы изготовляются и какова их стоимость.
Через три месяца мне пришлось удвоить подкладку, а еще через месяц я выбросил ее в мусорное ведро.
Правда становилась слишком явной и бросалась в глаза верхняя часть моей головы уменьшалась.
Боли, которые постоянно усиливались, не прекращались и от наркотиков. Только морфий давал некоторое облегчение. И если лекарство частично ослабляло боль, оно не в состоянии было избавить меня от дурных предчувствий, Я понял, — простите, я понимаю это и сейчас, — что череп мой, как говорится, тает прямо на глазах. Я прекрасно сознавал, что стал жертвой странного феномена, который был связан в моем представлении и связан до сегодняшнего дня с ужасной сделкой, заключенной мною год назад.
Я прервал мистера Ф. Тем самым я хотел, чтобы у него сложилось впечатление, что я не оспариваю его точку зрения. «Это очень важно по отношению к таким больным людям», — подумал я.
— А тсантса? Что вы с ней сделали?
— По прибытии в Марсель я подарил ее антропологическому музею города. Хранитель выразил мне глубокую признательность за такой подарок. Вы можете ее там увидеть, если захотите. Что касается меня, я уже никогда ее не увижу, даже если бы мне разрешили выйти отсюда, я бы ни за что не пошел туда.
Я полагаю, нет необходимости говорить вам, — продолжал он с благодарностью в голосе, благодарностью за то, что я его внимательно слушал, — как я ходил от доктора к доктору, рассказывая об этом случае. История моя, без сомнения, поражает их. Они считают ее фантастической. Один из докторов, друг моего брата, телеграфировал ему как главе нашей семьи, чтобы сообщить о своих беспокойствах, бесстыдно нарушив кодекс врачебной этики. Состоялся семейный совет. Вы знаете пословицу о том, что отсутствующий всегда неправ. Я был изолирован и помещен здесь как душевнобольной.
Поверите ли, я согласился с таким решением проблемы по нескольким причинам. Прежде всего, я считал себя виновным, и эта тюрьма, в которой я оказался, по-моему, слишком мягкое наказание за то, что я всегда называл своим «преступлением».
Кроме того, я испытывал жестокие боли, что бывает и сейчас. Только клиники обеспечат меня необходимой дозой морфия, который даст мне возможность немного поспать. При обычных условиях я не смог бы получить его в достаточно больших количествах.
И еще одно. Изменение размеров моего черепа, которое очень долго мог видеть только я, стало бросаться всем в глаза. Это нетрудно заметить. Люди оборачиваются вслед и смотрят на меня. Моя голова, напоминающая голову ацтека, явно их озадачивает; она не только коническая, но и комическая.
Я сделал легкий жест несогласия, просто из вежливости, надо полагать.
— Умоляю вас, давайте закончим с этим. Вы и сами видите, что выгляжу я так, что хоть сейчас на карнавал.
Мистер Ф. поднялся. Я понял, что наша встреча подошла к концу и ему больше нечего мне сказать. Кроме того, чувствовалось, насколько он устал. И я, в свою очередь, тоже поднялся.
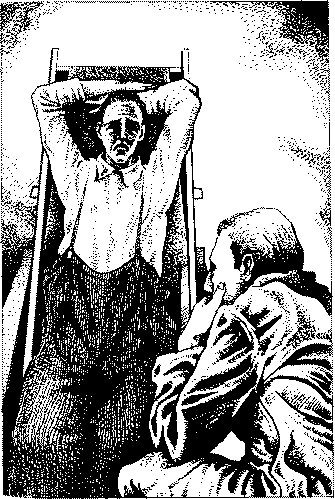 — Могу заверить вас, мне было крайне интересно вас выслушать. По-моему, вы значительно менее виновны, чем пытаетесь внушить себе. Адам никогда не сорвал бы яблоко с древа знаний, если бы не коварная и искусительная Ева; вы никогда не купили бы эту злосчастную тсантсу, если бы не уловки и капризы мисс Хойет.
— Могу заверить вас, мне было крайне интересно вас выслушать. По-моему, вы значительно менее виновны, чем пытаетесь внушить себе. Адам никогда не сорвал бы яблоко с древа знаний, если бы не коварная и искусительная Ева; вы никогда не купили бы эту злосчастную тсантсу, если бы не уловки и капризы мисс Хойет.
— Она умерла, сэр, — возразил мистер Ф. — Не будем о ней. Пусть спит спокойно.
В этот момент я понял в смятении, что он все еще любит эту женщину, которая его погубила.
Глаза моего собеседника, утонувшие у основания пирамидального черепа, вспыхнули каким-то странным светом.
С чувством, что спасаюсь бегством, оставил я его в комнате и закрыл за собой дверь.
— В самом деле, необычная история, мой дорогой доктор, сказал я через несколько минут доктору Маршану, который ожидал меня в своем кабинете; — Своего рода мания преследования, связанная с чувством собственной неполноценности, к тому же отягощенная мазохизмом…
— Вы очень проницательны, — заметил доктор.
— Однако история со шляпами очень странная. Это нечто субъективное, не так ли? — спросил я. — Если это, конечно, не из области воображения.
— Нет, нет, — ответил психиатр. — Я расскажу вам сейчас, что произошло.
Вы знаете, что у новорожденных две половины черепа соединены одна с другой хрящевой перегородкой. И только через несколько месяцев, постепенно, она заменяется костной тканью, и череп становится единым целым.
В случае с моим пациентом, по причинам мне неизвестным, но которые я отношу к недостатку кальция в организме, соединение это не имело места. И только когда он стал взрослым человеком, это равновесие восстановилось и произошло зарастание родничков.
Вполне возможно, что в недавнем прошлом у него была анемия, и тот факт, что он уехал их тропиков, вполне мог ускорить процесс.
Срастание полушарий черепа, произошедшее в столь позднем возрасте, не могло не вызывать головных болей, на которые жалуется мистер Ф. Они вполне объяснимы и ни в коем случае не воображаемы. С другой стороны, если что и является воображаемым, так это версия моего пациента о прямой связи между уменьшением черепа и приобретением тсантсы, изготовленной (это подходящее слово в данном случае) специально для него. А от этого до навязчивой идеи — один лишь шаг. И мистер Ф. его сделал.
Мне удалось временно приостановить заболевание при помощи введения нескольких платиновых дуг между краями черепной кости. Операция была успешной, так как в течение года у мистера Ф. не было болей. Когда головные боли начали возобновляться, я велел состричь ему волосы, и там, где они были густыми, я заметил, что платиновые пластины согнулись под воздействием непреодолимой силы срастающейся кости.
Конечно, я предложил ему заменить пластины, что гарантировало бы еще год без страданий; по крайней мере, это казалось вполне вероятным. Он отказался и сейчас отказывается категорически. А я, со своей стороны, не могу принуждать своих пациентов силой. Это не мой метод. Особенно, когда они вполне способны рассуждать и разум не оставил их полностью, как, скажем, у этого человека.
Я поблагодарил доктора и ушел. Когда я пересекал порог Виллы де ля Гард, я испытал такое же чувство облегчения, как и некоторое время до того, когда выходил из комнаты больного.
Несколько месяцев спустя я вернулся в Марсель. Будучи человеком незанятым во время своего отпуска, и, к тому же любопытным, я направился в один прекрасный день в антропологический музей.
Там я тщетно искал в коллекции (которая, между тем, была прекрасно подобрана) тсантсу белого человека, принесенную в дар «доном Хосе». Вполне возможно, подумал я, что эта тсантса существовала только в больном воображении моего нового знакомого.
Это стоило выяснить, и я послал свою визитную карточку хранителю музея. Он принял меня почти тотчас же.
— Да, сэр, — ответил он на мой вопрос. — Да, этот очень любопытный предмет был подарен нашему музею несколько лет назад человеком, который был болен. Он жил в нашем городе. К несчастью, он умер.
— Умер?! — воскликнул я.
Он кивнул головой и приготовился продолжить свой рассказ.
— Это был уникальный предмет, по крайней мере, когда его передали нам. Но ему не подходил сырой климат Марселя. Кожа этого анатомического экземпляра, которая, вероятно, была плохо просушена на солнце, через несколько месяцев начала возвращаться к своему первоначальному виду и размеру. Через два года она была натуральной величины или почти натуральной величины человеческой головой, которая находилась в витрине музея. Более того, головой довольно привлекательного молодого человека, почти юноши. На нее невозможно было смотреть без жалости и содрогания. Посетители музея начали писать письма и протесты по вполне объяснимым причинам.
Действительно, голова в то время настолько отличалась от той крошечно-кукольной, которую мы получили как антиквариат, что мы решили — место ей не в музее, а на кладбище. Мы передали ее заботам священника, и он сам распорядился похоронами. Правда, я не знаю точного места захоронения.
Я ушел и решил напомнить о себе доктору Маршану. Я обрисовал ему странное впечатление, которое произвело на меня открытие. Тсанса белого человека изменялась прямо на глазах: ее пропорции увеличивались в то время, как череп мистера Ф. уменьшался.
— Что-то я не пойму, к чему вы клоните, — ответил доктор, который был выбит из колеи моим визитом. — Уж не хотите ли вы предположить, что мой пациент был прав, проводя параллель между собственным уродством или, точнее, прогрессирующим изменением к худшему, и тем музейным экспонатом, воспоминание о котором не давало покоя его расстроенным нервам?
Что я должен был ответить на это? С точки зрения науки доктор был, несомненно, прав. И все-таки.
(Перевод А.Сыровой)
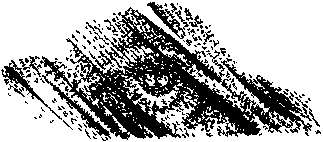
Уолтер Уинвард
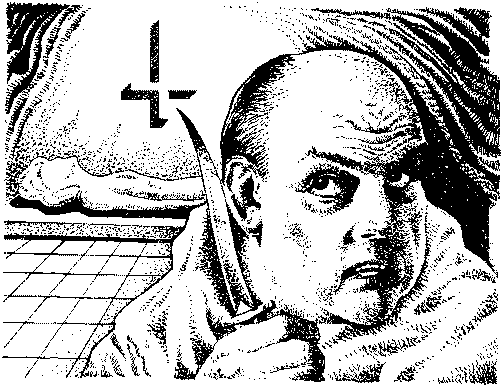 Толстяк начал смеяться, но неожиданно осекся, когда увидел, как несколько прохожих с любопытством уставились на него. Он быстро пошел своей дорогой, сморкаясь, чтобы скрыть смущение.
Толстяк начал смеяться, но неожиданно осекся, когда увидел, как несколько прохожих с любопытством уставились на него. Он быстро пошел своей дорогой, сморкаясь, чтобы скрыть смущение.
Глупые люди, таращатся на него. Они бы не были излишне любопытны, если бы знали, кто он. О, нет! Тем не менее, ему надо было избавляться от привычки громко смеяться на людях. Кое-кто может узнать его, а этого следовало избегать во что бы то ни стало. Трудно было подавить веселье, коль скоро оно родилось в тебе, и он поставил на карту свою жизнь, что никто в пределах слышимости не осмелится даже приблизительно догадаться о причине его смеха. Возможно, они подумают, что он немолодой чудак или из тех, кто компенсирует излишний вес, превращая свою жизнь в шутку. Ну, пусть думают, как хотят.
Не то, чтобы у него были забавные мысли, это далеко не так. Он смеялся ни над чем иным, как над собственной ловкостью, умением. Он был здесь, а они были там — остальные и никто не узнал его.
Он мог беседовать с продавцами, барменами, даже полисменами, и все они вынуждены были быть машинально вежливыми. Но однажды он им скажет. Однажды они узнают все.
Он глубоко вздохнул и посмотрел на часы: как обычно, рано. У него было свое правило: не спеши приниматься за работу. Побольше времени оставь для прогулок.
Он прошел до конца улицы. Мощеная булыжником, она постепенно переходила в грунтовую дорогу, выводящую на зеленые поля. Он восхищался тем, что сельская местность Кент находилась в получасе ходьбы от его лондонской квартиры. Тридцать недолгих минут — и вместо мрачных городских дворов с хилыми воробьями он попадал в иной мир с вызывающими умиротворение и спокойствие благоухающими садами, зелеными лугами и ленивыми коровами. Замечательный день, двадцатый за последние пять лет. Замечательный не потому, что его окружал такой пейзаж, а в связи с его миссией. Это не было связано с погодой или сезоном. Иногда день был пасмурным. Это могло быть и в ноябре, не обязательно в июне. Но день всегда кончался чудесно, и воспоминания о нем не угасали долго, до следующего раза.
Не то, чтобы у него была большая передышка между ДЕЛАМИ и было ли это слово верным? Не совсем. Слишком это широкое понятие. Ему нравились его ДЕЛА. Это доставляло только удовольствие. В Сазерленде, Ливерпуле, Саутгемптоне или Лондоне он всегда ДЕЛАЛ то, что хотел.
Лондон нравился ему давно, но он находился здесь почти уже год. Год и три ДЕЛА — все-таки ему придется найти для этого определения другое слово — четыре ДЕЛА, если иметь в виду и сегодняшнее. Да, перемена мест для него была необходима, что по своему было грустно, потому что Лондон предлагал и жизнь, полную разнообразных развлечений, и анонимность. А в маленьком городке всегда существовала проблема снять квартиру в соответствии со своими запросами. Она должна быть отдельной, на первом или втором этаже. К тому же было бы неплохо, если бы интересы домовладельца, сдающего квартиру, сводились, главным образом, к тому, чтобы вовремя получить с жильцов плату, а не совать нос в их жизнь. Все эти запросы было легко удовлетворить в Лондоне, но в другом месте… Однако он уже оставался здесь дольше, чем позволяло благоразумие, к тому же через год или около этого он мог вернуться сюда опять.
Он бросил прощальный взгляд на пейзаж, вздохнул с сожалением и ускорил шаг.
Несмотря на свою полноту, он двигался быстро и легко, его кажущаяся дряблость вызывала ошибочное представление. Пару раз его явная безобидность вдохновляла воров, мечтающих завладеть его бумажником. Они неизменно оказывались в госпиталях. Он знал, что чрезмерная полнота и внешнее дружелюбие были самыми ценными в его облике, и он вовсю использовал и то и другое.
Детский дом святой Марии (или, как менее привлекательно он назывался местными жителями, приют для сирот) был расположен в дальнем конце Хай Стрит, именно к нему и направился толстяк. Он постоял некоторое время у ворот, наблюдая за тем, как резвятся мальчишки, а потом быстро направился по дорожке к главному зданию. Через минуту он был в кабинете директора.
— Мой дорогой мистер Рассел! — воскликнул директор, поднимаясь из-за стола и протягивая руку. — Как я рад вас видеть!
Рассел, толстяк, что-то пробормотал себе под нос, надеясь в душе, что директор не будет его раздражать, как это бывало обычно.
— Но, — сказал я, несколько захваченный врасплох, — у вас она, действительно, есть? Это так? Я думал, что отец Киршнер в своих записках…
— Отец Киршнер? — прервал он меня. — Никогда о таком и не слышал. Нет. Белая Тсантса. Белая, как, — он подыскивал нужное слово, — белая, как слоновая кость.
И тут я совершил преступление.
— Сколько она стоит? — спросил я.
— Простите, — в этот момент я прервал мистера Ф. — Я не понимаю, почему вы говорите о преступлении. Вы купили нечто, что запрещено продавать, с этим я согласен. Более того, оно было приобретено незаконным путем. Но вы в этом не виноваты, и если бы покупателем были не вы, это сделал бы кто-нибудь другой. Так что вы не виноваты!
Мне даже показалось, что мистер Ф. слегка покраснел. Как бы то ни было, я заметил, что он сделал над собой мучительное усилие, чтобы продолжить повествование.
— Сэр, — сказал он наконец, — слово «преступление» здесь, к сожалению, самое приемлемое. Когда Санчес предложил мне тсантсу белого человека и попросил за нее сто тысяч песо, я был убежден, что у него еще не было ее и ему придется где-то доставать.
— Но послушайте, — вновь прервал я его, — то, что вы мне говорите, должно вас тем более успокоить. Если Санчес должен был заполучить этот анатомический экземпляр еще от кого-то, это тем более уменьшает вашу вину.
— Вы не понимаете меня, так как в целом все это вообще омерзительно, — с отвращением ответил Ф. — Санчес должен был раздобыть тсантсу у племен, проживающих на Амазонке. У них не было такой тсантсы, и они должны были ее изготовить по его заказу. Вам ясно, что я имею в виду? По заказу.
В этом заключалось его признание. Казалось, мистеру Ф. стало легче. Но привычным жестом он вытер пот со лба, как и прежде, хотя в комнате, в которой мы сидели, было довольно прохладно.
Что я мог ему ответить? Я молчал. В конце концов, я пришел сюда не для того, чтобы спорить с человеком, который, по моему убеждению, был сумасшедшим, а для того, чтобы послушать его историю.
— Санчес был у меня в декабре, и так как в течение последующих месяцев я ничего о нем не слышал, а он не давал о себе знать, я стал надеяться, что этот тип не иначе, как привидение.
Элис была, если можно так сказать, охвачена очередным приступом холодности. Возможно, слово «охвачена» едва ли тут подходит, ведь всякий раз, когда ее отношение ко мне менялось, оно было тщательно продумано заранее. Она редко доставляла мне удовольствие сопровождать ее во время прогулок, и я с того времени совершал их один. Она никогда меня больше не целовала; надо признаться, она никогда не дарила мне свои поцелуи; но принимала мои не без удовольствия.
Когда я посетовал на ее холодность, которую, как мне казалось, я не заслужил, она уставилась на меня своими прекрасными невинными глазами и не сказала ни слова. Но однажды она ответила довольно таинственно.
— Ну что я могу поделать? Я разочарована…
И отказалась пояснить. Я понял, что она подразумевает тсантсу, но, поскольку мысль об этом пробудила во мне воспоминания относительно постыдной сделки с Санчесом, а также ужас от того, что я позорно поддался соблазну, я отверг такое объяснение, как слишком наивное, и впервые в своей жизни воспользовался распространенным американским правилом: «Не стоит об этом говорить».
Несмотря на ее отчуждение в последнее время, я всей душой желал возвращения Санчеса, хотя совсем недавно одно воспоминание о нем бросало меня в дрожь.
У меня было смутное подозрение, что очень многое зависело от его возвращения. Даже теперь я сомневался, действительно ли мисс Хойет жаждала овладеть этой тсантсой. Что ее привлекало, так это сама идея заставить меня уступить, лучше даже сказать, сдаться.
Поневоле у меня возникло ощущение, что, если я буду поддаваться ее прихотям, она не станет более противиться мне. Это был бы «справедливый обмен», что является основой любого разумного ведения дела. Как вы видите, я даже не пытаюсь вдохнуть поэзию в наши отношения. Я думаю, так бывает только в кинофильмах. Более того, я чувствовал, что это положит конец напряженности между нами, которая возникла из-за ее же капризов.
Вследствие жаркой погоды, стоявшей тогда, в селениях на границе с Бразилией и в соседних с севера странах появились случаи заболевания желтой лихорадкой. Власти очень разумно тут же издали указ для жителей столицы о необходимости профилактических прививок.
Миссис Хойет и я пошли в клинику, где производилась иммунизация. Элис отказалась присоединиться к нам.
Это стало причиной ее гибели, так как недели через три она оказалась в госпитале с этим опасным заболеванием.
Представьте себе, каково было мое состояние: мне не разрешали видеть больную. В этот самый момент, когда она висела на волоске между жизнью и смертью, появился Санчес. Опять швейцар сообщил, что со мной хочет поговорить какой-то человек, но на сей раз я догадался, о кем идет речь.
Я послал Санчесу записку с просьбой подняться ко мне в комнату. Через несколько минут он появился все с тем же неизменным кожаным ранцем, на который я на сей раз уставился со страхом. Что в нем было?
Но, поверите ли, так уж устроен человек, я отчасти был даже рад его визиту. В конце концов, это был последний акт драмы, ставшей для меня невыносимой. Этот акт следовало доиграть до конца, и я с нетерпением ждал, когда опустится занавес.
Санчес, не обращаясь ко мне со своими обычными приветствиями, сразу открыл ранец и с величайшей предосторожностью, которая так не соответствовала его грубой внешности, развернул несколько ярдов шелка, в котором покоилась тсантса.
И вот она была извлечена на свет божий. Я испытал настоящий шок, настолько она была не похожа на то, что я предполагал увидеть.
Не знаю, почему, но я настроился на то, что увижу тсантсу белого человека с волосами орехового цвета, которые, подходя к голубоватому оттенку чисто выбритого подбородка, в то же время будут противоречить желтоватой бледности его кожи.

Лицо было цвета молочной белизны, а курносый нос был весь усыпан веснушками, как у английских подростков.
И тут у меня мелькнула мысль, что мне предлагают тсантсу, сделанную из головы юноши, студента или, скорее всего, школьника старших классов.
Я отказался прикасаться к этому «фрагменту трупа» (так я про себя ее назвал) и умолял Санчеса завернуть тсантсу опять в шелк, из которого он ее вынул жестом сентиментального заклинателя или мага.
Я смутно сознавал, что это было не давно сделанное, но нечто новое, ужасающе новое изделие, свежесть которого подчеркивалась молодостью самой жертвы.
Более того, поведение Санчеса усилило мою мысль.
— Сожалею, — сказал он, — но меня не устроят сто тысяч песо. Слишком многих пришлось заставить держать язык за зубами, а это не так легко, как закрыть рот этой тсантсе. Совесть ценится очень дорого. Поэтому вы должны мне двести тысяч песо.
Мне был настолько невыносимо отвратителен Санчес (и я сам), что в тот момент никакая сумма не показалась бы мне слишком большой, лишь бы поскорее от него избавиться. Не возразив ни слова, я немедленно дал ему чек на требуемую сумму.
Санчес ушел, оставив шелковый сверток на столе. Когда я прятал это жуткое приобретение в ящик стола, дверь вновь открылась.
— Послушайте, — из-за двери показалась голова Санчеса, если в национальном банке поинтересуются, за что уплачен чек, скажите, что купили драгоценный камень.
Дверь закрылась. Таким образом, драма подошла к концу, и с этого момента я буду наслаждаться более приятной жизнью. По крайней мере, так я считал тогда.
Прямо на следующий день миссис Хойет, не дожидаясь моего ежедневного визита с целью справиться о здоровье Элис, которая все еще была на карантине, попросила меня прийти к ней домой, где, к моему величайшему удивлению, меня сопроводили в ее комнату.
Слова, с которыми она приняла меня, отбросив в сторону обычные любезности, заставили меня понять, что случилось и почему она нарушает правила приличия, пригласив прямо к себе.
— Элис умерла, — произнесла она совершенно спокойно. — Вы не поможете мне выполнить необходимые формальности для похорон? Ну, ну, успокойтесь, — добавила она, увидя, как я побледнел. — Быстрее! Налейте немного виски; вам полегчает.
Это были ее единственные слова сочувствия. Три последующих дня прошли в молчании. Похороны были очень немноголюдные; очевидно, страх перед инфекцией свел количество пришедших попрощаться до минимума.
Через день миссис Хойет сказала мне, что решила вернуться в Бостон, где вторично закажет поминальную службу. Она дала понять, что ее дальние родственники в Бостоне посчитают мое присутствие при этом бесполезным, если не сказать большего. Как я мог после этого настаивать?
Я помог ей достать удобное место на пароход, идущий в Филадельфию, и решил отправиться при первой же возможности в Европу.
Мне казалось, что дальнее путешествие может слегка облегчить тяжесть переживаний.
В действительности, я обманывал себя. Именно здесь, в Марселе, я почувствовал общий упадок сил и духа. То, что я сейчас вам скажу, в самом деле очень странно. Никто не склонен верить тому, что я говорю, и все, на кого я полагался, неизбежно приходили к выводу, что я выжил из ума. Я не стану просить вас поверить мне, только выслушайте меня. Нельзя ожидать, чтобы люди верили в то, что непостижимо и выходит из ряда вон.
Мистер Ф. поднялся и открыл окна, которые выходили в сад. Нотр Дам де ля Гард вдалеке, казалось, парил в воздухе. Все бы говорило о мире и спокойствии, если бы толстые оконные прутья, пересекающие пейзаж, не напоминали о том месте, где мы находились. Казалось, они предупреждали меня на своем беззвучном языке: будь осмотрительнее, не принимай близко к сердцу все рассказанное.
— Именно в Марселе, — продолжал Ф., снова вернувшись в кресло, — почувствовал я начало заболевания, которое привело меня сюда.
О, вначале это не было очень серьезно; случайная мигрень, которую я отнес за счет перемен в диете и климате. Но эти головные боли стали все более частыми и острыми. Сначала они продолжались примерно час, и я избавлялся от них, приняв таблетку аспирина. Но потом приступы усилились и продолжались по нескольку часов, не поддаваясь даже большим дозам снотворного. Ощущение такое, будто голова моя зажата в тиски и кто-то невидимый все сильнее их сжимает. Вы подумаете, что это простое самовнушение. Возможно, я согласен, но однажды, собираясь выйти на утреннюю прогулку, я надел свою фетровую шляпу, и она спустилась мне прямо на глаза.
«Вчера парикмахер снял слишком много волос», — подумал я. Так как шляпа была старая, я купил другую, предусмотрев, чтобы она хорошо мне подходила.
Через три месяца, к моему удивлению, новая шляпа тоже стала сползать на глаза.
На сей раз я рассердился! Ведь я не был у. парикмахера накануне. Я пошел к торговцу шляпами и сорвал на нем свое дурное настроение. Он очень извинялся.
— После войны, — объяснил он, — фетр стал совсем не того качества, что прежде; кроме того, кожа, которая используется для подкладки, слишком новая. Если вы позволите, я проложу изнутри ленту из плотной ткани, и все будет в порядке.
Я ушел из магазина успокоенный. Прошло еще три месяца. Я вынужден был согласиться с торговцем: шляпа, действительно, была плохого качества, так как сильно растянулась.
Я отдал ее швейцару отеля, который явно обрадовался, получив в подарок практически новую шляпу. Потом я пошел в другой магазин. В этот раз, чтобы избежать всяких неприятностей, я купил шляпу у Лока, лондонского мастера, несмотря на очень высокую цену. Вы знаете, как тщательно эти шляпы изготовляются и какова их стоимость.
Через три месяца мне пришлось удвоить подкладку, а еще через месяц я выбросил ее в мусорное ведро.
Правда становилась слишком явной и бросалась в глаза верхняя часть моей головы уменьшалась.
Боли, которые постоянно усиливались, не прекращались и от наркотиков. Только морфий давал некоторое облегчение. И если лекарство частично ослабляло боль, оно не в состоянии было избавить меня от дурных предчувствий, Я понял, — простите, я понимаю это и сейчас, — что череп мой, как говорится, тает прямо на глазах. Я прекрасно сознавал, что стал жертвой странного феномена, который был связан в моем представлении и связан до сегодняшнего дня с ужасной сделкой, заключенной мною год назад.
Я прервал мистера Ф. Тем самым я хотел, чтобы у него сложилось впечатление, что я не оспариваю его точку зрения. «Это очень важно по отношению к таким больным людям», — подумал я.
— А тсантса? Что вы с ней сделали?
— По прибытии в Марсель я подарил ее антропологическому музею города. Хранитель выразил мне глубокую признательность за такой подарок. Вы можете ее там увидеть, если захотите. Что касается меня, я уже никогда ее не увижу, даже если бы мне разрешили выйти отсюда, я бы ни за что не пошел туда.
Я полагаю, нет необходимости говорить вам, — продолжал он с благодарностью в голосе, благодарностью за то, что я его внимательно слушал, — как я ходил от доктора к доктору, рассказывая об этом случае. История моя, без сомнения, поражает их. Они считают ее фантастической. Один из докторов, друг моего брата, телеграфировал ему как главе нашей семьи, чтобы сообщить о своих беспокойствах, бесстыдно нарушив кодекс врачебной этики. Состоялся семейный совет. Вы знаете пословицу о том, что отсутствующий всегда неправ. Я был изолирован и помещен здесь как душевнобольной.
Поверите ли, я согласился с таким решением проблемы по нескольким причинам. Прежде всего, я считал себя виновным, и эта тюрьма, в которой я оказался, по-моему, слишком мягкое наказание за то, что я всегда называл своим «преступлением».
Кроме того, я испытывал жестокие боли, что бывает и сейчас. Только клиники обеспечат меня необходимой дозой морфия, который даст мне возможность немного поспать. При обычных условиях я не смог бы получить его в достаточно больших количествах.
И еще одно. Изменение размеров моего черепа, которое очень долго мог видеть только я, стало бросаться всем в глаза. Это нетрудно заметить. Люди оборачиваются вслед и смотрят на меня. Моя голова, напоминающая голову ацтека, явно их озадачивает; она не только коническая, но и комическая.
Я сделал легкий жест несогласия, просто из вежливости, надо полагать.
— Умоляю вас, давайте закончим с этим. Вы и сами видите, что выгляжу я так, что хоть сейчас на карнавал.
Мистер Ф. поднялся. Я понял, что наша встреча подошла к концу и ему больше нечего мне сказать. Кроме того, чувствовалось, насколько он устал. И я, в свою очередь, тоже поднялся.
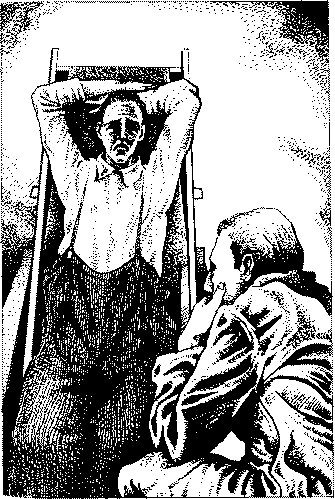
— Она умерла, сэр, — возразил мистер Ф. — Не будем о ней. Пусть спит спокойно.
В этот момент я понял в смятении, что он все еще любит эту женщину, которая его погубила.
Глаза моего собеседника, утонувшие у основания пирамидального черепа, вспыхнули каким-то странным светом.
С чувством, что спасаюсь бегством, оставил я его в комнате и закрыл за собой дверь.
— В самом деле, необычная история, мой дорогой доктор, сказал я через несколько минут доктору Маршану, который ожидал меня в своем кабинете; — Своего рода мания преследования, связанная с чувством собственной неполноценности, к тому же отягощенная мазохизмом…
— Вы очень проницательны, — заметил доктор.
— Однако история со шляпами очень странная. Это нечто субъективное, не так ли? — спросил я. — Если это, конечно, не из области воображения.
— Нет, нет, — ответил психиатр. — Я расскажу вам сейчас, что произошло.
Вы знаете, что у новорожденных две половины черепа соединены одна с другой хрящевой перегородкой. И только через несколько месяцев, постепенно, она заменяется костной тканью, и череп становится единым целым.
В случае с моим пациентом, по причинам мне неизвестным, но которые я отношу к недостатку кальция в организме, соединение это не имело места. И только когда он стал взрослым человеком, это равновесие восстановилось и произошло зарастание родничков.
Вполне возможно, что в недавнем прошлом у него была анемия, и тот факт, что он уехал их тропиков, вполне мог ускорить процесс.
Срастание полушарий черепа, произошедшее в столь позднем возрасте, не могло не вызывать головных болей, на которые жалуется мистер Ф. Они вполне объяснимы и ни в коем случае не воображаемы. С другой стороны, если что и является воображаемым, так это версия моего пациента о прямой связи между уменьшением черепа и приобретением тсантсы, изготовленной (это подходящее слово в данном случае) специально для него. А от этого до навязчивой идеи — один лишь шаг. И мистер Ф. его сделал.
Мне удалось временно приостановить заболевание при помощи введения нескольких платиновых дуг между краями черепной кости. Операция была успешной, так как в течение года у мистера Ф. не было болей. Когда головные боли начали возобновляться, я велел состричь ему волосы, и там, где они были густыми, я заметил, что платиновые пластины согнулись под воздействием непреодолимой силы срастающейся кости.
Конечно, я предложил ему заменить пластины, что гарантировало бы еще год без страданий; по крайней мере, это казалось вполне вероятным. Он отказался и сейчас отказывается категорически. А я, со своей стороны, не могу принуждать своих пациентов силой. Это не мой метод. Особенно, когда они вполне способны рассуждать и разум не оставил их полностью, как, скажем, у этого человека.
Я поблагодарил доктора и ушел. Когда я пересекал порог Виллы де ля Гард, я испытал такое же чувство облегчения, как и некоторое время до того, когда выходил из комнаты больного.
Несколько месяцев спустя я вернулся в Марсель. Будучи человеком незанятым во время своего отпуска, и, к тому же любопытным, я направился в один прекрасный день в антропологический музей.
Там я тщетно искал в коллекции (которая, между тем, была прекрасно подобрана) тсантсу белого человека, принесенную в дар «доном Хосе». Вполне возможно, подумал я, что эта тсантса существовала только в больном воображении моего нового знакомого.
Это стоило выяснить, и я послал свою визитную карточку хранителю музея. Он принял меня почти тотчас же.
— Да, сэр, — ответил он на мой вопрос. — Да, этот очень любопытный предмет был подарен нашему музею несколько лет назад человеком, который был болен. Он жил в нашем городе. К несчастью, он умер.
— Умер?! — воскликнул я.
Он кивнул головой и приготовился продолжить свой рассказ.
— Это был уникальный предмет, по крайней мере, когда его передали нам. Но ему не подходил сырой климат Марселя. Кожа этого анатомического экземпляра, которая, вероятно, была плохо просушена на солнце, через несколько месяцев начала возвращаться к своему первоначальному виду и размеру. Через два года она была натуральной величины или почти натуральной величины человеческой головой, которая находилась в витрине музея. Более того, головой довольно привлекательного молодого человека, почти юноши. На нее невозможно было смотреть без жалости и содрогания. Посетители музея начали писать письма и протесты по вполне объяснимым причинам.
Действительно, голова в то время настолько отличалась от той крошечно-кукольной, которую мы получили как антиквариат, что мы решили — место ей не в музее, а на кладбище. Мы передали ее заботам священника, и он сам распорядился похоронами. Правда, я не знаю точного места захоронения.
Я ушел и решил напомнить о себе доктору Маршану. Я обрисовал ему странное впечатление, которое произвело на меня открытие. Тсанса белого человека изменялась прямо на глазах: ее пропорции увеличивались в то время, как череп мистера Ф. уменьшался.
— Что-то я не пойму, к чему вы клоните, — ответил доктор, который был выбит из колеи моим визитом. — Уж не хотите ли вы предположить, что мой пациент был прав, проводя параллель между собственным уродством или, точнее, прогрессирующим изменением к худшему, и тем музейным экспонатом, воспоминание о котором не давало покоя его расстроенным нервам?
Что я должен был ответить на это? С точки зрения науки доктор был, несомненно, прав. И все-таки.
(Перевод А.Сыровой)
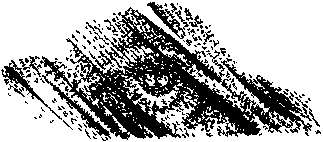
Уолтер Уинвард
БЛАГОДЕТЕЛЬ
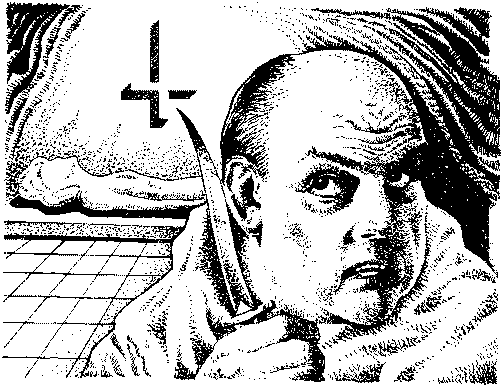
Глупые люди, таращатся на него. Они бы не были излишне любопытны, если бы знали, кто он. О, нет! Тем не менее, ему надо было избавляться от привычки громко смеяться на людях. Кое-кто может узнать его, а этого следовало избегать во что бы то ни стало. Трудно было подавить веселье, коль скоро оно родилось в тебе, и он поставил на карту свою жизнь, что никто в пределах слышимости не осмелится даже приблизительно догадаться о причине его смеха. Возможно, они подумают, что он немолодой чудак или из тех, кто компенсирует излишний вес, превращая свою жизнь в шутку. Ну, пусть думают, как хотят.
Не то, чтобы у него были забавные мысли, это далеко не так. Он смеялся ни над чем иным, как над собственной ловкостью, умением. Он был здесь, а они были там — остальные и никто не узнал его.
Он мог беседовать с продавцами, барменами, даже полисменами, и все они вынуждены были быть машинально вежливыми. Но однажды он им скажет. Однажды они узнают все.
Он глубоко вздохнул и посмотрел на часы: как обычно, рано. У него было свое правило: не спеши приниматься за работу. Побольше времени оставь для прогулок.
Он прошел до конца улицы. Мощеная булыжником, она постепенно переходила в грунтовую дорогу, выводящую на зеленые поля. Он восхищался тем, что сельская местность Кент находилась в получасе ходьбы от его лондонской квартиры. Тридцать недолгих минут — и вместо мрачных городских дворов с хилыми воробьями он попадал в иной мир с вызывающими умиротворение и спокойствие благоухающими садами, зелеными лугами и ленивыми коровами. Замечательный день, двадцатый за последние пять лет. Замечательный не потому, что его окружал такой пейзаж, а в связи с его миссией. Это не было связано с погодой или сезоном. Иногда день был пасмурным. Это могло быть и в ноябре, не обязательно в июне. Но день всегда кончался чудесно, и воспоминания о нем не угасали долго, до следующего раза.
Не то, чтобы у него была большая передышка между ДЕЛАМИ и было ли это слово верным? Не совсем. Слишком это широкое понятие. Ему нравились его ДЕЛА. Это доставляло только удовольствие. В Сазерленде, Ливерпуле, Саутгемптоне или Лондоне он всегда ДЕЛАЛ то, что хотел.
Лондон нравился ему давно, но он находился здесь почти уже год. Год и три ДЕЛА — все-таки ему придется найти для этого определения другое слово — четыре ДЕЛА, если иметь в виду и сегодняшнее. Да, перемена мест для него была необходима, что по своему было грустно, потому что Лондон предлагал и жизнь, полную разнообразных развлечений, и анонимность. А в маленьком городке всегда существовала проблема снять квартиру в соответствии со своими запросами. Она должна быть отдельной, на первом или втором этаже. К тому же было бы неплохо, если бы интересы домовладельца, сдающего квартиру, сводились, главным образом, к тому, чтобы вовремя получить с жильцов плату, а не совать нос в их жизнь. Все эти запросы было легко удовлетворить в Лондоне, но в другом месте… Однако он уже оставался здесь дольше, чем позволяло благоразумие, к тому же через год или около этого он мог вернуться сюда опять.
Он бросил прощальный взгляд на пейзаж, вздохнул с сожалением и ускорил шаг.
Несмотря на свою полноту, он двигался быстро и легко, его кажущаяся дряблость вызывала ошибочное представление. Пару раз его явная безобидность вдохновляла воров, мечтающих завладеть его бумажником. Они неизменно оказывались в госпиталях. Он знал, что чрезмерная полнота и внешнее дружелюбие были самыми ценными в его облике, и он вовсю использовал и то и другое.
Детский дом святой Марии (или, как менее привлекательно он назывался местными жителями, приют для сирот) был расположен в дальнем конце Хай Стрит, именно к нему и направился толстяк. Он постоял некоторое время у ворот, наблюдая за тем, как резвятся мальчишки, а потом быстро направился по дорожке к главному зданию. Через минуту он был в кабинете директора.
— Мой дорогой мистер Рассел! — воскликнул директор, поднимаясь из-за стола и протягивая руку. — Как я рад вас видеть!
Рассел, толстяк, что-то пробормотал себе под нос, надеясь в душе, что директор не будет его раздражать, как это бывало обычно.
