Страница:
Говард Лавкрафт
СКЛЕП
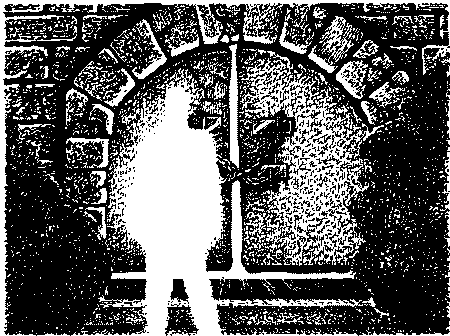 В связи с событиями, которые привели меня к пребыванию в приюте для душевнобольных, я сознаю, что мое положение, естественно, ставит под сомнение достоверность моего повествования. К сожалению, неоспоримый факт, что большая часть человечества слишком ограничена в своей умственной способности к проницательности и предвидению. Таким людям трудно бывает понять тех немногих психически утонченных индивидуумов, чье ощущение и восприятие отдельных феноменов окружающего мира лежит за пределами общепринятого. Люди более широкого интеллекта знают, что нет четкой границы между реальным, действительным и нереальным, воображением, что все явления воспринимаются каждым из нас по-своему, благодаря тонким индивидуальным физическим и психическим различиям. Именно они и делают все наши ощущения столь непохожими. Тем не менее прозаический материализм большинства изобличает чуть ли не как сумасшествие явления иррациональные, явно не укладывающиеся в прокрустово ложе обыденной логики и смысла.
В связи с событиями, которые привели меня к пребыванию в приюте для душевнобольных, я сознаю, что мое положение, естественно, ставит под сомнение достоверность моего повествования. К сожалению, неоспоримый факт, что большая часть человечества слишком ограничена в своей умственной способности к проницательности и предвидению. Таким людям трудно бывает понять тех немногих психически утонченных индивидуумов, чье ощущение и восприятие отдельных феноменов окружающего мира лежит за пределами общепринятого. Люди более широкого интеллекта знают, что нет четкой границы между реальным, действительным и нереальным, воображением, что все явления воспринимаются каждым из нас по-своему, благодаря тонким индивидуальным физическим и психическим различиям. Именно они и делают все наши ощущения столь непохожими. Тем не менее прозаический материализм большинства изобличает чуть ли не как сумасшествие явления иррациональные, явно не укладывающиеся в прокрустово ложе обыденной логики и смысла.
Меня зовут Джервас Дадли. С раннего детства я рос отрешенным и далеким от жизни человеком, своеобразным мечтателем. Мое материальное благосостояние позволяло мне освободиться от забот о хлебе насущном. По складу своего характера, весьма импульсивного, я не был расположен к наукам или развлечениям в обществе друзей и знакомых. Я предпочитал пребывать в царстве грез и мечтаний, в стороне от событий реального мира.
Мои юные годы прошли в чтении древних и малоизвестных книг и манускриптов, в прогулках по полям и лесам неподалеку от дома, который мне достался по наследству. Не думаю, что то, что я узнал из тех книг или увидел в лесах и полях, было именно тем, что знали или видели другие. Но не следует много говорить об этом, так как подробные рассуждения на данную тему только дадут лишнюю пищу для безжалостного злословия по поводу моего рассудка, которое мне и раньше приходилось слышать в осторожном шепоте окружающих за спиной. Мне вполне достаточно рассказать о событиях, не углубляясь в сам механизм причинно-следственных связей.
Как уже было сказано, я пребывал в царстве грез и фантазий, в стороне от реального материального мира, но я не утверждал, что находился в нем в одиночестве. Абсолютного одиночества в природе не существует. Особенно оно не характерно для человека: ведь из-за недостатка или отсутствия дружеских взаимоотношений с окружающими его неодолимо влечет к общению с другим миром — с тем, что уже более не является или вовсе не является живым.
Рядом с моим домом есть уединенная, поросшая леском ложбина, углубившись в которую в полумраке я проводил почти все свое время в чтении, размышлениях и мечтах. По этим склонам, поросшим мхом, я делал первые шаги в младенчестве, рядом с сучковатыми, причудливо изогнутыми дубами моих мальчишеских фантазий. Хорошо ли я узнал лесных нимф? Часто ли наблюдал их фантастические и самозабвенные хороводы при едва пробивающемся свете ущербной луны? — но не об этом я должен говорить сейчас. Я только расскажу вам об одиночестве склепа, укрывшегося в сумраке чащи, о заброшенном склепе семейства Хайдов, старинной и благородной фамилии, чей последний прямой потомок нашел свое упокоение в его темных глубинах за несколько десятилетий до моего появления на свет.
Фамильный склеп, о котором идет речь, был построен из старого гранита, с течением времени изменившего свой цвет от частых дождей и туманов. Это врытое в склон холма сооружение можно увидеть, только оказавшись у самого входа. Дверь, массивная и непривлекательная гранитная плита, висит на проржавевших железных петлях и странным образом неплотно прикрыта с помощью железных цепей и висячих замков, соответствуя отвратительной моде полувековой давности. Обиталище же нескольких поколений, которое когда-то венчало собой склон, поддерживающий его, — дом не так давно стал жертвой пожара, возникшего здесь от удара молнии. О той, разразившейся посреди ночи грозе, которая разрушила это мрачное строение, старожилы в округе говорили иногда тихими тревожными голосами, намекая на то, что они называли «божьим гневом». Сами эти слова и то, с какой интонацией они произносились, усилили во мне с годами и без того всегда сильное почтение к развалинам, могилам и склепам, приютившимся в густых темных лесах. В том сильном пожаре погиб только один человек.
Когда умер последний из рода Хайдов, он был похоронен в этом тихом тенистом месте. Его бренные останки были перевезены сюда из далекой страны, где семья нашла приют после того, как сгорел особняк. Не осталось никого, кто мог бы положить цветы у гранитного портала. Немногие осмелятся храбро вступить в этот гнетущий полумрак, окружающий склеп. Полумрак, в котором, казалось, бродят призраки.
Никогда не забуду тот день, когда впервые наткнулся на этот спрятавшийся от глаз дом, приютивший смерть. Это было в середине лета, когда алхимия природы превращает пейзаж в один живой и почти однородный зеленый массив; когда чувствуешь упоение от шелестящей вокруг тебя влажной после дождя листвы и не поддающейся тонкому распознаванию запахов земли и растительности. В таком живописном окружении мысли отказываются работать; время и пространство становятся незначащими и нереальными категориями, а эхо забытого доисторического прошлого настойчиво отдается в очарованном сознании.
Весь день я бродил по ложбине, в таинственной роще, думая о том, что не нуждается в обсуждении. И был-то я ребенком десяти лет от роду. Я видел и слышал такие чудеса, от которых далека толпа, и странным образом в некотором смысле чувствовал себя совсем взрослым. Когда, с трудом пробираясь сквозь заросли густого вереска, я неожиданно наткнулся на вход в склеп, я не имел ни малейшего понятия о том, что обнаружил. Глыбы темного гранита, дверь, таинственно приоткрытая, погребальные надписи над входом не вызывали у меня мрачных или неприятных ассоциаций. О могилах и склепах мне было известно, и я много о них думал, но в силу особого свойства характера меня всегда старались оградить от посещений кладбищ. Странный каменный домик на поросшем лесом склоне был для меня не более, чем источником любопытства; и его холодное, сырое пространство внутри, в которое я тщетно пытался проникнуть сквозь соблазнительно приоткрытую дверь, не содержало для меня даже намека на смерть или тление. Но в то мгновение зародилось безрассудное желание, которое и привело меня в ад этого заточения, где я нахожусь сейчас. Побуждаемый голосом, который, должно быть, исходил из страшных глубин леса, я решился войти в этот манящий мрак, несмотря на массивные цепи, загораживающие проход. В угасающем свете дня я с грохотом сотрясал металлические детали на каменной двери, намереваясь открыть ее пошире, и пытался протиснуть свое худощавое тело сквозь уже имеющуюся щель. Но успех не сопутствовал моим усилиям. Испытывая поначалу обычный интерес, я становился просто одержимым, и когда в сгущающихся сумерках вернулся домой, то поклялся богом, что любой ценой однажды взломаю дверь, ведущую в эти темные глубины, которые, казалось, звали меня. Врач с седеющей бородой, который каждый день навещал меня в моей палате, однажды сказал кому-то из посегителей, что это решение и положило начало моему заболеванию, — мономании; но я оставляю окончательное решение за моими читателями, когда они обо всем узнают.
Месяцы, последовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный замок, висящий на двери, в крайне осторожных расспросах относительно возникновения здесь этого сооружения. Имея от природы восприимчивый ум и слух, я многое узнал; хотя врожденная скрытность заставляла меня никого не посвящать в свои дела и планы. Возможно, стоит упомянуть о том, что я вовсе не был удивлен или напуган, узнав о предназначении склепа. Мои довольно оригинальные размышления о жизни и смерти смутным образом ассоциировали холодную плоть с живым телом, и мне казалось, что та большая, несчастная семья из сгоревшего особняка каким-то образом переселена внутрь каменного пространства, которое я горел желанием исследовать. Случайно услышанные истории о таинственных обрядах и нечестивых пирушек в старинном особняке вызвали у меня новый глубокий интерес к этому месту, возле двери которого я бывало сидел по нескольку часов подряд каждый день. Однажды я бросил свечу в приоткрытую дверь, но не смог увидеть ничего, кроме нескольких серых каменных ступеней, ведущих а подземелье. Запах, исходящий изнутри, был омерзительным, он отталкивал, но одновременно и околдовывал меня. Мне казалось, что я знал его прежде, в далеком-далеком прошлом, скрытом за пределами моей Памяти.
Через год после этого случая, на чердаке своего дома, заваленного книгами, я наткнулся на изъеденный червями перевод книги Плутарха «Жизнеописания». Прочитав главу о Тезее, я находился под сильным впечатлением того места, где рассказывалось об огромном камне, под которым будущий герой-отрок должен найти знамение судьбы, едва он станет достаточно взрослым, чтобы сдвинуть тот громадный камень. Эта легенда рассеяла мое острейшее нетерпение попасть в склеп, так как я наконец-то понял, что время мое еще не наступило. Позже, сказал я себе, когда я стану взрослым и наберусь сил и ума, то без труда смогу открыть эту увитую массивными цепями дверь; а до тех пор мне лучше подчиниться тому, что называется предначертанием Судьбы.
Вследствие этого мои бдения у пронизывающего сырого входа стали менее настойчивыми и регулярными, и я проводил много времени в других, не менее необычных занятиях. Иногда по ночам я тихонько поднимался с постели и украдкой выбирался из дома, чтобы побродить по кладбищам и другим местам захоронения, от посещения которых меня так старательно удерживали родители. Я не могу сказать вам, чем я там занимался, так как сейчас и сам уже не уверен в происходящем. Но зато я помню, как на следующий день после подобных ночных вылазок я, бывало часто, удивлял своих домочадцев тем, что мог говорить на темы, почти забытые для многих поколений. Именно после одной из таких ночей я шокировал свою семью познаниями о захоронении богатого и знаменитого сквайра Брюстера, создателя истории этих мест, который был погребен в 1711 году и чей надгробный камень синевато-серого цвета с высеченным на нем изображением двух скрещенных берцовых костей и черепом медленно превращался в прах. В своем детском воображении я тут же представил себе не толькь то, как владелец похоронного бюро Гудман Симпсон украл у покойного башмаки с серебряными пряжками, шелковые длинные носки и атласные короткие штаны в обтяжку, но также и то, как сам сквайр, еще не окончательно умерший, дважды перевернулся в гробу под могильным холмом, на следующий день после погребения.
Мысль забраться в склеп никогда не давала мне покоя, она была усилена неожиданными генеалогическими открытиями, что мое происхождение по материнской линии имело хоть незначительную, но связь с якобы вымершей семьей Хайдов. Последний в роду по линии отца, я был, возможно, последний и в этой старой и таинственной родословной. У меня появились ощущения, что склеп был «моим», и я с огромным нетерпением ждал того момента, когда смогу открыть тяжелую каменную дверь и спуститься по скользким каменным ступеням в темноту подземелья. Теперь у меня появилась привычка стоять у приоткрытой двери в склеп и очень внимательно прислушиваться. Для этого странного ночного занятия я выбирал любимое мое время полуночной тишины. К той поре, когда я стал совершеннолетним, я уже протоптал небольшую прогалину в чаще у входа в склеп. Растительность, окружающая его, — замыкала полукружием образовавшееся пространство, словно ограда. А ветви деревьев нависали сверху, образуя что-то вроде крыши. Эта обитель была моим храмом, а закрытая дверь — алтарем, и здесь я, бывало, лежал, вытянувшись на покрытой мхом земле. Я думал странные думы и жил в мире странных грез.
Ночь, когда я сделал свое первое открытие, была душной. Должно быть, я забылся от усталости, так как отчетливо помню, что в момент пробуждения услышал голоса. Об их окраске, интонациях и произношении я не решаюсь говорить; об их характерных особенностях, о тембрах я не стану говорить; но я могу сказать о колоссальных различиях в словарном составе, выговоре и манере произносить слова. Все многообразие оттенков — от новоанглийско-дантичной риторики пятидесятилетней давности, — казалось, было представлено в этом неясном для слуха разговоре. Хотя на этот удивительный факт я обратил внимание позже. А в тот момент мое внимание было отвлечено от происходящего другим: событием настолько мимолетным, что я не мог бы поклясться, что оно имело место в действительности. Едва ли было моим воображением то, что, когда я проснулся, тут же погас светвнутри осевшего в землю и погруженного во мрак склепа. Не думаю, что я был изумлен или охвачен паникой, но я знал, что очень сильно изменилсятой ночью. Вернувшись домой, я сразу направился на чердак, к полусгнившему комоду, где нашел ключ, с помощью которого на следующий же день без труда преодолел крепость, столь долго находившуюся в осаде.
На это заброшенное и всеми забытое место лился поток мягкого послеполуденного света, когда я впервые вошел под своды склепа. Я стоял, словно зачарованный, сердце мое прыгало от ликования, которое невозможно описать. Как только я закрыл за собой дверь и спустился по влажным от сырости ступенькам при свете моей единственной свечи, мне все показалось здесь знакомым; и хотя свеча потрескивала, разнося вокруг удушающий запах, я странным образом чувствовал себя в застоявшемся, затхлом воздухе склепа как дома. Оглядевшись, я увидел множество мраморных плит со стоящими на них гробами. Вернее сказать, их останками. Некоторые из них были плотно закрыты и невредимы, другие почти полностью разрушились, превратившись в груду белесоватой пыли. Нетронутыми временем остались только серебряные ручки да таблички с надписями. На одной из них я прочитал имя сэра Джеффри Хайда, который приехал из Сассекса в 1640 году и умер спустя несколько лет. В глаза бросалось углубление, где стоял очень хорошо сохранившийся пустой гроб со сверкающей табличкой, на которой было выгравировано имя, вызвавшее у меня и улыбку, и содрогание одновременно. Какое-то странное чувство заставило меня взобраться на широкую плиту, загасить свечу и окунуться в холодное пространство ожидающего своего хозяина дубового ложа.
В серой предрассветной мгле я, спотыкаясь, вышел из-под сводов склепа и запер за собой цепь на двери. Я уже не был более молодым человеком, хотя всего двадцать одна зима студила мои кости. Рано поднимающиеся жители деревни, которые видели, как я шел домой, с удивлением смотрели на меня. Они изумлялись при виде, как им казалось, следов веселой пирушки на лице человека, который, по их мнению, был воздержан и вел уединенный образ жизни. Перед своими родителями я предстал только после того, как выспался и сон взбодрил меня.
С той поры я появлялся в склепе каждую ночь — видел, слышал и делал то, о чем недолжен вспоминать. Первое, что претерпело изменения, так это речь, всегда восприимчивая к разнообразным влияниям; и вскоре окружающие обратили внимание, что в моей манере выражаться появились архаические обороты. Позднее в моем поведении выявились самоуверенность и безрассудство, пока я невольно не приобрел манеры светского человека, несмотря на свое пожизненное затворничество.
Будучи прежде молчаливым, я стал разговорчивым, употребляя в своей речи легкую иронию Честерфилда или безбожный цинизм Рочестера. Я проявлял особую эрудицию, совершенно отличающуюся от причудливых монашеских учений, над которыми я так сосредоточенно размышлял в юности; экспромтом писал легкие эпиграммы с намеками на Гея, Приора и бойкое остроумие Августина. Однажды утром за завтраком я чуть не накликал на себя беду, явно с пафосом продекламировав похотливый Вакхический поток слов поэта восемнадцатого века, продекламировал с игривостью георгианской эпохи, едва ли уместной на страницах этой книги.
Примерно в это время я почувствовал страх перед огнем и грозой. Прежде спокойный и равнодушный к подобным вещам, теперь я испытывал невыразимый ужас и убегал в самые удаленные уголки дома, когда небеса с грохотом извергали электрические разряды. Моим излюбленным пристанищем стал разрушенный подвал сгоревшего особняка. В своем воображении я начал представлять себе, как он выглядел первоначально. Однажды я случайно напугал деревенского жителя, уверенно приведя его в неглубокий подвал, о существовании которого я, как оказалось, знал, несмотря на тот факт, что он был скрыт от глаз и забыт многими поколениями.
В конце концов наступил момент, приближения которого я ожидал со страхом. Мои родители, встревоженные переменами в поведении и внешним видом своего единственного сына и имея самые добрые намерения, начали прилагать все усилия, чтобы проследить за каждым моим движением. Это грозило разразиться бедой. Я никому не рассказывал о своих посещениях склепа, ревностно охраняя свою тайну с самого детства. А теперь я вынужден был применять тщательную предосторожность, устроив хитроумный лабиринт в поросшей лесом ложбине, чтобы сбить с толку возможного преследователя. Ключ от склепа я повесил на веревочку, которую носил на шее. Знал об этом я один. Я никогда не выносил из стен склепа ничего того, что привлекло мое внимание, пока я там находился.
Однажды утром, когда я выходил из склепа после очередного ночного бдения и закреплял цепь у входа не слишком твердой рукой, я увидел в примыкающей чаще перекошенное от страха лицо наблюдателя. Сомнений не было — час расправы приближается, так как приют мой обнаружен и объект моих ночных прогулок открыт. Человек не заговорил со мной, и я поспешил домой в надежде послушать, что он может сообщить моему измученному заботами отцу. Все ли мои временные пристанища, кроме того, что скрыто за скрепленной цепью дверью, известны окружающим? Представьте себе мое восхищенное изумление, когда я услышал, как следивший за мной осторожным шепотом сообщил моему родителю, будто я провел ночь «возле склепа»; а в это время мои застланные дымкой от бессонницы глаза уставились на щель неплотно прикрытой двери, запертой на висячий замок! Каким же чудом был введен в заблуждение наблюдатель? Теперь я был убежден, что какая-то сверхъестественная сила защищала меня. Набравшись храбрости от этого посланного свыше спасения, я вновь возобновил открытые хождения в склеп. Я был уверен в том, что никто не увидит, как я туда проникаю. Целую неделю я от души наслаждался своим частым пребыванием в веселой компании мертвецов, которое я не должен и не хочу здесь описывать, как вдруг случилось нечто, что привело меня в это ненавистное обиталище грусти и однообразия.
Мне не следовало высовывать носа из дома в ту ночь, так как в воздухе висело предчувствие грозы, нет-нет да и погромыхивал гром в свинцовых тучах, и дьявольское свечение поднималось от зловонного болота на дне ложбины. Зов мертвых тоже был иным. Вместо склепа он прозвучал из обугленных останков подвала на гребне холма, откуда могущественный демон поманил меня своей невидимой рукой, когда я появился из рощи и оказался на безлесой равнине перед развалинами. При неясном свете луны я увидел то, что всегда незримо присутствовало во мне.
Особняк, исчезнувший с лица земли столетие назад, вновь вознесся во всем своем великолепии перед моим восторженным взором. Во всех его окнах ярко горел свет многочисленных люстр. По длинной подъездной аллее к особняку двигались экипажи мелкопоместных дворян, обгоняя толпы гостей в изысканных и напудренных париках, шедших пешком из близлежащих особняков. Я смешался с этой толпой, хотя и понимал, что скорее отношусь к хозяевам, нежели к гостям. Внутри огромного зала звучала музыка, слышался смех, в бокалах с вином играли яркие блики от тысяч свечей. Некоторые лица были мне знакомы, я узнал их; мне следовало бы знать их лучше, если бы смерть не поглотила их и печать разложения не коснулась их останков. Во всей этой бурно веселящейся беззаботной толпе я чувствовал себя всеми покинутым. Богохульство, которому мог позавидовать сам Гей, потоком лилось с моих губ, и в остроумных саркастических выпадах я не принимал во внимание ни законов Бога, ни законов природы.
Неожиданно громовые раскаты раздались со всей силой над неумолчным гомоном этого сборища. Они раскололи крышу и заставили примолкнуть от страха даже самых смелых в этой разгулявшейся компаний. Красные языки пламени и обжигающие потоки раскаленного воздуха поглотили дом. Все участники этого странного шабаша, охваченные паникой от свалившегося на их головы несчастья, которое, казалось, переступало все границы неуправляемой природы, бегством спасались в ночи. Я остался один, прикованный к своему месту унизительным страхом, который прежде никогда не испытывал. Но тут душа моя вновь наполнилась ужасом. Сгоревшее живьем дотла, тело мое развеялось по ветру на все четыре стороны. Ведь я никогда не смогу найти свое места в склепе Хайдов!Разве тот гроб был приготовлен не для меня? Разве я не имею права упокоить свои останки среди потомков сэра Джеффри Хайда? Да! Но я потребую от смерти своего, даже несмотря на то, что душа моя ищет спасения через века, чтобы вновь обрести материальную оболочку и найти свое пристанище на пустой мраморной плите в алькове гробницы, Джервас Хайд должен это сделать, он никогда не разделит печальную судьбу Палинора!
Когда видение горящего дома исчезло, я оказался в руках двух мужчин, один из которых шпионил за мной у склепа. Я кричал и отбивался как сумасшедший. Дождь хлынул с небес потоком, в южной стороне неба были видны вспышки молнии, а раскаты грома раздавались над нашими головами. Мой отец с лицом, изборожденным морщинами печали, стоял рядом, когда я выкрикивал свои требования быть похороненным в склепе Хайдов. Он то и дело повторял тем, кто держал меня, чтобы они обращались со мной как можно мягче. Почерневший круг на полу разрушенного подвала свидетельствовал о сильном ударе электрического разряда, и на этом месте толкалась группа любопытных деревенских жителей с фонарями в руках, в поисках маленькой шкатулки старинной работы, которую высветила молния.
Поняв тщетность своих попыток вырваться, я перестал изворачиваться и стал наблюдать за теми, кто искал драгоценности. Мне было разрешено принять участие в этих поисках. Шкатулка, запор которой был вскрыт ударом молнии, извлекшей ее из земли, содержала много бумаг и ценных предметов. Но взгляд мой был привлечен только одним. Это была фарфоровая миниатюра молодого, человека в аккуратно завитом парике с косичкой. Я сумел разобрать инициалы «Дж. Х.». Его лицо было таким, будто это я смотрелся в зеркало.
На следующий день меня привели в эту комнату с зарешеченными окнами. Но я узнавал обо всем, что меня интересовало, с помощью пожилого, бесхитростного слуги, который питал ко мне симпатию за мою молодость и который, как и я, любил кладбище. То, что я осмелился рассказать о чувствах, испытанных мною в склепе, вызывало у других только жалостливые улыбки. Мой отец, который часто навещал меня, заявляет, что я не мог проникнуть сквозь дверь с цепями, и клянется, что к ржавому замку не прикасались вот уже лет пятьдесят. Он пришел к такому выводу, проверив его. Он даже говорит, будто вся деревня знала о моих прогулках к склепу и наблюдала за мной, когда я спал около него с полуприкрытыми глазами, устремленными на щель, ведущую внутрь. Против этих утверждений у меня нет никаких вещественных доказательств, так как ключ от висячего замка был утерян той ужасной ночью, когда меня схватили. Отец также отвергает все мои необычные познания о прошлом, вынесенные мною из встреч с покойниками, и считает их плодом моих всепоглощающих чтений старинных томов фамильной библиотеки. Если бы не мой старый слуга Хирам, я был бы полностью убежден в своем сумасшествии.
Но Хирам, преданный мне до последнего, верит мне и побудил меня сделать достоянием людей по крайней мере часть моей истории. Неделю назад он открыл замок, снял цепи с двери склепа и спустился с лампой в его темное чрево. На мраморной плите в алькове он нашел старый, но пустой гроб. На его потускневшей от времени табличке было только одно слово: «Джервас». В том гробу и в том склепе и обещали похоронить меня.
Перевод с англ. А. Сыровой
ПРАЗДНЕСТВО
Я находился вдалеке от родного дома, у дальних берегов моря, что окончательно околдовало меня. В сумерках я слышал, как его волны накатываются, разбиваясь о камни, и знал, что морская стихия разлилась как раз над холмом, где гибкие ивовые ветви густо переплетались на фоне проясняющегося неба и первых звезд нарождающейся ночи. И так как предки мои призвали меня в этот старинный город, я продолжил свой путь по мягкому, только что выпавшему снегу вдоль дороги, одиноко взмывающей вверх, туда, где Лльдебаран мерцал огнями среди деревьев. Навстречу древнему городу, который я никогда не видел, но о котором столько мечтал.
Был Yuletide, [81]который люди называют Рождеством, хотя в душе знают, что он древнее, чем Вифлеем и Вавилон, древнее, чем Мамфис и все человечество. Был Yuletide, и наконец-то я пришел в этот старый приморский город, где жили мои предки и отмечали этот праздник еще в те далекие времена, когда он был запрещен. Они наставляли своих сыновей отмечать его раз в столетие, чтобы не стерлись в памяти его главные таинства и обряды. Предки мои были старыми. Они были старыми уже тогда, когда обосновались на этой земле триста лет назад. И были здесь они чужими, эти угрюмые, скрытные люди из южных садов орхидей, и говорили на своем языке, прежде чем выучили язык голубоглазых рыбаков. Теперь судьба разбросала их по свету, и единственное, что объединяло их, так это ритуалы тайн обрядов, никому кроме них неведомых. Я был единственным, кто вернулся той ночью в древний рыбацкий город согласно легенде, которую помнят только бедняки да люди одинокие.
СКЛЕП
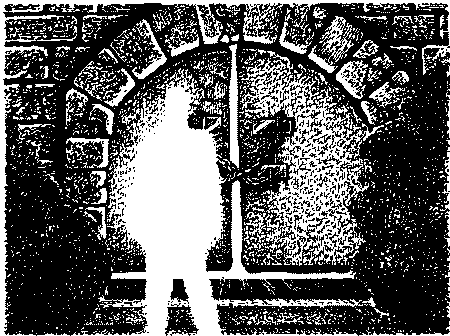
Меня зовут Джервас Дадли. С раннего детства я рос отрешенным и далеким от жизни человеком, своеобразным мечтателем. Мое материальное благосостояние позволяло мне освободиться от забот о хлебе насущном. По складу своего характера, весьма импульсивного, я не был расположен к наукам или развлечениям в обществе друзей и знакомых. Я предпочитал пребывать в царстве грез и мечтаний, в стороне от событий реального мира.
Мои юные годы прошли в чтении древних и малоизвестных книг и манускриптов, в прогулках по полям и лесам неподалеку от дома, который мне достался по наследству. Не думаю, что то, что я узнал из тех книг или увидел в лесах и полях, было именно тем, что знали или видели другие. Но не следует много говорить об этом, так как подробные рассуждения на данную тему только дадут лишнюю пищу для безжалостного злословия по поводу моего рассудка, которое мне и раньше приходилось слышать в осторожном шепоте окружающих за спиной. Мне вполне достаточно рассказать о событиях, не углубляясь в сам механизм причинно-следственных связей.
Как уже было сказано, я пребывал в царстве грез и фантазий, в стороне от реального материального мира, но я не утверждал, что находился в нем в одиночестве. Абсолютного одиночества в природе не существует. Особенно оно не характерно для человека: ведь из-за недостатка или отсутствия дружеских взаимоотношений с окружающими его неодолимо влечет к общению с другим миром — с тем, что уже более не является или вовсе не является живым.
Рядом с моим домом есть уединенная, поросшая леском ложбина, углубившись в которую в полумраке я проводил почти все свое время в чтении, размышлениях и мечтах. По этим склонам, поросшим мхом, я делал первые шаги в младенчестве, рядом с сучковатыми, причудливо изогнутыми дубами моих мальчишеских фантазий. Хорошо ли я узнал лесных нимф? Часто ли наблюдал их фантастические и самозабвенные хороводы при едва пробивающемся свете ущербной луны? — но не об этом я должен говорить сейчас. Я только расскажу вам об одиночестве склепа, укрывшегося в сумраке чащи, о заброшенном склепе семейства Хайдов, старинной и благородной фамилии, чей последний прямой потомок нашел свое упокоение в его темных глубинах за несколько десятилетий до моего появления на свет.
Фамильный склеп, о котором идет речь, был построен из старого гранита, с течением времени изменившего свой цвет от частых дождей и туманов. Это врытое в склон холма сооружение можно увидеть, только оказавшись у самого входа. Дверь, массивная и непривлекательная гранитная плита, висит на проржавевших железных петлях и странным образом неплотно прикрыта с помощью железных цепей и висячих замков, соответствуя отвратительной моде полувековой давности. Обиталище же нескольких поколений, которое когда-то венчало собой склон, поддерживающий его, — дом не так давно стал жертвой пожара, возникшего здесь от удара молнии. О той, разразившейся посреди ночи грозе, которая разрушила это мрачное строение, старожилы в округе говорили иногда тихими тревожными голосами, намекая на то, что они называли «божьим гневом». Сами эти слова и то, с какой интонацией они произносились, усилили во мне с годами и без того всегда сильное почтение к развалинам, могилам и склепам, приютившимся в густых темных лесах. В том сильном пожаре погиб только один человек.
Когда умер последний из рода Хайдов, он был похоронен в этом тихом тенистом месте. Его бренные останки были перевезены сюда из далекой страны, где семья нашла приют после того, как сгорел особняк. Не осталось никого, кто мог бы положить цветы у гранитного портала. Немногие осмелятся храбро вступить в этот гнетущий полумрак, окружающий склеп. Полумрак, в котором, казалось, бродят призраки.
Никогда не забуду тот день, когда впервые наткнулся на этот спрятавшийся от глаз дом, приютивший смерть. Это было в середине лета, когда алхимия природы превращает пейзаж в один живой и почти однородный зеленый массив; когда чувствуешь упоение от шелестящей вокруг тебя влажной после дождя листвы и не поддающейся тонкому распознаванию запахов земли и растительности. В таком живописном окружении мысли отказываются работать; время и пространство становятся незначащими и нереальными категориями, а эхо забытого доисторического прошлого настойчиво отдается в очарованном сознании.
Весь день я бродил по ложбине, в таинственной роще, думая о том, что не нуждается в обсуждении. И был-то я ребенком десяти лет от роду. Я видел и слышал такие чудеса, от которых далека толпа, и странным образом в некотором смысле чувствовал себя совсем взрослым. Когда, с трудом пробираясь сквозь заросли густого вереска, я неожиданно наткнулся на вход в склеп, я не имел ни малейшего понятия о том, что обнаружил. Глыбы темного гранита, дверь, таинственно приоткрытая, погребальные надписи над входом не вызывали у меня мрачных или неприятных ассоциаций. О могилах и склепах мне было известно, и я много о них думал, но в силу особого свойства характера меня всегда старались оградить от посещений кладбищ. Странный каменный домик на поросшем лесом склоне был для меня не более, чем источником любопытства; и его холодное, сырое пространство внутри, в которое я тщетно пытался проникнуть сквозь соблазнительно приоткрытую дверь, не содержало для меня даже намека на смерть или тление. Но в то мгновение зародилось безрассудное желание, которое и привело меня в ад этого заточения, где я нахожусь сейчас. Побуждаемый голосом, который, должно быть, исходил из страшных глубин леса, я решился войти в этот манящий мрак, несмотря на массивные цепи, загораживающие проход. В угасающем свете дня я с грохотом сотрясал металлические детали на каменной двери, намереваясь открыть ее пошире, и пытался протиснуть свое худощавое тело сквозь уже имеющуюся щель. Но успех не сопутствовал моим усилиям. Испытывая поначалу обычный интерес, я становился просто одержимым, и когда в сгущающихся сумерках вернулся домой, то поклялся богом, что любой ценой однажды взломаю дверь, ведущую в эти темные глубины, которые, казалось, звали меня. Врач с седеющей бородой, который каждый день навещал меня в моей палате, однажды сказал кому-то из посегителей, что это решение и положило начало моему заболеванию, — мономании; но я оставляю окончательное решение за моими читателями, когда они обо всем узнают.
Месяцы, последовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный замок, висящий на двери, в крайне осторожных расспросах относительно возникновения здесь этого сооружения. Имея от природы восприимчивый ум и слух, я многое узнал; хотя врожденная скрытность заставляла меня никого не посвящать в свои дела и планы. Возможно, стоит упомянуть о том, что я вовсе не был удивлен или напуган, узнав о предназначении склепа. Мои довольно оригинальные размышления о жизни и смерти смутным образом ассоциировали холодную плоть с живым телом, и мне казалось, что та большая, несчастная семья из сгоревшего особняка каким-то образом переселена внутрь каменного пространства, которое я горел желанием исследовать. Случайно услышанные истории о таинственных обрядах и нечестивых пирушек в старинном особняке вызвали у меня новый глубокий интерес к этому месту, возле двери которого я бывало сидел по нескольку часов подряд каждый день. Однажды я бросил свечу в приоткрытую дверь, но не смог увидеть ничего, кроме нескольких серых каменных ступеней, ведущих а подземелье. Запах, исходящий изнутри, был омерзительным, он отталкивал, но одновременно и околдовывал меня. Мне казалось, что я знал его прежде, в далеком-далеком прошлом, скрытом за пределами моей Памяти.
Через год после этого случая, на чердаке своего дома, заваленного книгами, я наткнулся на изъеденный червями перевод книги Плутарха «Жизнеописания». Прочитав главу о Тезее, я находился под сильным впечатлением того места, где рассказывалось об огромном камне, под которым будущий герой-отрок должен найти знамение судьбы, едва он станет достаточно взрослым, чтобы сдвинуть тот громадный камень. Эта легенда рассеяла мое острейшее нетерпение попасть в склеп, так как я наконец-то понял, что время мое еще не наступило. Позже, сказал я себе, когда я стану взрослым и наберусь сил и ума, то без труда смогу открыть эту увитую массивными цепями дверь; а до тех пор мне лучше подчиниться тому, что называется предначертанием Судьбы.
Вследствие этого мои бдения у пронизывающего сырого входа стали менее настойчивыми и регулярными, и я проводил много времени в других, не менее необычных занятиях. Иногда по ночам я тихонько поднимался с постели и украдкой выбирался из дома, чтобы побродить по кладбищам и другим местам захоронения, от посещения которых меня так старательно удерживали родители. Я не могу сказать вам, чем я там занимался, так как сейчас и сам уже не уверен в происходящем. Но зато я помню, как на следующий день после подобных ночных вылазок я, бывало часто, удивлял своих домочадцев тем, что мог говорить на темы, почти забытые для многих поколений. Именно после одной из таких ночей я шокировал свою семью познаниями о захоронении богатого и знаменитого сквайра Брюстера, создателя истории этих мест, который был погребен в 1711 году и чей надгробный камень синевато-серого цвета с высеченным на нем изображением двух скрещенных берцовых костей и черепом медленно превращался в прах. В своем детском воображении я тут же представил себе не толькь то, как владелец похоронного бюро Гудман Симпсон украл у покойного башмаки с серебряными пряжками, шелковые длинные носки и атласные короткие штаны в обтяжку, но также и то, как сам сквайр, еще не окончательно умерший, дважды перевернулся в гробу под могильным холмом, на следующий день после погребения.
Мысль забраться в склеп никогда не давала мне покоя, она была усилена неожиданными генеалогическими открытиями, что мое происхождение по материнской линии имело хоть незначительную, но связь с якобы вымершей семьей Хайдов. Последний в роду по линии отца, я был, возможно, последний и в этой старой и таинственной родословной. У меня появились ощущения, что склеп был «моим», и я с огромным нетерпением ждал того момента, когда смогу открыть тяжелую каменную дверь и спуститься по скользким каменным ступеням в темноту подземелья. Теперь у меня появилась привычка стоять у приоткрытой двери в склеп и очень внимательно прислушиваться. Для этого странного ночного занятия я выбирал любимое мое время полуночной тишины. К той поре, когда я стал совершеннолетним, я уже протоптал небольшую прогалину в чаще у входа в склеп. Растительность, окружающая его, — замыкала полукружием образовавшееся пространство, словно ограда. А ветви деревьев нависали сверху, образуя что-то вроде крыши. Эта обитель была моим храмом, а закрытая дверь — алтарем, и здесь я, бывало, лежал, вытянувшись на покрытой мхом земле. Я думал странные думы и жил в мире странных грез.
Ночь, когда я сделал свое первое открытие, была душной. Должно быть, я забылся от усталости, так как отчетливо помню, что в момент пробуждения услышал голоса. Об их окраске, интонациях и произношении я не решаюсь говорить; об их характерных особенностях, о тембрах я не стану говорить; но я могу сказать о колоссальных различиях в словарном составе, выговоре и манере произносить слова. Все многообразие оттенков — от новоанглийско-дантичной риторики пятидесятилетней давности, — казалось, было представлено в этом неясном для слуха разговоре. Хотя на этот удивительный факт я обратил внимание позже. А в тот момент мое внимание было отвлечено от происходящего другим: событием настолько мимолетным, что я не мог бы поклясться, что оно имело место в действительности. Едва ли было моим воображением то, что, когда я проснулся, тут же погас светвнутри осевшего в землю и погруженного во мрак склепа. Не думаю, что я был изумлен или охвачен паникой, но я знал, что очень сильно изменилсятой ночью. Вернувшись домой, я сразу направился на чердак, к полусгнившему комоду, где нашел ключ, с помощью которого на следующий же день без труда преодолел крепость, столь долго находившуюся в осаде.
На это заброшенное и всеми забытое место лился поток мягкого послеполуденного света, когда я впервые вошел под своды склепа. Я стоял, словно зачарованный, сердце мое прыгало от ликования, которое невозможно описать. Как только я закрыл за собой дверь и спустился по влажным от сырости ступенькам при свете моей единственной свечи, мне все показалось здесь знакомым; и хотя свеча потрескивала, разнося вокруг удушающий запах, я странным образом чувствовал себя в застоявшемся, затхлом воздухе склепа как дома. Оглядевшись, я увидел множество мраморных плит со стоящими на них гробами. Вернее сказать, их останками. Некоторые из них были плотно закрыты и невредимы, другие почти полностью разрушились, превратившись в груду белесоватой пыли. Нетронутыми временем остались только серебряные ручки да таблички с надписями. На одной из них я прочитал имя сэра Джеффри Хайда, который приехал из Сассекса в 1640 году и умер спустя несколько лет. В глаза бросалось углубление, где стоял очень хорошо сохранившийся пустой гроб со сверкающей табличкой, на которой было выгравировано имя, вызвавшее у меня и улыбку, и содрогание одновременно. Какое-то странное чувство заставило меня взобраться на широкую плиту, загасить свечу и окунуться в холодное пространство ожидающего своего хозяина дубового ложа.
В серой предрассветной мгле я, спотыкаясь, вышел из-под сводов склепа и запер за собой цепь на двери. Я уже не был более молодым человеком, хотя всего двадцать одна зима студила мои кости. Рано поднимающиеся жители деревни, которые видели, как я шел домой, с удивлением смотрели на меня. Они изумлялись при виде, как им казалось, следов веселой пирушки на лице человека, который, по их мнению, был воздержан и вел уединенный образ жизни. Перед своими родителями я предстал только после того, как выспался и сон взбодрил меня.
С той поры я появлялся в склепе каждую ночь — видел, слышал и делал то, о чем недолжен вспоминать. Первое, что претерпело изменения, так это речь, всегда восприимчивая к разнообразным влияниям; и вскоре окружающие обратили внимание, что в моей манере выражаться появились архаические обороты. Позднее в моем поведении выявились самоуверенность и безрассудство, пока я невольно не приобрел манеры светского человека, несмотря на свое пожизненное затворничество.
Будучи прежде молчаливым, я стал разговорчивым, употребляя в своей речи легкую иронию Честерфилда или безбожный цинизм Рочестера. Я проявлял особую эрудицию, совершенно отличающуюся от причудливых монашеских учений, над которыми я так сосредоточенно размышлял в юности; экспромтом писал легкие эпиграммы с намеками на Гея, Приора и бойкое остроумие Августина. Однажды утром за завтраком я чуть не накликал на себя беду, явно с пафосом продекламировав похотливый Вакхический поток слов поэта восемнадцатого века, продекламировал с игривостью георгианской эпохи, едва ли уместной на страницах этой книги.
Примерно в это время я почувствовал страх перед огнем и грозой. Прежде спокойный и равнодушный к подобным вещам, теперь я испытывал невыразимый ужас и убегал в самые удаленные уголки дома, когда небеса с грохотом извергали электрические разряды. Моим излюбленным пристанищем стал разрушенный подвал сгоревшего особняка. В своем воображении я начал представлять себе, как он выглядел первоначально. Однажды я случайно напугал деревенского жителя, уверенно приведя его в неглубокий подвал, о существовании которого я, как оказалось, знал, несмотря на тот факт, что он был скрыт от глаз и забыт многими поколениями.
В конце концов наступил момент, приближения которого я ожидал со страхом. Мои родители, встревоженные переменами в поведении и внешним видом своего единственного сына и имея самые добрые намерения, начали прилагать все усилия, чтобы проследить за каждым моим движением. Это грозило разразиться бедой. Я никому не рассказывал о своих посещениях склепа, ревностно охраняя свою тайну с самого детства. А теперь я вынужден был применять тщательную предосторожность, устроив хитроумный лабиринт в поросшей лесом ложбине, чтобы сбить с толку возможного преследователя. Ключ от склепа я повесил на веревочку, которую носил на шее. Знал об этом я один. Я никогда не выносил из стен склепа ничего того, что привлекло мое внимание, пока я там находился.
Однажды утром, когда я выходил из склепа после очередного ночного бдения и закреплял цепь у входа не слишком твердой рукой, я увидел в примыкающей чаще перекошенное от страха лицо наблюдателя. Сомнений не было — час расправы приближается, так как приют мой обнаружен и объект моих ночных прогулок открыт. Человек не заговорил со мной, и я поспешил домой в надежде послушать, что он может сообщить моему измученному заботами отцу. Все ли мои временные пристанища, кроме того, что скрыто за скрепленной цепью дверью, известны окружающим? Представьте себе мое восхищенное изумление, когда я услышал, как следивший за мной осторожным шепотом сообщил моему родителю, будто я провел ночь «возле склепа»; а в это время мои застланные дымкой от бессонницы глаза уставились на щель неплотно прикрытой двери, запертой на висячий замок! Каким же чудом был введен в заблуждение наблюдатель? Теперь я был убежден, что какая-то сверхъестественная сила защищала меня. Набравшись храбрости от этого посланного свыше спасения, я вновь возобновил открытые хождения в склеп. Я был уверен в том, что никто не увидит, как я туда проникаю. Целую неделю я от души наслаждался своим частым пребыванием в веселой компании мертвецов, которое я не должен и не хочу здесь описывать, как вдруг случилось нечто, что привело меня в это ненавистное обиталище грусти и однообразия.
Мне не следовало высовывать носа из дома в ту ночь, так как в воздухе висело предчувствие грозы, нет-нет да и погромыхивал гром в свинцовых тучах, и дьявольское свечение поднималось от зловонного болота на дне ложбины. Зов мертвых тоже был иным. Вместо склепа он прозвучал из обугленных останков подвала на гребне холма, откуда могущественный демон поманил меня своей невидимой рукой, когда я появился из рощи и оказался на безлесой равнине перед развалинами. При неясном свете луны я увидел то, что всегда незримо присутствовало во мне.
Особняк, исчезнувший с лица земли столетие назад, вновь вознесся во всем своем великолепии перед моим восторженным взором. Во всех его окнах ярко горел свет многочисленных люстр. По длинной подъездной аллее к особняку двигались экипажи мелкопоместных дворян, обгоняя толпы гостей в изысканных и напудренных париках, шедших пешком из близлежащих особняков. Я смешался с этой толпой, хотя и понимал, что скорее отношусь к хозяевам, нежели к гостям. Внутри огромного зала звучала музыка, слышался смех, в бокалах с вином играли яркие блики от тысяч свечей. Некоторые лица были мне знакомы, я узнал их; мне следовало бы знать их лучше, если бы смерть не поглотила их и печать разложения не коснулась их останков. Во всей этой бурно веселящейся беззаботной толпе я чувствовал себя всеми покинутым. Богохульство, которому мог позавидовать сам Гей, потоком лилось с моих губ, и в остроумных саркастических выпадах я не принимал во внимание ни законов Бога, ни законов природы.
Неожиданно громовые раскаты раздались со всей силой над неумолчным гомоном этого сборища. Они раскололи крышу и заставили примолкнуть от страха даже самых смелых в этой разгулявшейся компаний. Красные языки пламени и обжигающие потоки раскаленного воздуха поглотили дом. Все участники этого странного шабаша, охваченные паникой от свалившегося на их головы несчастья, которое, казалось, переступало все границы неуправляемой природы, бегством спасались в ночи. Я остался один, прикованный к своему месту унизительным страхом, который прежде никогда не испытывал. Но тут душа моя вновь наполнилась ужасом. Сгоревшее живьем дотла, тело мое развеялось по ветру на все четыре стороны. Ведь я никогда не смогу найти свое места в склепе Хайдов!Разве тот гроб был приготовлен не для меня? Разве я не имею права упокоить свои останки среди потомков сэра Джеффри Хайда? Да! Но я потребую от смерти своего, даже несмотря на то, что душа моя ищет спасения через века, чтобы вновь обрести материальную оболочку и найти свое пристанище на пустой мраморной плите в алькове гробницы, Джервас Хайд должен это сделать, он никогда не разделит печальную судьбу Палинора!
Когда видение горящего дома исчезло, я оказался в руках двух мужчин, один из которых шпионил за мной у склепа. Я кричал и отбивался как сумасшедший. Дождь хлынул с небес потоком, в южной стороне неба были видны вспышки молнии, а раскаты грома раздавались над нашими головами. Мой отец с лицом, изборожденным морщинами печали, стоял рядом, когда я выкрикивал свои требования быть похороненным в склепе Хайдов. Он то и дело повторял тем, кто держал меня, чтобы они обращались со мной как можно мягче. Почерневший круг на полу разрушенного подвала свидетельствовал о сильном ударе электрического разряда, и на этом месте толкалась группа любопытных деревенских жителей с фонарями в руках, в поисках маленькой шкатулки старинной работы, которую высветила молния.
Поняв тщетность своих попыток вырваться, я перестал изворачиваться и стал наблюдать за теми, кто искал драгоценности. Мне было разрешено принять участие в этих поисках. Шкатулка, запор которой был вскрыт ударом молнии, извлекшей ее из земли, содержала много бумаг и ценных предметов. Но взгляд мой был привлечен только одним. Это была фарфоровая миниатюра молодого, человека в аккуратно завитом парике с косичкой. Я сумел разобрать инициалы «Дж. Х.». Его лицо было таким, будто это я смотрелся в зеркало.
На следующий день меня привели в эту комнату с зарешеченными окнами. Но я узнавал обо всем, что меня интересовало, с помощью пожилого, бесхитростного слуги, который питал ко мне симпатию за мою молодость и который, как и я, любил кладбище. То, что я осмелился рассказать о чувствах, испытанных мною в склепе, вызывало у других только жалостливые улыбки. Мой отец, который часто навещал меня, заявляет, что я не мог проникнуть сквозь дверь с цепями, и клянется, что к ржавому замку не прикасались вот уже лет пятьдесят. Он пришел к такому выводу, проверив его. Он даже говорит, будто вся деревня знала о моих прогулках к склепу и наблюдала за мной, когда я спал около него с полуприкрытыми глазами, устремленными на щель, ведущую внутрь. Против этих утверждений у меня нет никаких вещественных доказательств, так как ключ от висячего замка был утерян той ужасной ночью, когда меня схватили. Отец также отвергает все мои необычные познания о прошлом, вынесенные мною из встреч с покойниками, и считает их плодом моих всепоглощающих чтений старинных томов фамильной библиотеки. Если бы не мой старый слуга Хирам, я был бы полностью убежден в своем сумасшествии.
Но Хирам, преданный мне до последнего, верит мне и побудил меня сделать достоянием людей по крайней мере часть моей истории. Неделю назад он открыл замок, снял цепи с двери склепа и спустился с лампой в его темное чрево. На мраморной плите в алькове он нашел старый, но пустой гроб. На его потускневшей от времени табличке было только одно слово: «Джервас». В том гробу и в том склепе и обещали похоронить меня.
Перевод с англ. А. Сыровой
ПРАЗДНЕСТВО
«Efficiut Daemones, ut quae поп sunt, sic lumen quasi sint, conspicienda bominibus exhibeant».
Lactantius [80]
Я находился вдалеке от родного дома, у дальних берегов моря, что окончательно околдовало меня. В сумерках я слышал, как его волны накатываются, разбиваясь о камни, и знал, что морская стихия разлилась как раз над холмом, где гибкие ивовые ветви густо переплетались на фоне проясняющегося неба и первых звезд нарождающейся ночи. И так как предки мои призвали меня в этот старинный город, я продолжил свой путь по мягкому, только что выпавшему снегу вдоль дороги, одиноко взмывающей вверх, туда, где Лльдебаран мерцал огнями среди деревьев. Навстречу древнему городу, который я никогда не видел, но о котором столько мечтал.
Был Yuletide, [81]который люди называют Рождеством, хотя в душе знают, что он древнее, чем Вифлеем и Вавилон, древнее, чем Мамфис и все человечество. Был Yuletide, и наконец-то я пришел в этот старый приморский город, где жили мои предки и отмечали этот праздник еще в те далекие времена, когда он был запрещен. Они наставляли своих сыновей отмечать его раз в столетие, чтобы не стерлись в памяти его главные таинства и обряды. Предки мои были старыми. Они были старыми уже тогда, когда обосновались на этой земле триста лет назад. И были здесь они чужими, эти угрюмые, скрытные люди из южных садов орхидей, и говорили на своем языке, прежде чем выучили язык голубоглазых рыбаков. Теперь судьба разбросала их по свету, и единственное, что объединяло их, так это ритуалы тайн обрядов, никому кроме них неведомых. Я был единственным, кто вернулся той ночью в древний рыбацкий город согласно легенде, которую помнят только бедняки да люди одинокие.
