Страница:
– Молчи ты, придурок! – крикнул старик матрос с острова Мэн, схватив его за локоть. – Пошёл вон со шканцев!
– Большой дурак всегда ругает меньшого, – пробормотал, подходя, Ахав. – Руки прочь от этой святости! Где, ты говоришь, Пип, мальчик?
– Там, сэр, за кормой! Вон, вон!
– А ты кто такой? В пустых зрачках твоих глаз я не вижу своего отражения. О бог! неужели человек – это только сито, чтобы просеивать бессмертные души? Кто же ты, малыш?
– Рындовый, сэр, корабельный глашатай, динь-дон-динь! Пип! Пип! Пип! Сто фунтов праха в награду тому, кто отыщет Пипа, рост пять футов, вид трусоватый – сразу можно узнать! Динь-дон-динь! Кто видел Пипа – труса?
– Выше линии снегов сердце не может жить. О вы, морозные небеса! взгляните сюда. Вы породили этого несчастного ребёнка и вы же покинули его, распутные силы мироздания! Слушай, малыш: отныне, пока жив Ахав, каюта Ахава будет твоим домом. Ты задеваешь самую сердцевину моего существа, малыш; ты связан со мною путами, свитыми из волокон моей души. Давай руку. Мы идём вниз.
– Что это? Бархатная акулья кожа? – воскликнул мальчик, глядя на ладонь Ахава и щупая её пальцами. – Ах, если бы бедный Пип ощутил такое доброе прикосновение, быть может, он бы не пропал! По-моему, сэр, это похоже на леер, за который могут держаться слабые души. О сэр, пусть придёт старый Перт и склепает вместе эти две ладони – чёрную и белую, потому что я эту руку не отпущу.
– И я не отпущу твою руку, малыш, если только не увижу, что увлекаю тебя к ещё худшим ужасам, чем здешние. Идём же в мою каюту. Эй, вы, кто верует во всеблагих богов и во всепорочного человека! вот, взгляните сюда, и вы увидите, как всеведущие боги оставляют страждущего человека; и вы увидите, как человек, хоть он и безумен, хоть и не ведает, что творит, всё же полон сладостных даров любви и благодарности. Идём! Я горд, что сжимаю твою чёрную ладонь, больше, чем если бы мне пришлось пожимать руку императора!
– Вот идут двое рехнувшихся, – буркнул им вслед старик матрос с острова Мэн. – Один рехнулся от силы, другой рехнулся от слабости. А вот и конец прогнившего линя – вода с него так и течёт. Починить его, говорите? Я думаю, всё-таки лучше заменить его новым. Поговорю об этом с мистером Стаббом.
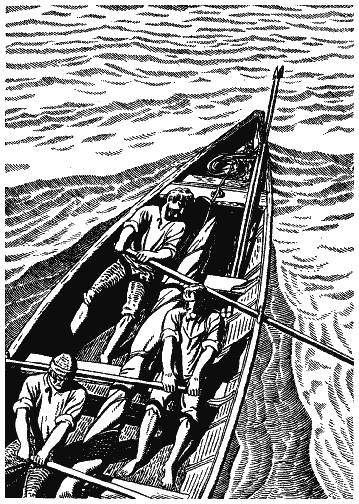 На следующий день дозорные заметили большой корабль, который шёл с подветра прямо на «Пекод»; реи его были густо унизаны людьми. Это была «Рахиль». «Пекод» в это время ходко шёл своим курсом, но когда с ним поравнялась ширококрылая незнакомка, его хвастливо раздутые паруса вдруг опали, точно проткнутые пузыри, и, утратив ход, он безжизненно закачался на волнах.
На следующий день дозорные заметили большой корабль, который шёл с подветра прямо на «Пекод»; реи его были густо унизаны людьми. Это была «Рахиль». «Пекод» в это время ходко шёл своим курсом, но когда с ним поравнялась ширококрылая незнакомка, его хвастливо раздутые паруса вдруг опали, точно проткнутые пузыри, и, утратив ход, он безжизненно закачался на волнах.
– Дурные вести; она несёт дурные вести, – пробормотал старик матрос с острова Мэн. Но ещё прежде чем её капитан, с рупором у рта стоявший на палубе, успел окликнуть «Пекод», послышался голос Ахава:
– Не видали ли Белого Кита?
– Видали, вчера только. Не встречали ли вельбот в море?
Сдержав ликование, Ахав успел отрицательно ответить на этот неожиданный вопрос и готов уже был отправиться в своей шлюпке на борт к незнакомцу, когда капитан «Рахили», приведя к ветру, сам спустился в шлюпку. Несколько взмахов вёслами, багор зацеплен за грот-руслень, и капитан поднялся на палубу. Ахав сразу же узнал в нём своего знакомого из Нантакета. Но приветствиями они не обменялись.
– Где он был? Не убит, не убит! – повторял Ахав, вплотную подходя к нему. – Как это произошло?
Оказалось, что накануне на исходе дня, когда три вельбота «Рахили», отойдя в наветренную сторону миль на пять от судна, были заняты преследованием небольшого стада китов, из синей глуби неподалёку от корабля с подветренной стороны вдруг показался белый горб и голова Моби Дика; в тот же миг был спущен четвёртый – запасной вельбот и началась погоня. Некоторое время этот вельбот – самый ходкий из четырёх – нёсся под парусом по ветру, и наконец ему удалось загарпунить кита, – во всяком случае, насколько мог судить дозорный с мачты. Он видел быстро удаляющуюся лодку, потом уже только чёрную точку, потом короткий всплеск вспененной воды, потом – ничего, и поэтому заключили, что подбитый кит, как это нередко случается, утащил за собой своих преследователей далеко в море. На корабле начали беспокоиться, но ещё не тревожились. На снастях вывесили световые сигналы; спустилась ночь, и судно, чтобы подобрать те три вельбота, которые находились у него с наветренной стороны, – прежде чем отправляться на поиски четвёртого прямо в противоположную сторону, – вынуждено было не только отложить своё попечение о четвёртой лодке далеко за полночь, но даже ещё и отдалиться от неё. Но когда три первые лодки были разысканы и благополучно подняты на борт, «Рахиль» поставила все паруса – лисели на лисели – и устремилась за пропавшим вельботом, разведя вместо маяка огонь в салотопке и посадив чуть не всю команду на снасти и реи дозорными. Но, несмотря на то, что она быстро пробежала расстояние, отделявшее её от того места, где в последний раз видели лодку, и спустила свободные вельботы, которые обошли всё вокруг; потом, не найдя ничего, снова устремилась вперёд, и снова остановилась, и снова спустила вельботы; несмотря на то, что так продолжалось до рассвета, никаких следов пропавшей лодки обнаружить не удалось.
Закончив рассказ, капитан «Рахили» поспешил открыть цель своего визита на «Пекод». Он хотел бы, чтобы встречный корабль присоединился к его поискам и стал бы курсировать параллельно с ним на расстоянии четырёх-пяти миль, оглядывая тем самым как бы двойной горизонт.
– Готов на что угодно побиться об заклад, – шепнул Фласку Стабб, – что какой-нибудь матрос ушёл у него на пропавшем вельботе в капитанском парадном сюртуке или, может, при его золотых часах – уж больно он волнуется. Слыханное ли это дело, чтобы два богобоязненных китобойца гонялись за одним пропавшим вельботом в разгар промыслового сезона! Ты только взгляни, Фласк, видишь, какой он бледный, у него даже зрачки побледнели, – ну, нет, пожалуй, не из-за сюртука, это, должно быть…
– Мой мальчик, мой родной сын среди них. Во имя господа – я молю, я заклинаю вас! – воскликнул в эту минуту капитан «Рахили», обращаясь к Ахаву, который покамест слушал его довольно холодно. – Позвольте мне зафрахтовать ваше судно на сорок восемь часов. Я с радостью заплачу за это, и заплачу щедро, если нужно, – только на сорок восемь часов, всего только. Вы должны, о, вы должны это сделать, и вы сделаете это, капитан!
– Его сын! – вскричал Стабб. – Это сына своего он потерял! Беру назад и сюртук и часы. Что скажет Ахав? Мы должны спасти ему сына.
– Он утонул вместе со всеми остальными минувшей ночью, – проговорил у них за спиной старик матрос с острова Мэн. – Я слышал, все вы слышали, как кричали их души.
Впоследствии выяснилось, что на душе у капитана «Рахили» было особенно тяжко ещё и потому, что в то время как один его сын находился среди команды пропавшего вельбота, на другом вельботе, спущенном в тот же день и тоже сначала отставшем от судна в разгар безумной погони, был его второй сын, и несчастный отец погрузился в жесточайшую растерянность, из которой его вывел только его первый помощник, инстинктивно избравший обычный для таких случаев образ действия – если две лодки нуждаются в помощи, китобоец всегда подбирает сначала ту, в которой больше народу. Но, повинуясь какому-то непонятному движению души, капитан воздержался сначала от упоминания обо всём этом и, только вынужденный ледяным молчанием Ахава, рассказал о своём всё ещё не обретённом сыне – маленьком мальчике, всего двенадцати лет от роду, кого отец, движимый суровой и бесстрашной родительской любовью, свойственной уроженцам Нантакета, с самого раннего возраста решил приучать к невзгодам и чудесам профессии, которая с незапамятных времён была написана на роду у каждого в их семье. Нередко случается даже, что нантакетские капитаны отсылают своих сыновей в столь нежном возрасте в трёх– или четырехгодичное плавание на чужом корабле, чтобы им не мешали приобретать первые навыки и сведения по китобойному делу несвоевременное проявление естественного отцовского пристрастия или излишняя родительская заботливость.
Между тем капитан «Рахили» всё ещё униженно молил Ахава о милости, а капитан «Пекода» по-прежнему стоял недвижно, точно наковальня, принимая удар за ударом, но сам не испытывая ни малейшей дрожи.
– Я не уйду, – говорил гость, – до тех пор, пока вы не скажете мне «да». Поступите со мной так, как вы хотели бы, чтобы поступил с вами я в подобном случае. Ибо у вас тоже есть сын, капитан Ахав, – правда, ещё совсем младенец и находится сейчас в безопасности у вас дома, – и к тому же дитя вашей старости, капитан. Да, да, вы смягчились, я вижу, – бегите, бегите, люди, и готовьтесь брасопить реи!
– Стойте! – крикнул Ахав. – Не трогать брасы, – а затем, протягивая и будто отливая каждое слово, продолжал: – Капитан Гардинер, я этого не сделаю. Даже и сейчас я теряю время. Прощайте, прощайте. Бог да благословит вас, и да простит капитан Ахав самому себе, но я должен продолжать мой путь. Мистер Старбек, засеките время по нактоузным часам и проследите, чтобы ровно через три минуты на борту не осталось никого из посторонних. Потом брасопить реи и лечь на прежний курс.
Он резко повернулся и не оглядываясь ушёл вниз в свою каюту, оставив капитана «Рахили» поражённого столь безоговорочным и окончательным отказом на его горячие мольбы. Но вот, очнувшись от своего оцепенения, Гардинер, не говоря ни слова, торопливо подошёл к борту, скорее упал, чем спустился, в шлюпку и вернулся к себе на корабль.
Скоро суда уже разошлись прочь друг от друга; но, покуда встречная шхуна снова не скрылась за горизонтом, было видно, как она бросалась то туда, то сюда на каждое чёрное пятнышко, пусть даже еле заметное, на поверхности моря. То вправо, то влево поворачивались её реи, она всё переходила с одного галса на другой, то зарываясь в волну, то взлетая на гребне, и всё время её мачты и реи сверху донизу были унизаны людьми, точно стройные вишни в саду, по ветвям которых карабкаются сластёны-мальчишки.
И по тому, как она шла своим скорбным путём, останавливаясь и петляя, ясно видно было, что эта шхуна, проливающая потоки горьких брызг, по-прежнему не находила утешения. Она была Рахиль, которая плачет о детях своих, ибо их нет[326].
– Большой дурак всегда ругает меньшого, – пробормотал, подходя, Ахав. – Руки прочь от этой святости! Где, ты говоришь, Пип, мальчик?
– Там, сэр, за кормой! Вон, вон!
– А ты кто такой? В пустых зрачках твоих глаз я не вижу своего отражения. О бог! неужели человек – это только сито, чтобы просеивать бессмертные души? Кто же ты, малыш?
– Рындовый, сэр, корабельный глашатай, динь-дон-динь! Пип! Пип! Пип! Сто фунтов праха в награду тому, кто отыщет Пипа, рост пять футов, вид трусоватый – сразу можно узнать! Динь-дон-динь! Кто видел Пипа – труса?
– Выше линии снегов сердце не может жить. О вы, морозные небеса! взгляните сюда. Вы породили этого несчастного ребёнка и вы же покинули его, распутные силы мироздания! Слушай, малыш: отныне, пока жив Ахав, каюта Ахава будет твоим домом. Ты задеваешь самую сердцевину моего существа, малыш; ты связан со мною путами, свитыми из волокон моей души. Давай руку. Мы идём вниз.
– Что это? Бархатная акулья кожа? – воскликнул мальчик, глядя на ладонь Ахава и щупая её пальцами. – Ах, если бы бедный Пип ощутил такое доброе прикосновение, быть может, он бы не пропал! По-моему, сэр, это похоже на леер, за который могут держаться слабые души. О сэр, пусть придёт старый Перт и склепает вместе эти две ладони – чёрную и белую, потому что я эту руку не отпущу.
– И я не отпущу твою руку, малыш, если только не увижу, что увлекаю тебя к ещё худшим ужасам, чем здешние. Идём же в мою каюту. Эй, вы, кто верует во всеблагих богов и во всепорочного человека! вот, взгляните сюда, и вы увидите, как всеведущие боги оставляют страждущего человека; и вы увидите, как человек, хоть он и безумен, хоть и не ведает, что творит, всё же полон сладостных даров любви и благодарности. Идём! Я горд, что сжимаю твою чёрную ладонь, больше, чем если бы мне пришлось пожимать руку императора!
– Вот идут двое рехнувшихся, – буркнул им вслед старик матрос с острова Мэн. – Один рехнулся от силы, другой рехнулся от слабости. А вот и конец прогнившего линя – вода с него так и течёт. Починить его, говорите? Я думаю, всё-таки лучше заменить его новым. Поговорю об этом с мистером Стаббом.
Глава CXXVI. Спасательный буй
Держа на юго-восток по магнитной стрелке Ахава и выверяя свой курс только по лагу Ахава, «Пекод» по-прежнему шёл курсом на экватор. То было долгое плавание по пустынному морю, и ни единого судна, ни единого паруса не показывалось на горизонте. Вскоре ровными пассатами корабль стало сильно сносить по мерной, невысокой зыби. Казалось, кругом воцарилось странное затишье, точно прелюдия к какой-то шумной и трагической сцене.
Но вот, когда судно уже приближалось как бы к предместьям экваториального промыслового района и в непроглядной тьме, какая всегда предшествует наступлению зари, проходило мимо группки скалистых островков, вахту, возглавляемую Фласком, вдруг взбудоражил ночью какой-то жалобный, отчаянный, нездешний вопль – точно сдавленное рыдание душ всех невинных младенцев, убиенных Иродом. Матросы, как один, очнулись от дремоты и замерли словно зачарованные – кто стоя, кто сидя, кто лёжа, – вслушиваясь в позе изваянного римского раба в этот дикий, протяжный вопль. Христианская, цивилизованная часть команды утверждала, что это сирены, и тряслась от страха, язычники гарпунёры оставались невозмутимы. Седой же матрос с острова Мэн – как самый старший на борту – объявил, что услышанные ими жуткие, дикие завывания – это голоса утопленников, недавно погибших в пучине морской.
Ахав у себя в каюте ничего не слыхал, и только на рассвете, когда он поднялся на палубу, Фласк рассказал ему обо всём, присовокупив к своим словам кое-какие тёмные и зловещие догадки. Тогда он глухо расхохотался и так объяснил ночное диво.
Скалистые островки, вроде тех, мимо которых проходил ночью «Пекод», служат обычно убежищем для небольших тюленьих стад, и, вероятно, несколько молодых тюленей, потерявших маток, или матки, потерявшие своих детёнышей, всплыли ночью возле корабля и некоторое время держались поблизости, издавая вопли и рыдания, которые так похожи на человеческие. Но такое объяснение только усугубило смятение команды, потому что многие мореплаватели испытывают перед тюленями суеверный страх, порождённый не только тем, что, попав в беду, они кричат какими-то удивительными голосами, но также ещё и странным человеческим выражением их круглых, сообразительных физиономий, выглядывающих из воды у самых бортов корабля. Много раз случалось, что тюленей в море принимали за людей.
Дурным предчувствиям команды суждено было получить в то утро наглядное подтверждение в судьбе одного из матросов. Человек этот на восходе солнца выкарабкался из своей койки и, не очухавшись, прямёхонько отправился стоять дозором на форсалинге; и, может быть, он просто не успел ещё проснуться как следует (потому что матросы часто лезут на мачты в промежуточном между сном и бодрствованием состоянии), трудно сказать, но, как бы то ни было, не пробыл он на своём насесте и нескольких минут, как вдруг раздался крик – крик и звук падения, – и, взглянув наверх, люди успели заметить, как что-то пронеслось в воздухе, а поглядев вниз, увидели только маленький фонтанчик белых пузырьков на синей глади моря.
Тотчас же спасательный буй – длинный, узкий ящик – был спущен с кормы, где он висел, послушный мудрёной пружине, но из волны не поднялась рука, чтобы ухватиться за него, и он, давно рассохшийся под лучами тропического солнца, стал медленно наполняться водой; даже сама высушенная древесина всеми порами впитывала влагу, и вот уже большой деревянный ящик, обитый гвоздями и стянутый железными ободьями, ушёл на дно вслед за человеком, словно бы для того, чтобы служить ему там подушкой, хоть, надо сознаться, довольно жёсткой.
Так случилось, что первый же матрос, поднявшийся на мачту «Пекода», чтобы высматривать Белого Кита в его же, Белого Кита, собственных владениях, был поглощён океанской пучиной. Но мало кто на борту подумал об этом. Пожалуй, на «Пекоде» скорее обрадовались тогда доброму знаку: в этом несчастье они видели не провозвестие предстоящих бедствий, но осуществление прежних дурных предзнаменований. Теперь-то понятно, говорили матросы, к чему были эти страшные вопли, которые они слышали накануне ночью. Один только старик с острова Мэн опять покачал головой.
Однако нужно было заменить пропавший буй новым; заняться этим приказано было Старбеку; но, поскольку на борту не удалось найти подходящего лёгкого ящика и поскольку, в лихорадочном нетерпении дожидаясь близкой развязки, никто из матросов не в состоянии был заняться ничем, кроме непосредственной подготовки к последнему, конечному этапу плавания, что бы он им ни сулил, решено уже было оставить корабельную корму без спасательного буя, как вдруг на шканцах появился Квикег и стал делать жесты и издавать возгласы, всячески давая понять, что имеет в виду свой гроб.
– Спасательный буй из гроба? – воскликнул потрясённый Старбек.
– Да, диковато, я бы сказал, – согласился Стабб.
– Отличный буй получится, – сказал Фласк, – вот плотник мигом всё сделает.
– Неси его сюда; всё равно другого выхода нет, – уныло помолчав, проговорил Старбек. – Оборудовать его, плотник; да не гляди ты на меня так – да, да, оборудовать гроб. Ты что, не слышишь, что ли?
– И крышку прибить, сэр? – плотник показал рукой, как забивают гвозди.
– Прибить.
– И щели законопатить, сэр? – он провёл ладонью, словно держал в руке лебезу.
– Да.
– А поверх ещё и засмолить, сэр? – и он словно поднял котелок с дёгтем.
– Довольно! Что это пришло тебе в голову? Оборудовать спасательный буй из гроба – и никаких разговоров. Мистер Стабб, мистер Фласк, пройдёмте со мной на бак.
– Ишь пошёл, прямо так весь и вспыхнул. Целое ему ещё под силу, а вот на мелочах, поди ж ты, спотыкаешься. Ну, уж это мне не по душе. Сделал я капитану Ахаву ногу, так он её носит как джентльмен; а сделал коробку для Квикега, а он не пожелал сунуть в неё голову. Неужто всем трудам, какие я положил на этот гроб, пропадать впустую? А теперь вот приказывают сделать из него спасательный буй. Это вроде как старую одежду перелицовывать, выворотить тело наизнанку. Не по вкусу мне это портаческое дело, нет, совсем не по вкусу, несолидно это; да и не по мне. Пускай этим занимаются всякие лоботрясы, мы не им чета. Я люблю браться только за чистую, точную, нетронутую научную работу, что-нибудь такое, что честь по чести начинается в начале, в середине доходит до половины и кончается в конце; а не то что эта лицовка, у которой конец в середине, а начало в конце. Господи! и до чего же иные старушки любят бездельников и портачей! Я знал когда-то старушку шестидесяти пяти лет, которая сбежала с одним плешивым молодым жестянщиком. И по этой причине я никогда не соглашался на берегу делать работу для старых одиноких вдов, когда у меня была своя мастерская в Вайньярде: а вдруг бы ей взбрело в её старую одинокую голову сбежать со мной? Однако гей-то! тут в море нет белых чепцов, одни только белые пенные гребни. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Прибить крышку, законопатить щели, а потом пройтись ещё по ним дёгтем, поплотнее заделать швы и подвесить его над кормой на пружине с защёлкой. Виданное ли это дело, чтобы раньше когда так обращались с гробом? Иной суеверный старый плотник скорее согласился бы болтаться в снастях, чем взялся бы за такую работу. Да я-то сбит из сучковатой эрустукской сосны, мне всё нипочём. Пожалуйте вам гроб вместо подхвостника! И поплывём по свету с кладбищенским коробом за спиной. Да мне-то что? Мы, мастера по древесине, сколотим вам и свадебное ложе, и ломберный столик, а понадобится, так и гроб либо катафалк. Мы берём помесячно, или за каждый заказ, а то и издолу, или для ради самой работы, или же для ради доходов, не наше дело спрашивать, зачем да почему, если только нас не заставляют портачить, ну, а уж тогда мы по возможности стараемся от такой работы отвертеться. Гм! А теперь за дело, помаленьку-потихоньку. Я сделаю… постойте-ка, сосчитаем, сколько у нас человек в команде? Не помню. Ну, да ладно, сделаю тридцать спасательных верёвок на турецких узлах, по три фута длиной каждую, и прикреплю их кругом всего гроба. И будут у меня, если наш корабль потонет, тридцать весёлых молодцов драться между собой за один гроб – такое не часто можно увидеть под солнцем! А ну, где мой молоток, долото, котелок с дёгтем и свайка? За работу!
Но вот, когда судно уже приближалось как бы к предместьям экваториального промыслового района и в непроглядной тьме, какая всегда предшествует наступлению зари, проходило мимо группки скалистых островков, вахту, возглавляемую Фласком, вдруг взбудоражил ночью какой-то жалобный, отчаянный, нездешний вопль – точно сдавленное рыдание душ всех невинных младенцев, убиенных Иродом. Матросы, как один, очнулись от дремоты и замерли словно зачарованные – кто стоя, кто сидя, кто лёжа, – вслушиваясь в позе изваянного римского раба в этот дикий, протяжный вопль. Христианская, цивилизованная часть команды утверждала, что это сирены, и тряслась от страха, язычники гарпунёры оставались невозмутимы. Седой же матрос с острова Мэн – как самый старший на борту – объявил, что услышанные ими жуткие, дикие завывания – это голоса утопленников, недавно погибших в пучине морской.
Ахав у себя в каюте ничего не слыхал, и только на рассвете, когда он поднялся на палубу, Фласк рассказал ему обо всём, присовокупив к своим словам кое-какие тёмные и зловещие догадки. Тогда он глухо расхохотался и так объяснил ночное диво.
Скалистые островки, вроде тех, мимо которых проходил ночью «Пекод», служат обычно убежищем для небольших тюленьих стад, и, вероятно, несколько молодых тюленей, потерявших маток, или матки, потерявшие своих детёнышей, всплыли ночью возле корабля и некоторое время держались поблизости, издавая вопли и рыдания, которые так похожи на человеческие. Но такое объяснение только усугубило смятение команды, потому что многие мореплаватели испытывают перед тюленями суеверный страх, порождённый не только тем, что, попав в беду, они кричат какими-то удивительными голосами, но также ещё и странным человеческим выражением их круглых, сообразительных физиономий, выглядывающих из воды у самых бортов корабля. Много раз случалось, что тюленей в море принимали за людей.
Дурным предчувствиям команды суждено было получить в то утро наглядное подтверждение в судьбе одного из матросов. Человек этот на восходе солнца выкарабкался из своей койки и, не очухавшись, прямёхонько отправился стоять дозором на форсалинге; и, может быть, он просто не успел ещё проснуться как следует (потому что матросы часто лезут на мачты в промежуточном между сном и бодрствованием состоянии), трудно сказать, но, как бы то ни было, не пробыл он на своём насесте и нескольких минут, как вдруг раздался крик – крик и звук падения, – и, взглянув наверх, люди успели заметить, как что-то пронеслось в воздухе, а поглядев вниз, увидели только маленький фонтанчик белых пузырьков на синей глади моря.
Тотчас же спасательный буй – длинный, узкий ящик – был спущен с кормы, где он висел, послушный мудрёной пружине, но из волны не поднялась рука, чтобы ухватиться за него, и он, давно рассохшийся под лучами тропического солнца, стал медленно наполняться водой; даже сама высушенная древесина всеми порами впитывала влагу, и вот уже большой деревянный ящик, обитый гвоздями и стянутый железными ободьями, ушёл на дно вслед за человеком, словно бы для того, чтобы служить ему там подушкой, хоть, надо сознаться, довольно жёсткой.
Так случилось, что первый же матрос, поднявшийся на мачту «Пекода», чтобы высматривать Белого Кита в его же, Белого Кита, собственных владениях, был поглощён океанской пучиной. Но мало кто на борту подумал об этом. Пожалуй, на «Пекоде» скорее обрадовались тогда доброму знаку: в этом несчастье они видели не провозвестие предстоящих бедствий, но осуществление прежних дурных предзнаменований. Теперь-то понятно, говорили матросы, к чему были эти страшные вопли, которые они слышали накануне ночью. Один только старик с острова Мэн опять покачал головой.
Однако нужно было заменить пропавший буй новым; заняться этим приказано было Старбеку; но, поскольку на борту не удалось найти подходящего лёгкого ящика и поскольку, в лихорадочном нетерпении дожидаясь близкой развязки, никто из матросов не в состоянии был заняться ничем, кроме непосредственной подготовки к последнему, конечному этапу плавания, что бы он им ни сулил, решено уже было оставить корабельную корму без спасательного буя, как вдруг на шканцах появился Квикег и стал делать жесты и издавать возгласы, всячески давая понять, что имеет в виду свой гроб.
– Спасательный буй из гроба? – воскликнул потрясённый Старбек.
– Да, диковато, я бы сказал, – согласился Стабб.
– Отличный буй получится, – сказал Фласк, – вот плотник мигом всё сделает.
– Неси его сюда; всё равно другого выхода нет, – уныло помолчав, проговорил Старбек. – Оборудовать его, плотник; да не гляди ты на меня так – да, да, оборудовать гроб. Ты что, не слышишь, что ли?
– И крышку прибить, сэр? – плотник показал рукой, как забивают гвозди.
– Прибить.
– И щели законопатить, сэр? – он провёл ладонью, словно держал в руке лебезу.
– Да.
– А поверх ещё и засмолить, сэр? – и он словно поднял котелок с дёгтем.
– Довольно! Что это пришло тебе в голову? Оборудовать спасательный буй из гроба – и никаких разговоров. Мистер Стабб, мистер Фласк, пройдёмте со мной на бак.
– Ишь пошёл, прямо так весь и вспыхнул. Целое ему ещё под силу, а вот на мелочах, поди ж ты, спотыкаешься. Ну, уж это мне не по душе. Сделал я капитану Ахаву ногу, так он её носит как джентльмен; а сделал коробку для Квикега, а он не пожелал сунуть в неё голову. Неужто всем трудам, какие я положил на этот гроб, пропадать впустую? А теперь вот приказывают сделать из него спасательный буй. Это вроде как старую одежду перелицовывать, выворотить тело наизнанку. Не по вкусу мне это портаческое дело, нет, совсем не по вкусу, несолидно это; да и не по мне. Пускай этим занимаются всякие лоботрясы, мы не им чета. Я люблю браться только за чистую, точную, нетронутую научную работу, что-нибудь такое, что честь по чести начинается в начале, в середине доходит до половины и кончается в конце; а не то что эта лицовка, у которой конец в середине, а начало в конце. Господи! и до чего же иные старушки любят бездельников и портачей! Я знал когда-то старушку шестидесяти пяти лет, которая сбежала с одним плешивым молодым жестянщиком. И по этой причине я никогда не соглашался на берегу делать работу для старых одиноких вдов, когда у меня была своя мастерская в Вайньярде: а вдруг бы ей взбрело в её старую одинокую голову сбежать со мной? Однако гей-то! тут в море нет белых чепцов, одни только белые пенные гребни. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Прибить крышку, законопатить щели, а потом пройтись ещё по ним дёгтем, поплотнее заделать швы и подвесить его над кормой на пружине с защёлкой. Виданное ли это дело, чтобы раньше когда так обращались с гробом? Иной суеверный старый плотник скорее согласился бы болтаться в снастях, чем взялся бы за такую работу. Да я-то сбит из сучковатой эрустукской сосны, мне всё нипочём. Пожалуйте вам гроб вместо подхвостника! И поплывём по свету с кладбищенским коробом за спиной. Да мне-то что? Мы, мастера по древесине, сколотим вам и свадебное ложе, и ломберный столик, а понадобится, так и гроб либо катафалк. Мы берём помесячно, или за каждый заказ, а то и издолу, или для ради самой работы, или же для ради доходов, не наше дело спрашивать, зачем да почему, если только нас не заставляют портачить, ну, а уж тогда мы по возможности стараемся от такой работы отвертеться. Гм! А теперь за дело, помаленьку-потихоньку. Я сделаю… постойте-ка, сосчитаем, сколько у нас человек в команде? Не помню. Ну, да ладно, сделаю тридцать спасательных верёвок на турецких узлах, по три фута длиной каждую, и прикреплю их кругом всего гроба. И будут у меня, если наш корабль потонет, тридцать весёлых молодцов драться между собой за один гроб – такое не часто можно увидеть под солнцем! А ну, где мой молоток, долото, котелок с дёгтем и свайка? За работу!
Глава CXXVII. На палубе
(Гроб установлен на двух кадках между верстаком и открытым люком; плотник конопатит щели; с большого мотка из-за пазухи у него медленно тянется жгут кручёной пакли. Из каюты не спеша выходит Ахав, за ним слышны шаги Пипа.)
– Ступай назад, мальчик, я скоро вернусь. Ушёл! Моя собственная рука не подчиняется с такой готовностью моей воле, как этот ребёнок. – Храм божий! Что это такое?
– Спасательный буй, сэр. Приказ мистера Старбека. Эй, эй, сэр! осторожнее! Тут люк открыт.
– Спасибо, старик. Удобно лежит у тебя этот гроб, тут же и до склепа рукой подать.
– Как, сэр? Ах, до люка! Верно, верно, сэр.
– Послушай, не ты ли мастер сколачивать ноги? Не из твоей ли мастерской вышел вот этот обрубок?
– Из моей, сэр. Ну, как ободок, держит?
– Держит. Но ты, кроме того, ещё и гробовщик?
– Так, сэр. Я сладил этот гроб для Квикега; но теперь меня поставили, чтобы я переделывал его во что-то совсем другое.
– Так признайся сам: ведь ты просто старый мошенник и сущий варвар. До всего тебе дело, всюду суёшь нос, за всё хватаешься, один день ты мастеришь ноги, назавтра делаешь гробы, чтобы их туда упрятать, а потом ещё спасательные буи, из этих же самых гробов? Ты неразборчив, как боги, и так же, как они, на все руки мастер.
– Но я безо всякого умысла, сэр. Делаю что придётся.
– Вот, вот, и боги так же. Но послушай, разве ты не напеваешь, когда мастеришь гроб? Говорят, титаны насвистывали потихоньку, когда вырубали кратеры для вулканов, а могильщик в пьесе поёт с лопатой в руке[324]. А ты – нет?
– Пою ли я, сэр? Да нет, сэр, мне это ни к чему; тот могильщик, он, верно, пел потому, что у него лопата не пела, сэр. А в моём молоточке, вы только послушайте, какая музыка.
– Правда твоя; это потому, что здесь крышка служит хорошим резонатором, а хорошим резонатором доска становится, если под нею ничего нет. Однако, когда в гробу лежит тело, он всё равно остаётся таким же гулким, плотник. Тебе никогда не случалось вносить гроб на кладбище и задеть им по пути за ворота?
– Да ей-богу, сэр, я…
– Ей-богу? А что это значит?
– Ей-богу, сэр, это просто говорится так, такое восклицание, только и всего, сэр.
– Гм, гм, ну, продолжай.
– Я только хотел сказать, сэр, что…
– Ты что, шелковичный червь, что ли? Сучишь нить для своего одеяния из себя же самого? Что у тебя за пазухой? Тяни живей! И чтобы я этой ловушки больше не видел!
– Ушёл. Неожиданно это у него получилось; но шквалы всегда налетают неожиданно на жарких широтах. Я слыхал, что остров Альбермарль, один из Галапагосов[325], прямо посредине рассечён экватором. Думается мне, нашего старого капитана тоже прямо посредине рассекает какой-то экватор. Он весь на экваторе – горяч, как огонь! Сюда смотрит – где моя пакля? Живее за дело. Пошла работа. Вот у меня деревянный молоточек, и сам я дока по части игры на бутылках – стук-постук!
(Ахав про себя.)
– Вот так зрелище! Вот так звуки! Седоголовый дятел долбит дуплистый ствол! Можно позавидовать тому, кто слеп и глух. Эта вещь стоит у него на двух кадках, а в них свёрнуты бухты каната. Да он злобный насмешник, этот человек. Тик-так! Тик! Так отстукивают секунды человеческой жизни! О, как несущественно всё сущее! Что есть воистину существующего, помимо невесомых мыслей? Вот перед нами зловещий символ жестокой смерти, превращённый по воле случая в желанный знак надежды и подмоги для бедствующей жизни. Спасательный буй из гроба! А дальше что? Быть может, в духовном смысле гроб – это в конечном счёте хранилище бессмертия? Надо подумать об этом. Но нет. Я уже так далеко продвинулся по тёмной стороне земли, что противоположная её сторона, которую считают светлой, представляется мне лишь смутным сумраком. Да прекратишь ли ты когда-нибудь этот проклятый стук, Плотник? Я ухожу вниз; чтобы ничего этого здесь не было, когда я вернусь. Ну, а теперь, Пип, мы побеседуем с тобою; удивительная философия исходит ко мне от тебя! Верно, неведомые миры излили в тебя свою премудрость по каким-то неведомым акведукам!
– Ступай назад, мальчик, я скоро вернусь. Ушёл! Моя собственная рука не подчиняется с такой готовностью моей воле, как этот ребёнок. – Храм божий! Что это такое?
– Спасательный буй, сэр. Приказ мистера Старбека. Эй, эй, сэр! осторожнее! Тут люк открыт.
– Спасибо, старик. Удобно лежит у тебя этот гроб, тут же и до склепа рукой подать.
– Как, сэр? Ах, до люка! Верно, верно, сэр.
– Послушай, не ты ли мастер сколачивать ноги? Не из твоей ли мастерской вышел вот этот обрубок?
– Из моей, сэр. Ну, как ободок, держит?
– Держит. Но ты, кроме того, ещё и гробовщик?
– Так, сэр. Я сладил этот гроб для Квикега; но теперь меня поставили, чтобы я переделывал его во что-то совсем другое.
– Так признайся сам: ведь ты просто старый мошенник и сущий варвар. До всего тебе дело, всюду суёшь нос, за всё хватаешься, один день ты мастеришь ноги, назавтра делаешь гробы, чтобы их туда упрятать, а потом ещё спасательные буи, из этих же самых гробов? Ты неразборчив, как боги, и так же, как они, на все руки мастер.
– Но я безо всякого умысла, сэр. Делаю что придётся.
– Вот, вот, и боги так же. Но послушай, разве ты не напеваешь, когда мастеришь гроб? Говорят, титаны насвистывали потихоньку, когда вырубали кратеры для вулканов, а могильщик в пьесе поёт с лопатой в руке[324]. А ты – нет?
– Пою ли я, сэр? Да нет, сэр, мне это ни к чему; тот могильщик, он, верно, пел потому, что у него лопата не пела, сэр. А в моём молоточке, вы только послушайте, какая музыка.
– Правда твоя; это потому, что здесь крышка служит хорошим резонатором, а хорошим резонатором доска становится, если под нею ничего нет. Однако, когда в гробу лежит тело, он всё равно остаётся таким же гулким, плотник. Тебе никогда не случалось вносить гроб на кладбище и задеть им по пути за ворота?
– Да ей-богу, сэр, я…
– Ей-богу? А что это значит?
– Ей-богу, сэр, это просто говорится так, такое восклицание, только и всего, сэр.
– Гм, гм, ну, продолжай.
– Я только хотел сказать, сэр, что…
– Ты что, шелковичный червь, что ли? Сучишь нить для своего одеяния из себя же самого? Что у тебя за пазухой? Тяни живей! И чтобы я этой ловушки больше не видел!
– Ушёл. Неожиданно это у него получилось; но шквалы всегда налетают неожиданно на жарких широтах. Я слыхал, что остров Альбермарль, один из Галапагосов[325], прямо посредине рассечён экватором. Думается мне, нашего старого капитана тоже прямо посредине рассекает какой-то экватор. Он весь на экваторе – горяч, как огонь! Сюда смотрит – где моя пакля? Живее за дело. Пошла работа. Вот у меня деревянный молоточек, и сам я дока по части игры на бутылках – стук-постук!
(Ахав про себя.)
– Вот так зрелище! Вот так звуки! Седоголовый дятел долбит дуплистый ствол! Можно позавидовать тому, кто слеп и глух. Эта вещь стоит у него на двух кадках, а в них свёрнуты бухты каната. Да он злобный насмешник, этот человек. Тик-так! Тик! Так отстукивают секунды человеческой жизни! О, как несущественно всё сущее! Что есть воистину существующего, помимо невесомых мыслей? Вот перед нами зловещий символ жестокой смерти, превращённый по воле случая в желанный знак надежды и подмоги для бедствующей жизни. Спасательный буй из гроба! А дальше что? Быть может, в духовном смысле гроб – это в конечном счёте хранилище бессмертия? Надо подумать об этом. Но нет. Я уже так далеко продвинулся по тёмной стороне земли, что противоположная её сторона, которую считают светлой, представляется мне лишь смутным сумраком. Да прекратишь ли ты когда-нибудь этот проклятый стук, Плотник? Я ухожу вниз; чтобы ничего этого здесь не было, когда я вернусь. Ну, а теперь, Пип, мы побеседуем с тобою; удивительная философия исходит ко мне от тебя! Верно, неведомые миры излили в тебя свою премудрость по каким-то неведомым акведукам!
Глава CXXVIII. «Пекод» встречает «Рахиль»
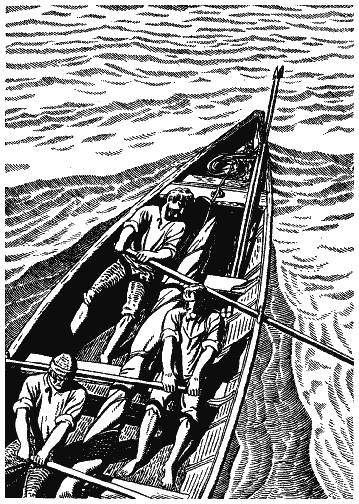
– Дурные вести; она несёт дурные вести, – пробормотал старик матрос с острова Мэн. Но ещё прежде чем её капитан, с рупором у рта стоявший на палубе, успел окликнуть «Пекод», послышался голос Ахава:
– Не видали ли Белого Кита?
– Видали, вчера только. Не встречали ли вельбот в море?
Сдержав ликование, Ахав успел отрицательно ответить на этот неожиданный вопрос и готов уже был отправиться в своей шлюпке на борт к незнакомцу, когда капитан «Рахили», приведя к ветру, сам спустился в шлюпку. Несколько взмахов вёслами, багор зацеплен за грот-руслень, и капитан поднялся на палубу. Ахав сразу же узнал в нём своего знакомого из Нантакета. Но приветствиями они не обменялись.
– Где он был? Не убит, не убит! – повторял Ахав, вплотную подходя к нему. – Как это произошло?
Оказалось, что накануне на исходе дня, когда три вельбота «Рахили», отойдя в наветренную сторону миль на пять от судна, были заняты преследованием небольшого стада китов, из синей глуби неподалёку от корабля с подветренной стороны вдруг показался белый горб и голова Моби Дика; в тот же миг был спущен четвёртый – запасной вельбот и началась погоня. Некоторое время этот вельбот – самый ходкий из четырёх – нёсся под парусом по ветру, и наконец ему удалось загарпунить кита, – во всяком случае, насколько мог судить дозорный с мачты. Он видел быстро удаляющуюся лодку, потом уже только чёрную точку, потом короткий всплеск вспененной воды, потом – ничего, и поэтому заключили, что подбитый кит, как это нередко случается, утащил за собой своих преследователей далеко в море. На корабле начали беспокоиться, но ещё не тревожились. На снастях вывесили световые сигналы; спустилась ночь, и судно, чтобы подобрать те три вельбота, которые находились у него с наветренной стороны, – прежде чем отправляться на поиски четвёртого прямо в противоположную сторону, – вынуждено было не только отложить своё попечение о четвёртой лодке далеко за полночь, но даже ещё и отдалиться от неё. Но когда три первые лодки были разысканы и благополучно подняты на борт, «Рахиль» поставила все паруса – лисели на лисели – и устремилась за пропавшим вельботом, разведя вместо маяка огонь в салотопке и посадив чуть не всю команду на снасти и реи дозорными. Но, несмотря на то, что она быстро пробежала расстояние, отделявшее её от того места, где в последний раз видели лодку, и спустила свободные вельботы, которые обошли всё вокруг; потом, не найдя ничего, снова устремилась вперёд, и снова остановилась, и снова спустила вельботы; несмотря на то, что так продолжалось до рассвета, никаких следов пропавшей лодки обнаружить не удалось.
Закончив рассказ, капитан «Рахили» поспешил открыть цель своего визита на «Пекод». Он хотел бы, чтобы встречный корабль присоединился к его поискам и стал бы курсировать параллельно с ним на расстоянии четырёх-пяти миль, оглядывая тем самым как бы двойной горизонт.
– Готов на что угодно побиться об заклад, – шепнул Фласку Стабб, – что какой-нибудь матрос ушёл у него на пропавшем вельботе в капитанском парадном сюртуке или, может, при его золотых часах – уж больно он волнуется. Слыханное ли это дело, чтобы два богобоязненных китобойца гонялись за одним пропавшим вельботом в разгар промыслового сезона! Ты только взгляни, Фласк, видишь, какой он бледный, у него даже зрачки побледнели, – ну, нет, пожалуй, не из-за сюртука, это, должно быть…
– Мой мальчик, мой родной сын среди них. Во имя господа – я молю, я заклинаю вас! – воскликнул в эту минуту капитан «Рахили», обращаясь к Ахаву, который покамест слушал его довольно холодно. – Позвольте мне зафрахтовать ваше судно на сорок восемь часов. Я с радостью заплачу за это, и заплачу щедро, если нужно, – только на сорок восемь часов, всего только. Вы должны, о, вы должны это сделать, и вы сделаете это, капитан!
– Его сын! – вскричал Стабб. – Это сына своего он потерял! Беру назад и сюртук и часы. Что скажет Ахав? Мы должны спасти ему сына.
– Он утонул вместе со всеми остальными минувшей ночью, – проговорил у них за спиной старик матрос с острова Мэн. – Я слышал, все вы слышали, как кричали их души.
Впоследствии выяснилось, что на душе у капитана «Рахили» было особенно тяжко ещё и потому, что в то время как один его сын находился среди команды пропавшего вельбота, на другом вельботе, спущенном в тот же день и тоже сначала отставшем от судна в разгар безумной погони, был его второй сын, и несчастный отец погрузился в жесточайшую растерянность, из которой его вывел только его первый помощник, инстинктивно избравший обычный для таких случаев образ действия – если две лодки нуждаются в помощи, китобоец всегда подбирает сначала ту, в которой больше народу. Но, повинуясь какому-то непонятному движению души, капитан воздержался сначала от упоминания обо всём этом и, только вынужденный ледяным молчанием Ахава, рассказал о своём всё ещё не обретённом сыне – маленьком мальчике, всего двенадцати лет от роду, кого отец, движимый суровой и бесстрашной родительской любовью, свойственной уроженцам Нантакета, с самого раннего возраста решил приучать к невзгодам и чудесам профессии, которая с незапамятных времён была написана на роду у каждого в их семье. Нередко случается даже, что нантакетские капитаны отсылают своих сыновей в столь нежном возрасте в трёх– или четырехгодичное плавание на чужом корабле, чтобы им не мешали приобретать первые навыки и сведения по китобойному делу несвоевременное проявление естественного отцовского пристрастия или излишняя родительская заботливость.
Между тем капитан «Рахили» всё ещё униженно молил Ахава о милости, а капитан «Пекода» по-прежнему стоял недвижно, точно наковальня, принимая удар за ударом, но сам не испытывая ни малейшей дрожи.
– Я не уйду, – говорил гость, – до тех пор, пока вы не скажете мне «да». Поступите со мной так, как вы хотели бы, чтобы поступил с вами я в подобном случае. Ибо у вас тоже есть сын, капитан Ахав, – правда, ещё совсем младенец и находится сейчас в безопасности у вас дома, – и к тому же дитя вашей старости, капитан. Да, да, вы смягчились, я вижу, – бегите, бегите, люди, и готовьтесь брасопить реи!
– Стойте! – крикнул Ахав. – Не трогать брасы, – а затем, протягивая и будто отливая каждое слово, продолжал: – Капитан Гардинер, я этого не сделаю. Даже и сейчас я теряю время. Прощайте, прощайте. Бог да благословит вас, и да простит капитан Ахав самому себе, но я должен продолжать мой путь. Мистер Старбек, засеките время по нактоузным часам и проследите, чтобы ровно через три минуты на борту не осталось никого из посторонних. Потом брасопить реи и лечь на прежний курс.
Он резко повернулся и не оглядываясь ушёл вниз в свою каюту, оставив капитана «Рахили» поражённого столь безоговорочным и окончательным отказом на его горячие мольбы. Но вот, очнувшись от своего оцепенения, Гардинер, не говоря ни слова, торопливо подошёл к борту, скорее упал, чем спустился, в шлюпку и вернулся к себе на корабль.
Скоро суда уже разошлись прочь друг от друга; но, покуда встречная шхуна снова не скрылась за горизонтом, было видно, как она бросалась то туда, то сюда на каждое чёрное пятнышко, пусть даже еле заметное, на поверхности моря. То вправо, то влево поворачивались её реи, она всё переходила с одного галса на другой, то зарываясь в волну, то взлетая на гребне, и всё время её мачты и реи сверху донизу были унизаны людьми, точно стройные вишни в саду, по ветвям которых карабкаются сластёны-мальчишки.
И по тому, как она шла своим скорбным путём, останавливаясь и петляя, ясно видно было, что эта шхуна, проливающая потоки горьких брызг, по-прежнему не находила утешения. Она была Рахиль, которая плачет о детях своих, ибо их нет[326].
Глава CXXIX. В каюте
(Ахав собирается выйти на палубу; Пип ловит его руку и хочет идти с ним вместе.)
– Малыш, малыш, говорю тебе, ты не должен следовать сейчас за Ахавом. Приближается час, когда Ахав не станет отпугивать тебя, но и подле себя не захочет тебя видеть. Есть в тебе что-то, бедный малыш, слишком целительное для моей болезни. Подобное исцеляется подобным; а для теперешней охоты моя болезнь становится желаннейшим здоровьем. Подожди меня здесь, в капитанской каюте, где с тобой будут обращаться так, будто ты сам – капитан. Ты будешь сидеть на моём стуле, привинченном к полу; ты должен быть в нём ещё одним винтиком.
– Нет, нет, нет! Сэр, ваше тело изувечено, возьмите всего меня вместо второй вашей ноги, вы лишь наступите на меня, сэр, я больше ни о чём не прошу, только бы мне послужить вам, быть вашей рукой или ногой.
– О, вопреки миллионам негодяев, это порождает во мне слепую веру в невянущую преданность человека, а ведь он чернокожий! и помешанный! но, видно, и впрямь подобное излечивается подобным, это относится и к нему, он опять становится здоровым.
– Мне говорили, сэр, что Стабб как-то раз покинул маленького бедняжку Пипа, чьи кости лежат теперь на дне, белы как снег, хоть и черна была при жизни его кожа. Но я никогда не покину вас, сэр, как Стабб покинул его. Сэр, я должен пойти с вами.
– Если ты будешь и дальше так говорить со мной, замысел Ахава потерпит в его душе крушение. Нет, говорю я тебе, это невозможно.
– О мой добрый господин, господин, господин!
– Будешь плакать, так я убью тебя! Остерегись, ведь Ахав тоже безумен. Прислушивайся, и ты часто будешь слышать удары моей костяной ноги по палубе и будешь знать, что я всё ещё там. А теперь я покину тебя. Руку – вот так! Ты верен мне, малыш, как верен круг своему центру. Ну, да благословит тебя бог на веки вечные; и если дойдёт до этого – да спасёт тебя бог на веки вечные, и пусть случится то, чему суждено быть. (Ахав уходит; Пип делает шаг вперёд.)
– Вот здесь стоял он мгновение назад; я стою на его месте, но я один-одинёшенек. Будь тут сейчас хоть бедняжка Пип, мне бы и то легче было вытерпеть, но его нет, он пропал. Пип! Пип! Динь-дон-динь! Кто видел Пипа? Он, должно быть, здесь наверху, надо попробовать дверь. Как? Ни замка, ни крючка, ни засова, а всё-таки не открывается? Это, верно, чары, он ведь велел мне оставаться здесь. Правда, правда, да ещё сказал, что этот стул – мой. Вот так, я усядусь сюда, откинусь, прислонюсь к переборке и буду сидеть в самой середине корабля, а все его три мачты и весь его корпус будут передо мной. Старые матросы рассказывают, что великие адмиралы на чёрных флагманах сядут иной раз за стол и давай распоряжаться целыми шеренгами капитанов и лейтенантов. Ха! что это? эполеты! эполеты! отовсюду теснятся эполеты! Передавайте по кругу графины; рад вас видеть; наливайте, месье. Как-то странно это, когда чернокожий мальчик угощает у себя белых людей с золотыми кружевами на сюртуках! – Месье, не случалось ли вам видеть некоего Пипа? – маленького негритёнка, рост пять футов, вид подлый и трусливый! Выпрыгнул, понимаете, однажды из вельбота; не видали? Нет? Ну что же, тогда налейте ещё, капитаны, и выпьем: позор всем трусам! Я не называю имён. Позор им! Положить ногу на стол – и позор всем трусам. Тс-с, там наверху я слышу удары кости о доски. О мой господин! Как тяжело мне, когда ты надо мной ступаешь! Но я останусь здесь, даже если эта корма врежется в скалы и устрицы проникнут внутрь, чтобы составить мне компанию.
– Малыш, малыш, говорю тебе, ты не должен следовать сейчас за Ахавом. Приближается час, когда Ахав не станет отпугивать тебя, но и подле себя не захочет тебя видеть. Есть в тебе что-то, бедный малыш, слишком целительное для моей болезни. Подобное исцеляется подобным; а для теперешней охоты моя болезнь становится желаннейшим здоровьем. Подожди меня здесь, в капитанской каюте, где с тобой будут обращаться так, будто ты сам – капитан. Ты будешь сидеть на моём стуле, привинченном к полу; ты должен быть в нём ещё одним винтиком.
– Нет, нет, нет! Сэр, ваше тело изувечено, возьмите всего меня вместо второй вашей ноги, вы лишь наступите на меня, сэр, я больше ни о чём не прошу, только бы мне послужить вам, быть вашей рукой или ногой.
– О, вопреки миллионам негодяев, это порождает во мне слепую веру в невянущую преданность человека, а ведь он чернокожий! и помешанный! но, видно, и впрямь подобное излечивается подобным, это относится и к нему, он опять становится здоровым.
– Мне говорили, сэр, что Стабб как-то раз покинул маленького бедняжку Пипа, чьи кости лежат теперь на дне, белы как снег, хоть и черна была при жизни его кожа. Но я никогда не покину вас, сэр, как Стабб покинул его. Сэр, я должен пойти с вами.
– Если ты будешь и дальше так говорить со мной, замысел Ахава потерпит в его душе крушение. Нет, говорю я тебе, это невозможно.
– О мой добрый господин, господин, господин!
– Будешь плакать, так я убью тебя! Остерегись, ведь Ахав тоже безумен. Прислушивайся, и ты часто будешь слышать удары моей костяной ноги по палубе и будешь знать, что я всё ещё там. А теперь я покину тебя. Руку – вот так! Ты верен мне, малыш, как верен круг своему центру. Ну, да благословит тебя бог на веки вечные; и если дойдёт до этого – да спасёт тебя бог на веки вечные, и пусть случится то, чему суждено быть. (Ахав уходит; Пип делает шаг вперёд.)
– Вот здесь стоял он мгновение назад; я стою на его месте, но я один-одинёшенек. Будь тут сейчас хоть бедняжка Пип, мне бы и то легче было вытерпеть, но его нет, он пропал. Пип! Пип! Динь-дон-динь! Кто видел Пипа? Он, должно быть, здесь наверху, надо попробовать дверь. Как? Ни замка, ни крючка, ни засова, а всё-таки не открывается? Это, верно, чары, он ведь велел мне оставаться здесь. Правда, правда, да ещё сказал, что этот стул – мой. Вот так, я усядусь сюда, откинусь, прислонюсь к переборке и буду сидеть в самой середине корабля, а все его три мачты и весь его корпус будут передо мной. Старые матросы рассказывают, что великие адмиралы на чёрных флагманах сядут иной раз за стол и давай распоряжаться целыми шеренгами капитанов и лейтенантов. Ха! что это? эполеты! эполеты! отовсюду теснятся эполеты! Передавайте по кругу графины; рад вас видеть; наливайте, месье. Как-то странно это, когда чернокожий мальчик угощает у себя белых людей с золотыми кружевами на сюртуках! – Месье, не случалось ли вам видеть некоего Пипа? – маленького негритёнка, рост пять футов, вид подлый и трусливый! Выпрыгнул, понимаете, однажды из вельбота; не видали? Нет? Ну что же, тогда налейте ещё, капитаны, и выпьем: позор всем трусам! Я не называю имён. Позор им! Положить ногу на стол – и позор всем трусам. Тс-с, там наверху я слышу удары кости о доски. О мой господин! Как тяжело мне, когда ты надо мной ступаешь! Но я останусь здесь, даже если эта корма врежется в скалы и устрицы проникнут внутрь, чтобы составить мне компанию.
