Страница:
Мы поужинали, и опять немного поболтали, выкурили ещё одну трубку и вместе отправились к себе в комнату. Здесь он преподнёс мне в подарок новозеландскую бальзамированную голову, а также, вынув свой огромный кисет и порывшись в табаке, извлёк оттуда что-то около тридцати долларов серебром, разложил их на столе и, поделив на две равные кучки, пододвинул одну из них ко мне и сказал, что это – моё. Я вздумал было отказываться, но он и слушать меня не стал, а просто ссыпал мне монеты в карман. Ну, я уж их там и оставил.
После этого он начал готовиться к своей вечерней молитве, вытащил идола и отодвинул бумажный экран. По некоторым признакам и симптомам я понял, что ему бы очень хотелось, чтобы я к нему присоединился, но, помня всю процедуру, я решил поразмыслить, соглашаться мне, если он меня пригласит, или же нет.
Я честный христианин, рождённый и воспитанный в лоне непогрешимой пресвитерианской церкви. Как же могу я присоединиться к этому дикому идолопоклоннику и вместе с ним поклоняться какой-то деревяшке? Но что значит – поклоняться? Уж не думаешь ли ты, Измаил, что великодушный бог небес и земли – а стало быть, и язычников и всего прочего – будет ревновать к ничтожному обрубку чёрного дерева? Быть того не может! Но что значит поклоняться богу? Исполнять его волю, так ведь? А в чём состоит воля божья? В том, чтобы я поступал по отношению к ближнему так, как мне бы хотелось, чтобы он поступал по отношению ко мне – вот в чём состоит воля божья. Квикег – мой ближний. Чего бы я хотел от этого самого Квикега? Ну конечно же, я хотел бы, чтобы он принял мою пресвитерианскую форму поклонения богу. Следовательно, я тогда должен принять его форму, ergo[88] – я должен стать идолопоклонником. Поэтому я поджёг стружки, помог установить бедного безобидного идола, вместе с Квикегом угощал его горелым сухарём, отвесил ему два или три поклона, поцеловал его в нос, и только после всего этого мы разделись и улеглись в постель, каждый в мире со своей совестью и со всем светом. Но перед тем как уснуть, мы ещё немного побеседовали.
Не знаю, в чём тут дело, но только нет другого такого места для дружеских откровений, как общая кровать. Говорят, муж с женой открывают здесь друг другу самые глубины своей души, а пожилые супруги нередко до утра лежат и беседуют о былых временах. Так и мы лежали с Квикегом в медовый месяц наших душ – уютная, любящая чета.
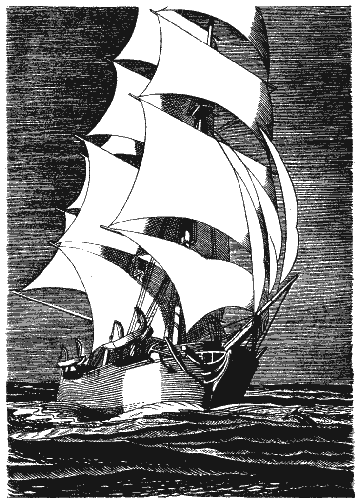 Квикег был туземцем с острова Коковоко[89], расположенного далеко на юго-западе. На карте этот остров не обозначен – настоящие места никогда не отмечаются на картах.
Квикег был туземцем с острова Коковоко[89], расположенного далеко на юго-западе. На карте этот остров не обозначен – настоящие места никогда не отмечаются на картах.
Будучи ещё свежевылупленным дикаренком, бегавшим без присмотра среди лесных кущ в соломенном передничке, который норовили пожевать теснившиеся вокруг него, словно вокруг зелёного деревца, козы, – даже тогда Квикег в глубине своей честолюбивой души уже испытывал сильное желание поближе посмотреть на христианский мир, не ограничиваясь разглядыванием двух-трёх заезжих китобойцев. Отец его был верховный вождь, местный монарх, дядя – верховный жрец, а по материнской линии он мог похвастаться несколькими тётушками – жёнами непобедимых воинов. Так что кровь в его жилах текла высокосортная – настоящая королевская кровь, хотя, боюсь, прискорбно подпорченная людоедскими наклонностями, которые он свободно удовлетворял в дни своей безнадзорной юности.
Однажды в залив его отца зашло судно из Сэг-Харбора[90], и Квикег стал проситься, чтобы его отвезли в христианскую землю. Однако команда судна была полностью укомплектована, так что его просьбу отклонили, и даже всё влияние его монаршего отца ничего не смогло тут изменить. Но Квикег дал себе клятву. Один в своём челноке он уплыл к далёкому проливу, через который, как ему было известно, должно было, покинув остров, пройти судно. По одну сторону пролива тянулся коралловый риф, по другую – низкая коса, густо поросшая манграми, которые поднимались не только из земли, но и из воды у берега. В этих зарослях он спрятал свой челнок, поставив его носом к морю, а сам уселся на корме, низко держа в руке весло; а когда судно, скользя, проходило мимо, точно молния, ринулся он наперерез, подгрёб к борту, одним толчком ноги перевернул и потопил челнок, вскарабкался вверх на руслень и, плашмя растянувшись во всю длину на палубе, вцепился обеими руками в кольцо рыма, поклявшись, что не разожмёт рук, даже если его станут рубить на куски.
Напрасно капитан угрожал вышвырнуть его за борт, напрасно замахивался топором над его обнажёнными запястьями – Квикег был царский сын, и Квикег остался твёрд. Наконец, потрясённый его отчаянным бесстрашием и столь горячим желанием посетить христианский мир, капитан сменил гнев на милость и сказал Квикегу, что тот может оставаться и устраиваться, как ему будет удобнее. Но этот благородный юный дикарь – принц Уэльский Южных морей – так и не увидел даже капитанской каюты. Его поместили в кубрике с матросами, и он стал китобоем. Подобно царю Петру, с удовольствием плотничавшему на верфях в чужеземных портах, Квикег не гнушался никаким самым презренным занятием, если только оно дарило ему возможность просветить умы его тёмных соотечественников. Ибо, как признался он мне, в глубине души он руководствовался сокровенным желанием обучиться среди христиан искусствам, способным сделать его народ ещё счастливее и, более того, ещё лучше, чем он был. Но, увы, жизнь среди китобоев вскоре убедила его, что и христиане могут быть несчастливы и порочны, несравненно несчастливее и порочнее, чем любой язычник, подданный его отца. Когда же он наконец прибыл в старый Сэг-Харбор и увидел, как вели себя там матросы, а потом добрался и до Нантакета и увидел, на что растрачивали они и здесь свои деньги, бедняга Квикег окончательно махнул на всё рукой. Зло живёт в этом мире под любым меридианом, сказал он себе, так что уж лучше я умру язычником.
Так и получилось, что он, исконный идолопоклонник в душе, жил тем не менее среди христиан, носил такую же, как они, одежду и учился говорить на их, с позволения сказать, языке. И отсюда – все его странности, хоть он давно уже покинул отчий дом.
Как можно тактичнее я спросил его, не намерен ли он вернуться домой и короноваться на царство, поскольку его старого отца, ещё давно, как он слышал, впавшего в немощь, теперь уже, конечно, нет в живых. Он ответил, что нет, пока не намерен; и добавил, что боится, не сделало ли его христианство, вернее христиане, недостойным взойти на чистый, незапятнанный отчий престол, где до него восседали тридцать языческих царей. Но когда-нибудь, сказал он, он ещё вернётся – как только снова почувствует себя очищенным от скверны. А покуда он собирается предаться увлечениям юности и поплавать вдоволь по всем четырём океанам. Его научили владеть гарпуном, и теперь это колючее орудие у него взамен скипетра.
Я спросил, каковы его планы на ближайшее будущее. Он ответил, что хотел бы снова пойти в плавание в своей прежней должности. Тут я сообщил ему, что также задумал поступить на китобойное судно, и поделился с ним своим намерением попасть для этого в Нантакет – самый многообещающий порт для начинающего китобоя и любителя приключений. Он тут же принял решение вместе со мной отправиться на остров, поступить на то же судно, что и я, попасть со мной в одну вахту, в один вельбот, за один стол – короче говоря, разделить со мной все превратности судьбы, чтобы мы могли, крепко взявшись за руки, смело черпать от всего, что пошлёт нам удача и в Старом, и в Новом Свете. На всё это я с радостью согласился, ибо, помимо той привязанности, которую я теперь к нему испытывал, меня поддерживало ещё сознание, что Квикег – опытный гарпунщик и поэтому в плавании незаменимый товарищ для такого человека, как я, совершенно несведущего в тайнах китобойного промысла, хотя и неплохо знакомого с морем, насколько это возможно для моряка с торгового судна.
Окончив свой рассказ с последней затяжкой, Квикег обнял меня и прижался лбом к моему лбу, после чего мы задули свечу и вскоре уже спали, откинувшись друг от друга по обе стороны кровати.
После этого он начал готовиться к своей вечерней молитве, вытащил идола и отодвинул бумажный экран. По некоторым признакам и симптомам я понял, что ему бы очень хотелось, чтобы я к нему присоединился, но, помня всю процедуру, я решил поразмыслить, соглашаться мне, если он меня пригласит, или же нет.
Я честный христианин, рождённый и воспитанный в лоне непогрешимой пресвитерианской церкви. Как же могу я присоединиться к этому дикому идолопоклоннику и вместе с ним поклоняться какой-то деревяшке? Но что значит – поклоняться? Уж не думаешь ли ты, Измаил, что великодушный бог небес и земли – а стало быть, и язычников и всего прочего – будет ревновать к ничтожному обрубку чёрного дерева? Быть того не может! Но что значит поклоняться богу? Исполнять его волю, так ведь? А в чём состоит воля божья? В том, чтобы я поступал по отношению к ближнему так, как мне бы хотелось, чтобы он поступал по отношению ко мне – вот в чём состоит воля божья. Квикег – мой ближний. Чего бы я хотел от этого самого Квикега? Ну конечно же, я хотел бы, чтобы он принял мою пресвитерианскую форму поклонения богу. Следовательно, я тогда должен принять его форму, ergo[88] – я должен стать идолопоклонником. Поэтому я поджёг стружки, помог установить бедного безобидного идола, вместе с Квикегом угощал его горелым сухарём, отвесил ему два или три поклона, поцеловал его в нос, и только после всего этого мы разделись и улеглись в постель, каждый в мире со своей совестью и со всем светом. Но перед тем как уснуть, мы ещё немного побеседовали.
Не знаю, в чём тут дело, но только нет другого такого места для дружеских откровений, как общая кровать. Говорят, муж с женой открывают здесь друг другу самые глубины своей души, а пожилые супруги нередко до утра лежат и беседуют о былых временах. Так и мы лежали с Квикегом в медовый месяц наших душ – уютная, любящая чета.
Глава XI. Ночная сорочка
Так мы лежали в кровати, то болтая, то засыпая ненадолго, и чувствуя себя настолько непринуждённо и по-приятельски свободно, что Квикег даже время от времени дружелюбно вытягивал свои коричневые татуированные ноги поверх моих; но в конце концов наши задушевные разговоры совершенно разогнали последние остатки сонливости, и мы хоть сейчас готовы были встать, несмотря на то, что заря ещё не занималась и утро было ещё делом далёкого будущего.
У нас с ним сна не осталось ни в одном глазу, мы даже лежать устали и через некоторое время уже сидели, плотно укутавшись одеялом, прислонившись к деревянной спинке кровати и тесно сдвинув наши четыре колена, над которыми низко свисали наши два носа, точно в коленных чашечках у нас, как в жаровнях, лежали раскалённые угли. Нам было очень хорошо и уютно, тем более что на улице стоял мороз, да и не только на улице, но и в комнате, ведь камин-то был нетоплен. Я говорю «тем более», потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остаётся в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничего не существует само по себе. Если вы льстите себя мыслью, что вам очень хорошо и удобно – всему вашему телу, с ног до головы, – и притом уже давно, то, значит, вам уже больше не хорошо и не удобно. Но если у вас, как у нас с Квикегом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить; тёплая спальня – это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения – не иметь между собою и своим теплом, с одной стороны, и холодом внешнего мира – с другой, ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите точно единственная тёплая искорка в сердце арктического кристалла.
Мы уже довольно долго просидели так, поджав колени, когда я вдруг решил, что пора открыть глаза. Дело в том, что в постели – днём ли, ночью ли, сплю ли я, или бодрствую – я имею обыкновение всегда держать глаза закрытыми, дабы полнее сосредоточиться на удовольствии пребывать под одеялом. Ибо человек может до конца осознать собственную индивидуальность только тогда, когда веки его сомкнуты, будто именно тьма – родная стихия нашего существа, а не свет, более привлекательный для нашей бренной оболочки. И вот, открыв глаза, я из мною созданной уютной тьмы попал в навязанный мне извне грубый мрак неосвещённой полночи – перемена очень резкая и довольно неприятная. Так что я отнюдь не стал возражать, когда Квикег намекнул, что, мол, неплохо было бы зажечь свет, раз уж мы всё равно не спим, и к тому же он испытывает сильное желание сделать пару спокойных затяжек из своего томагавка. Надо сказать, если накануне ночью я был решительным образом против того, чтобы он курил в постели, то теперь заметьте себе, как гибки становятся наши твердейшие предубеждения, когда их сгибает родившаяся между людьми любовь. И мне теперь как нельзя более приятно было, чтобы Квикег курил подле меня, и даже в постели, потому что у него тогда был такой безмятежный, довольный, домашний вид. Я больше уже не испытывал неоправданного беспокойства относительно хозяйского страхового полиса. Я только чувствовал живое сердечное удовольствие оттого, что делю одеяло и трубку с настоящим другом. Накинув на плечи косматые бушлаты, мы передавали друг другу курящийся томагавк до тех пор, покуда над нами не вырос незаметно и не повис, колыхаясь в свете зажжённой лампы, синий балдахин дыма.
То ли это волнообразное колыхание увлекло мысли дикаря прочь, к отдалённым берегам, не знаю, но он вдруг заговорил о своём родном острове, а мне очень хотелось услышать его историю, поэтому я стал настойчиво просить, чтобы он продолжил начатый рассказ. Он охотно удовлетворил мою просьбу. И хотя в то время я лишь смутно понимал смысл многих его выражений, тем не менее последующие открытия, сделанные мною в результате более близкого знакомства с его отрывистой фразеологией, позволяют мне теперь привести эту историю такой, какой она здесь в сжатом виде и предлагается.
У нас с ним сна не осталось ни в одном глазу, мы даже лежать устали и через некоторое время уже сидели, плотно укутавшись одеялом, прислонившись к деревянной спинке кровати и тесно сдвинув наши четыре колена, над которыми низко свисали наши два носа, точно в коленных чашечках у нас, как в жаровнях, лежали раскалённые угли. Нам было очень хорошо и уютно, тем более что на улице стоял мороз, да и не только на улице, но и в комнате, ведь камин-то был нетоплен. Я говорю «тем более», потому что только тогда можно до конца насладиться теплом, когда какой-нибудь небольшой участок вашего тела остаётся в холоде, ибо нет такого качества в нашем мире, которое продолжало бы существовать вне контраста. Ничего не существует само по себе. Если вы льстите себя мыслью, что вам очень хорошо и удобно – всему вашему телу, с ног до головы, – и притом уже давно, то, значит, вам уже больше не хорошо и не удобно. Но если у вас, как у нас с Квикегом, сидящих в постели, кончик носа или макушка коченеет, вот тогда-то вы и испытываете общее восхитительное, ни с чем не сравнимое чувство тепла. Исходя из этих соображений, в комнате, где вы спите, никогда не следует топить; тёплая спальня – это одно из роскошных неудобств, терпимых богачами. Ведь высшая степень наслаждения – не иметь между собою и своим теплом, с одной стороны, и холодом внешнего мира – с другой, ничего, кроме шерстяного одеяла. Вы тогда лежите точно единственная тёплая искорка в сердце арктического кристалла.
Мы уже довольно долго просидели так, поджав колени, когда я вдруг решил, что пора открыть глаза. Дело в том, что в постели – днём ли, ночью ли, сплю ли я, или бодрствую – я имею обыкновение всегда держать глаза закрытыми, дабы полнее сосредоточиться на удовольствии пребывать под одеялом. Ибо человек может до конца осознать собственную индивидуальность только тогда, когда веки его сомкнуты, будто именно тьма – родная стихия нашего существа, а не свет, более привлекательный для нашей бренной оболочки. И вот, открыв глаза, я из мною созданной уютной тьмы попал в навязанный мне извне грубый мрак неосвещённой полночи – перемена очень резкая и довольно неприятная. Так что я отнюдь не стал возражать, когда Квикег намекнул, что, мол, неплохо было бы зажечь свет, раз уж мы всё равно не спим, и к тому же он испытывает сильное желание сделать пару спокойных затяжек из своего томагавка. Надо сказать, если накануне ночью я был решительным образом против того, чтобы он курил в постели, то теперь заметьте себе, как гибки становятся наши твердейшие предубеждения, когда их сгибает родившаяся между людьми любовь. И мне теперь как нельзя более приятно было, чтобы Квикег курил подле меня, и даже в постели, потому что у него тогда был такой безмятежный, довольный, домашний вид. Я больше уже не испытывал неоправданного беспокойства относительно хозяйского страхового полиса. Я только чувствовал живое сердечное удовольствие оттого, что делю одеяло и трубку с настоящим другом. Накинув на плечи косматые бушлаты, мы передавали друг другу курящийся томагавк до тех пор, покуда над нами не вырос незаметно и не повис, колыхаясь в свете зажжённой лампы, синий балдахин дыма.
То ли это волнообразное колыхание увлекло мысли дикаря прочь, к отдалённым берегам, не знаю, но он вдруг заговорил о своём родном острове, а мне очень хотелось услышать его историю, поэтому я стал настойчиво просить, чтобы он продолжил начатый рассказ. Он охотно удовлетворил мою просьбу. И хотя в то время я лишь смутно понимал смысл многих его выражений, тем не менее последующие открытия, сделанные мною в результате более близкого знакомства с его отрывистой фразеологией, позволяют мне теперь привести эту историю такой, какой она здесь в сжатом виде и предлагается.
Глава XII. Жизнеописательная
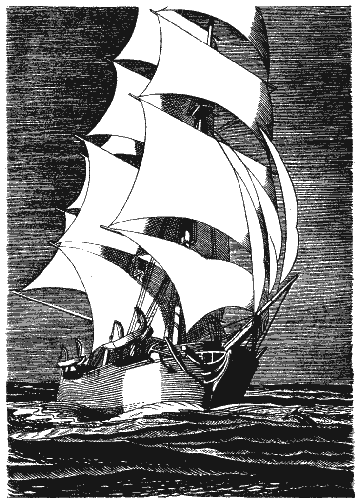
Будучи ещё свежевылупленным дикаренком, бегавшим без присмотра среди лесных кущ в соломенном передничке, который норовили пожевать теснившиеся вокруг него, словно вокруг зелёного деревца, козы, – даже тогда Квикег в глубине своей честолюбивой души уже испытывал сильное желание поближе посмотреть на христианский мир, не ограничиваясь разглядыванием двух-трёх заезжих китобойцев. Отец его был верховный вождь, местный монарх, дядя – верховный жрец, а по материнской линии он мог похвастаться несколькими тётушками – жёнами непобедимых воинов. Так что кровь в его жилах текла высокосортная – настоящая королевская кровь, хотя, боюсь, прискорбно подпорченная людоедскими наклонностями, которые он свободно удовлетворял в дни своей безнадзорной юности.
Однажды в залив его отца зашло судно из Сэг-Харбора[90], и Квикег стал проситься, чтобы его отвезли в христианскую землю. Однако команда судна была полностью укомплектована, так что его просьбу отклонили, и даже всё влияние его монаршего отца ничего не смогло тут изменить. Но Квикег дал себе клятву. Один в своём челноке он уплыл к далёкому проливу, через который, как ему было известно, должно было, покинув остров, пройти судно. По одну сторону пролива тянулся коралловый риф, по другую – низкая коса, густо поросшая манграми, которые поднимались не только из земли, но и из воды у берега. В этих зарослях он спрятал свой челнок, поставив его носом к морю, а сам уселся на корме, низко держа в руке весло; а когда судно, скользя, проходило мимо, точно молния, ринулся он наперерез, подгрёб к борту, одним толчком ноги перевернул и потопил челнок, вскарабкался вверх на руслень и, плашмя растянувшись во всю длину на палубе, вцепился обеими руками в кольцо рыма, поклявшись, что не разожмёт рук, даже если его станут рубить на куски.
Напрасно капитан угрожал вышвырнуть его за борт, напрасно замахивался топором над его обнажёнными запястьями – Квикег был царский сын, и Квикег остался твёрд. Наконец, потрясённый его отчаянным бесстрашием и столь горячим желанием посетить христианский мир, капитан сменил гнев на милость и сказал Квикегу, что тот может оставаться и устраиваться, как ему будет удобнее. Но этот благородный юный дикарь – принц Уэльский Южных морей – так и не увидел даже капитанской каюты. Его поместили в кубрике с матросами, и он стал китобоем. Подобно царю Петру, с удовольствием плотничавшему на верфях в чужеземных портах, Квикег не гнушался никаким самым презренным занятием, если только оно дарило ему возможность просветить умы его тёмных соотечественников. Ибо, как признался он мне, в глубине души он руководствовался сокровенным желанием обучиться среди христиан искусствам, способным сделать его народ ещё счастливее и, более того, ещё лучше, чем он был. Но, увы, жизнь среди китобоев вскоре убедила его, что и христиане могут быть несчастливы и порочны, несравненно несчастливее и порочнее, чем любой язычник, подданный его отца. Когда же он наконец прибыл в старый Сэг-Харбор и увидел, как вели себя там матросы, а потом добрался и до Нантакета и увидел, на что растрачивали они и здесь свои деньги, бедняга Квикег окончательно махнул на всё рукой. Зло живёт в этом мире под любым меридианом, сказал он себе, так что уж лучше я умру язычником.
Так и получилось, что он, исконный идолопоклонник в душе, жил тем не менее среди христиан, носил такую же, как они, одежду и учился говорить на их, с позволения сказать, языке. И отсюда – все его странности, хоть он давно уже покинул отчий дом.
Как можно тактичнее я спросил его, не намерен ли он вернуться домой и короноваться на царство, поскольку его старого отца, ещё давно, как он слышал, впавшего в немощь, теперь уже, конечно, нет в живых. Он ответил, что нет, пока не намерен; и добавил, что боится, не сделало ли его христианство, вернее христиане, недостойным взойти на чистый, незапятнанный отчий престол, где до него восседали тридцать языческих царей. Но когда-нибудь, сказал он, он ещё вернётся – как только снова почувствует себя очищенным от скверны. А покуда он собирается предаться увлечениям юности и поплавать вдоволь по всем четырём океанам. Его научили владеть гарпуном, и теперь это колючее орудие у него взамен скипетра.
Я спросил, каковы его планы на ближайшее будущее. Он ответил, что хотел бы снова пойти в плавание в своей прежней должности. Тут я сообщил ему, что также задумал поступить на китобойное судно, и поделился с ним своим намерением попасть для этого в Нантакет – самый многообещающий порт для начинающего китобоя и любителя приключений. Он тут же принял решение вместе со мной отправиться на остров, поступить на то же судно, что и я, попасть со мной в одну вахту, в один вельбот, за один стол – короче говоря, разделить со мной все превратности судьбы, чтобы мы могли, крепко взявшись за руки, смело черпать от всего, что пошлёт нам удача и в Старом, и в Новом Свете. На всё это я с радостью согласился, ибо, помимо той привязанности, которую я теперь к нему испытывал, меня поддерживало ещё сознание, что Квикег – опытный гарпунщик и поэтому в плавании незаменимый товарищ для такого человека, как я, совершенно несведущего в тайнах китобойного промысла, хотя и неплохо знакомого с морем, насколько это возможно для моряка с торгового судна.
Окончив свой рассказ с последней затяжкой, Квикег обнял меня и прижался лбом к моему лбу, после чего мы задули свечу и вскоре уже спали, откинувшись друг от друга по обе стороны кровати.
Глава XIII. Тачка
На следующее утро, в понедельник, сбыв одному цирюльнику бальзамированную голову в качестве болванки для париков, я уплатил по своему счёту и по счёту моего друга – воспользовавшись для этого, однако, деньгами друга. Как веселился наш ухмыляющийся хозяин, а с ним и все постояльцы при виде той внезапной дружбы, которая завязалась у меня с Квикегом, ведь несусветицы и небылицы, рассказанные Питером Гробом, раньше очень сильно напугали меня и настроили против того самого человека, с которым я теперь сдружился.
Мы позаимствовали у кого-то тачку и, погрузив на неё свои пожитки, в том числе мой жалкий саквояж, а также парусиновый мешок и свёрнутую койку Квикега, покатили прочь к пристани, откуда отходил «Лишайник» – маленький нантакетский пакетбот. Мы двигались по улицам, а прохожие с изумлением глазели на нас, и не столько на Квикега – потому что к людоедам в этом городе привыкли, – сколько именно на нас обоих, поражаясь нашей с ним близости. Но мы не обращали на это ни малейшего внимания – мы шагали вперёд, по очереди катили тачку и останавливались время от времени, чтобы Квикег мог поправить чехол на лезвиях своего гарпуна. Я поинтересовался, зачем он на суше носит с собой такой неудобный предмет – разве на всяком китобойном судне не достаточно своих гарпунов? На это он мне ответил, что в сущности я, конечно, прав, но что он особенно дорожит своим собственным гарпуном, так как лезвие у него из сверхзакаленной стали, испытанное во многих смертельных схватках и близко знакомое с китовым сердцем. Короче говоря, подобно многим жнецам и косарям, которые выходят на фермерский луг, вооружившись собственными косами, хоть они вовсе и не обязаны их приносить, – точно так же и Квикег по каким-то своим личным соображениям предпочитал собственный гарпун.
Перехватывая у меня рукоятки тачки, он рассказал мне забавную историю о том, как он увидел тачку впервые. Дело было в Сэг-Харборе. Хозяева судна дали ему тачку, чтобы он перевёз на ней в матросский пансион свой тяжёлый сундук. Дабы не показаться неосведомлённым в этом деле – а он и понятия не имел о том, как, собственно, с ней обращаться, – Квикег устанавливает на неё свой сундук, накрепко его привязывает, а потом взваливает всё вместе себе на плечи и так шагает по пристани.
– Господи, Квикег! – говорю я. – Неужели же ты не знал таких простых вещей? Люди, наверно, смеялись над тобою?
Тогда он рассказал мне другую забавную историю. На его родном острове Роковоко, устраивая свадебные пиршества, туземцы выжимают сладкий сок молодых кокосов в большую раскрашенную тыкву, наподобие чаши для варки пунша, и эта тыква всегда является главным украшением в центре большой циновки, где расставляются яства. Однажды в Роковоко зашло большое купеческое судно, и капитан – по всем отзывам, весьма достойный и безупречный джентльмен, во всяком случае, для морского капитана, – был приглашён на пир по случаю свадьбы юной сестры Квикега – очаровательной молодой царевны, только что достигшей десятилетнего возраста. И вот, когда все гости собрались в бамбуковой хижине невесты, входит этот капитан и усаживается на предназначенное ему почётное место прямо против тыквы между верховным жрецом и его царским величеством – отцом Квикега. Прочитали молитву – ибо у этих людей, точно так же как и у нас, есть свои молитвы, только Квикег говорил мне, что, в отличие от нас, взирающих во время молитвы вниз, на свои тарелки, они, наоборот, подражают уткам и устремляют взоры кверху, к великому Подателю всех угощений, – так вот, прочитали молитву, и тогда верховный жрец открыл празднество особой древней церемонией – он окунул в тыкву свои освящённые и освящающие пальцы, после чего благословенный напиток должен идти по кругу. Но капитан, сидевший подле жреца, увидел это и, считая, что ему, капитану большого судна, безусловно должно принадлежать право первенства перед простым царём какого-то острова, тем более в доме этого самого царя, – капитан преспокойно ополаскивает пальцы в пуншевой чаше, полагая, вероятно, что она для того и поставлена здесь, чтобы в ней мыли руки. «Ну, – говорит Квикег, – что ты теперь скажешь? Думаешь, наши люди не смеялись?»
Но вот, заплатив за проезд и пристроив свой багаж, мы очутились на борту пакетбота. Поставлены паруса, и мы скользим вниз по реке Акушнет. Справа от нас террасами своих улиц поднимался Нью-Бедфорд, весь сверкая обледеневшими ветвями деревьев в холодном прозрачном воздухе. На пристанях высокими горами громоздились груды наваленных друг на друга бочек, и тут же один подле другого безмолвно стояли на якоре китобойные суда, избороздившие весь свет и наконец вернувшиеся в тихую гавань; но уже с иных палуб доносился звон плотничьих и бондарных инструментов, слышался согласный гул горнов и костров, на которых топили смолу, – всё это означало, что готовятся новые рейсы, что окончание одного долгого, опасного плавания служит лишь началом другого, окончание второго – началом третьего, и так без конца, на вечные времена. Вот она, нескончаемая, нестерпимая бесцельность всех дел земных!
По мере того как мы удалялись от берега, свежий ветер крепчал, и маленький «Лишайник» стал раскидывать носом быструю пену, словно фыркающий жеребёнок. С какой жадностью вдыхал я этот воздух кочевий! С каким презрением спешил оставить позади все заставы земли, этой изъезженной дороги, покрытой бессчётными отпечатками рабских подошв и подков, чтобы восхищаться великодушием моря, которое не сохраняет следов на своём лоне.
И Квикег вместе со мною упивался брызгами пенного фонтана. Смуглые его ноздри раздувались, ровные заострённые зубы обнажались. Всё вперёд и вперёд летели мы. Очутившись в открытом море, «Лишайник» низко поклонился порыву ветра, с разбега зарывшись носом в волну, словно раб, павший ниц перед султаном. Накренившись, неслись мы куда-то вбок, и натянутые снасти звенели, как проволока, а две высокие мачты выгибались, словно тростинки под ветром. Стоя у ныряющего бушприта, мы были настолько поглощены этим головокружительным зрелищем, что не сразу заметили глумливые взгляды, которые бросали в нашу сторону пассажиры, – целая компания сухопутных увальней, поражённых тем, что два человека могут быть так дружны, – как будто белый человек – не тот же негр, только обеленный. Было среди них несколько болванов и дубин, до такой степени неотёсанных и зелёных, точно их только что поналомали в самом сердце лесной чащи. Квикег схватил одного из этих недорослей, корчившего рожи у него за спиной, и я уже решил было, что час бедного дурня пробил. Выпустив из рук гарпун, жилистый дикарь сгрёб парня в охапку, с удивительной ловкостью и силой швырнул его высоко в воздух, слегка поддав ему в зад, заставил проделать двойное сальто, после чего юнец, задыхаясь, благополучно опустился на ноги, а Квикег повернулся к нему спиной, разжёг свою трубку-томагавк и дал мне затянуться.
– Капитан! Капитан! – заорал дурень, отбежав к почтенному командиру судна. – Видали, что этот чёрт делает?
– Эй, вы, сэр, – раздался окрик капитана, тощего и долговязого, словно ребро корабельного шпангоута. Он с важным видом подошёл к Квикегу и произнёс: – Какого дьявола вы это делаете? Разве вы не видите, что так и убить парня можно?
– Чего она сказать? – мягко обратился ко мне Квикег.
– Он говорит: твоя мал-мало убивать тот человек, – и я указал на юнца, всё ещё дрожавшего в отдалении.
– Моя убивать? – воскликнул Квикег, и татуированное его лицо исказила гримаса нечеловеческого презрения. – О! Такой маленький рыбка! Квикег не убивать маленький рыбка. Квикег убивать большой кит!
– Послушай, ты! – гаркнул тогда капитан. – Я тебя самого буду убивать, проклятый людоед, если ты ещё позволишь себе такие шутки у меня на судне! Ты у меня смотри!
Но случилось так, что в этот миг смотреть нужно было самому капитану. Невероятный напор ветра на парус оборвал шкот, и теперь огромное бревно гика стремительно раскачивалось над палубой от борта к борту, покрывая в своём полёте всю кормовую часть палубы. Бедного парня, с которым так жестоко обошёлся Квикег, тяжёлым гиком столкнуло за борт; команду охватила паника; и всякая попытка задержать, остановить бревно представлялась просто безумием. Оно проносилось слева направо и обратно за какую-то секунду и, казалось, вот-вот разлетится в щепы. Никто ничего не предпринимал, да как будто бы и нечего было предпринять; все, кто был на палубе, сгрудились на носу и оттуда недвижно следили за гиком, словно то была челюсть разъярённого кита. Но среди всеобщего ужаса и оцепенения Квикег, не теряя времени, опустился на четвереньки, быстро прополз под летающим бревном, закрепил конец за фальшборт и, свернув его, наподобие лассо, набросил на гик, проносившийся как раз у него над головой, сделал могучий рывок – и вот уже бревно в плену, и все спасены. Пакетбот развернули по ветру, матросы бросаются отвязывать кормовую шлюпку, но Квикег, обнажённый до пояса, уже прыгнул за борт и нырнул, описав в воздухе длинную живую дугу. Минуты три он плавал, точно собака, выбрасывая прямо перед собой длинные руки и поочерёдно поднимая над леденящей пеной свои мускулистые плечи. Я любовался этим великолепным, могучим человеком, но того, кого он спасал, мне не было видно. Юнец уже скрылся под волнами. Тогда Квикег, вытянувшись столбом, выпрыгнул из воды, бросил мгновенный взгляд вокруг и, разглядев, по-видимому, истинное положение дел, нырнул и исчез из виду. Несколько минут спустя он снова появился на поверхности, одну руку по-прежнему выбрасывая вперёд, а другой волоча за собой безжизненное тело. Вскоре их подобрала шлюпка. Бедный дурень был спасён. Команда единодушно провозгласила Квикега отличнейшим малым; капитан просил у него прощения. С этого часа я прилепился к Квикегу, словно раковина к обшивке судна, и не расставался с ним до той самой минуты, когда он, нырнув в последний раз, надолго скрылся под волнами.
Он был бесподобен в своём героическом простодушии. Видно, он и не подозревал, что заслуживает медали от всевозможных человеколюбивых обществ Спасения на водах. Он только спросил воды – пресной воды, – чтобы смыть с тела налёт соли, а обмывшись и надев сухое платье, разжёг свою трубку и стоял курил, прислонившись к борту и доброжелательно глядя на людей, словно говорил себе: «В этом мире под всеми широтами жизнь строится на взаимной поддержке и товариществе. И мы, каннибалы, призваны помогать христианам».
Мы позаимствовали у кого-то тачку и, погрузив на неё свои пожитки, в том числе мой жалкий саквояж, а также парусиновый мешок и свёрнутую койку Квикега, покатили прочь к пристани, откуда отходил «Лишайник» – маленький нантакетский пакетбот. Мы двигались по улицам, а прохожие с изумлением глазели на нас, и не столько на Квикега – потому что к людоедам в этом городе привыкли, – сколько именно на нас обоих, поражаясь нашей с ним близости. Но мы не обращали на это ни малейшего внимания – мы шагали вперёд, по очереди катили тачку и останавливались время от времени, чтобы Квикег мог поправить чехол на лезвиях своего гарпуна. Я поинтересовался, зачем он на суше носит с собой такой неудобный предмет – разве на всяком китобойном судне не достаточно своих гарпунов? На это он мне ответил, что в сущности я, конечно, прав, но что он особенно дорожит своим собственным гарпуном, так как лезвие у него из сверхзакаленной стали, испытанное во многих смертельных схватках и близко знакомое с китовым сердцем. Короче говоря, подобно многим жнецам и косарям, которые выходят на фермерский луг, вооружившись собственными косами, хоть они вовсе и не обязаны их приносить, – точно так же и Квикег по каким-то своим личным соображениям предпочитал собственный гарпун.
Перехватывая у меня рукоятки тачки, он рассказал мне забавную историю о том, как он увидел тачку впервые. Дело было в Сэг-Харборе. Хозяева судна дали ему тачку, чтобы он перевёз на ней в матросский пансион свой тяжёлый сундук. Дабы не показаться неосведомлённым в этом деле – а он и понятия не имел о том, как, собственно, с ней обращаться, – Квикег устанавливает на неё свой сундук, накрепко его привязывает, а потом взваливает всё вместе себе на плечи и так шагает по пристани.
– Господи, Квикег! – говорю я. – Неужели же ты не знал таких простых вещей? Люди, наверно, смеялись над тобою?
Тогда он рассказал мне другую забавную историю. На его родном острове Роковоко, устраивая свадебные пиршества, туземцы выжимают сладкий сок молодых кокосов в большую раскрашенную тыкву, наподобие чаши для варки пунша, и эта тыква всегда является главным украшением в центре большой циновки, где расставляются яства. Однажды в Роковоко зашло большое купеческое судно, и капитан – по всем отзывам, весьма достойный и безупречный джентльмен, во всяком случае, для морского капитана, – был приглашён на пир по случаю свадьбы юной сестры Квикега – очаровательной молодой царевны, только что достигшей десятилетнего возраста. И вот, когда все гости собрались в бамбуковой хижине невесты, входит этот капитан и усаживается на предназначенное ему почётное место прямо против тыквы между верховным жрецом и его царским величеством – отцом Квикега. Прочитали молитву – ибо у этих людей, точно так же как и у нас, есть свои молитвы, только Квикег говорил мне, что, в отличие от нас, взирающих во время молитвы вниз, на свои тарелки, они, наоборот, подражают уткам и устремляют взоры кверху, к великому Подателю всех угощений, – так вот, прочитали молитву, и тогда верховный жрец открыл празднество особой древней церемонией – он окунул в тыкву свои освящённые и освящающие пальцы, после чего благословенный напиток должен идти по кругу. Но капитан, сидевший подле жреца, увидел это и, считая, что ему, капитану большого судна, безусловно должно принадлежать право первенства перед простым царём какого-то острова, тем более в доме этого самого царя, – капитан преспокойно ополаскивает пальцы в пуншевой чаше, полагая, вероятно, что она для того и поставлена здесь, чтобы в ней мыли руки. «Ну, – говорит Квикег, – что ты теперь скажешь? Думаешь, наши люди не смеялись?»
Но вот, заплатив за проезд и пристроив свой багаж, мы очутились на борту пакетбота. Поставлены паруса, и мы скользим вниз по реке Акушнет. Справа от нас террасами своих улиц поднимался Нью-Бедфорд, весь сверкая обледеневшими ветвями деревьев в холодном прозрачном воздухе. На пристанях высокими горами громоздились груды наваленных друг на друга бочек, и тут же один подле другого безмолвно стояли на якоре китобойные суда, избороздившие весь свет и наконец вернувшиеся в тихую гавань; но уже с иных палуб доносился звон плотничьих и бондарных инструментов, слышался согласный гул горнов и костров, на которых топили смолу, – всё это означало, что готовятся новые рейсы, что окончание одного долгого, опасного плавания служит лишь началом другого, окончание второго – началом третьего, и так без конца, на вечные времена. Вот она, нескончаемая, нестерпимая бесцельность всех дел земных!
По мере того как мы удалялись от берега, свежий ветер крепчал, и маленький «Лишайник» стал раскидывать носом быструю пену, словно фыркающий жеребёнок. С какой жадностью вдыхал я этот воздух кочевий! С каким презрением спешил оставить позади все заставы земли, этой изъезженной дороги, покрытой бессчётными отпечатками рабских подошв и подков, чтобы восхищаться великодушием моря, которое не сохраняет следов на своём лоне.
И Квикег вместе со мною упивался брызгами пенного фонтана. Смуглые его ноздри раздувались, ровные заострённые зубы обнажались. Всё вперёд и вперёд летели мы. Очутившись в открытом море, «Лишайник» низко поклонился порыву ветра, с разбега зарывшись носом в волну, словно раб, павший ниц перед султаном. Накренившись, неслись мы куда-то вбок, и натянутые снасти звенели, как проволока, а две высокие мачты выгибались, словно тростинки под ветром. Стоя у ныряющего бушприта, мы были настолько поглощены этим головокружительным зрелищем, что не сразу заметили глумливые взгляды, которые бросали в нашу сторону пассажиры, – целая компания сухопутных увальней, поражённых тем, что два человека могут быть так дружны, – как будто белый человек – не тот же негр, только обеленный. Было среди них несколько болванов и дубин, до такой степени неотёсанных и зелёных, точно их только что поналомали в самом сердце лесной чащи. Квикег схватил одного из этих недорослей, корчившего рожи у него за спиной, и я уже решил было, что час бедного дурня пробил. Выпустив из рук гарпун, жилистый дикарь сгрёб парня в охапку, с удивительной ловкостью и силой швырнул его высоко в воздух, слегка поддав ему в зад, заставил проделать двойное сальто, после чего юнец, задыхаясь, благополучно опустился на ноги, а Квикег повернулся к нему спиной, разжёг свою трубку-томагавк и дал мне затянуться.
– Капитан! Капитан! – заорал дурень, отбежав к почтенному командиру судна. – Видали, что этот чёрт делает?
– Эй, вы, сэр, – раздался окрик капитана, тощего и долговязого, словно ребро корабельного шпангоута. Он с важным видом подошёл к Квикегу и произнёс: – Какого дьявола вы это делаете? Разве вы не видите, что так и убить парня можно?
– Чего она сказать? – мягко обратился ко мне Квикег.
– Он говорит: твоя мал-мало убивать тот человек, – и я указал на юнца, всё ещё дрожавшего в отдалении.
– Моя убивать? – воскликнул Квикег, и татуированное его лицо исказила гримаса нечеловеческого презрения. – О! Такой маленький рыбка! Квикег не убивать маленький рыбка. Квикег убивать большой кит!
– Послушай, ты! – гаркнул тогда капитан. – Я тебя самого буду убивать, проклятый людоед, если ты ещё позволишь себе такие шутки у меня на судне! Ты у меня смотри!
Но случилось так, что в этот миг смотреть нужно было самому капитану. Невероятный напор ветра на парус оборвал шкот, и теперь огромное бревно гика стремительно раскачивалось над палубой от борта к борту, покрывая в своём полёте всю кормовую часть палубы. Бедного парня, с которым так жестоко обошёлся Квикег, тяжёлым гиком столкнуло за борт; команду охватила паника; и всякая попытка задержать, остановить бревно представлялась просто безумием. Оно проносилось слева направо и обратно за какую-то секунду и, казалось, вот-вот разлетится в щепы. Никто ничего не предпринимал, да как будто бы и нечего было предпринять; все, кто был на палубе, сгрудились на носу и оттуда недвижно следили за гиком, словно то была челюсть разъярённого кита. Но среди всеобщего ужаса и оцепенения Квикег, не теряя времени, опустился на четвереньки, быстро прополз под летающим бревном, закрепил конец за фальшборт и, свернув его, наподобие лассо, набросил на гик, проносившийся как раз у него над головой, сделал могучий рывок – и вот уже бревно в плену, и все спасены. Пакетбот развернули по ветру, матросы бросаются отвязывать кормовую шлюпку, но Квикег, обнажённый до пояса, уже прыгнул за борт и нырнул, описав в воздухе длинную живую дугу. Минуты три он плавал, точно собака, выбрасывая прямо перед собой длинные руки и поочерёдно поднимая над леденящей пеной свои мускулистые плечи. Я любовался этим великолепным, могучим человеком, но того, кого он спасал, мне не было видно. Юнец уже скрылся под волнами. Тогда Квикег, вытянувшись столбом, выпрыгнул из воды, бросил мгновенный взгляд вокруг и, разглядев, по-видимому, истинное положение дел, нырнул и исчез из виду. Несколько минут спустя он снова появился на поверхности, одну руку по-прежнему выбрасывая вперёд, а другой волоча за собой безжизненное тело. Вскоре их подобрала шлюпка. Бедный дурень был спасён. Команда единодушно провозгласила Квикега отличнейшим малым; капитан просил у него прощения. С этого часа я прилепился к Квикегу, словно раковина к обшивке судна, и не расставался с ним до той самой минуты, когда он, нырнув в последний раз, надолго скрылся под волнами.
Он был бесподобен в своём героическом простодушии. Видно, он и не подозревал, что заслуживает медали от всевозможных человеколюбивых обществ Спасения на водах. Он только спросил воды – пресной воды, – чтобы смыть с тела налёт соли, а обмывшись и надев сухое платье, разжёг свою трубку и стоял курил, прислонившись к борту и доброжелательно глядя на людей, словно говорил себе: «В этом мире под всеми широтами жизнь строится на взаимной поддержке и товариществе. И мы, каннибалы, призваны помогать христианам».
Глава XIV. Нантакет
Больше по пути с нами не произошло ничего достойного упоминания; и вот, при попутном ветре, мы благополучно прибыли в Нантакет.
Нантакет! Разверните карту и найдите его. Видите? Он расположен в укромном уголке мира; стоит себе в сторонке, далеко от большой земли, ещё более одинокий, чем Эддистонский маяк[91]. Поглядите: ведь это всего лишь маленький холмик, горстка песку, один только берег, за которым нет настоящей суши. Песку здесь больше, чем вы за двадцать лет могли бы использовать вместо промокательной бумаги. Шутники расскажут вам, что здесь даже трава не растёт сама по себе, а приходится её сажать; что сюда из Канады завозят чертополох, а если нужно заделать течь в бочонке с китовым жиром, то в поисках втулки отправляются за море; что с каждой деревяшкой в Нантакете носятся, словно с обломками креста господня в Риме; что жители Нантакета сажают перед своими домами мухоморы, чтобы летом можно было прохлаждаться в их тени; что одна травинка здесь – это уже оазис, а три травинки за день пути – прерия; что здесь ходят по песку на специальных лыжах, вроде тех, на которых в Лапландии передвигаются по глубокому снегу; что Нантакет до такой степени отрезан от мира океаном, опоясан им, охвачен со всех сторон, окружён и ограничен водой, что здесь нередко можно видеть маленькие ракушки, приставшие к столам и стульям, словно к панцирям морских черепах. Но все эти преувеличения говорят лишь о том, что Нантакет не Иллинойс.
Зато существует восхитительное предание о том, как этот остров был впервые заселён краснокожими людьми. Легенда гласит, что однажды, в стародавние времена, на побережье Новой Англии камнем упал орёл и унёс в когтях индейского младенца. С горькими причитаниями провожали глазами родители своего ребёнка, покуда он не скрылся из виду за водной ширью. Тогда они решили последовать за ним. На своих челнах пустились они по морю и после тяжёлого, опасного плавания открыли остров, а на нём нашли пустую костяную коробочку – скелетик маленького индейца.
Нантакет! Разверните карту и найдите его. Видите? Он расположен в укромном уголке мира; стоит себе в сторонке, далеко от большой земли, ещё более одинокий, чем Эддистонский маяк[91]. Поглядите: ведь это всего лишь маленький холмик, горстка песку, один только берег, за которым нет настоящей суши. Песку здесь больше, чем вы за двадцать лет могли бы использовать вместо промокательной бумаги. Шутники расскажут вам, что здесь даже трава не растёт сама по себе, а приходится её сажать; что сюда из Канады завозят чертополох, а если нужно заделать течь в бочонке с китовым жиром, то в поисках втулки отправляются за море; что с каждой деревяшкой в Нантакете носятся, словно с обломками креста господня в Риме; что жители Нантакета сажают перед своими домами мухоморы, чтобы летом можно было прохлаждаться в их тени; что одна травинка здесь – это уже оазис, а три травинки за день пути – прерия; что здесь ходят по песку на специальных лыжах, вроде тех, на которых в Лапландии передвигаются по глубокому снегу; что Нантакет до такой степени отрезан от мира океаном, опоясан им, охвачен со всех сторон, окружён и ограничен водой, что здесь нередко можно видеть маленькие ракушки, приставшие к столам и стульям, словно к панцирям морских черепах. Но все эти преувеличения говорят лишь о том, что Нантакет не Иллинойс.
Зато существует восхитительное предание о том, как этот остров был впервые заселён краснокожими людьми. Легенда гласит, что однажды, в стародавние времена, на побережье Новой Англии камнем упал орёл и унёс в когтях индейского младенца. С горькими причитаниями провожали глазами родители своего ребёнка, покуда он не скрылся из виду за водной ширью. Тогда они решили последовать за ним. На своих челнах пустились они по морю и после тяжёлого, опасного плавания открыли остров, а на нём нашли пустую костяную коробочку – скелетик маленького индейца.
