Страница:
На улице и прилегающей к саду набережной прогуливались одетые полетнему туристы, среди которых было много шведов. Чересчур много, считала Монита. Местных жителей легко было отличить в толпе, они двигались уверенно и целеустремленно, неся корзины с яйцами или фруктами, большие буханки свежеиспеченного серого хлеба, рыболовные снасти, детишек. Только что мимо прошел мужчина, который нес на голове зарезанного поросенка. К тому же люди постарше чуть не все одевались в черное.
Она позвала Мону, и дочь подбежала к ней вместе со своей подружкой.
— Я думаю прогуляться, — сказала Монита. — Только до дома Розеты и обратно. Пойдешь со мной?
— А это обязательно? — спросила Мона.
— Конечно, нет. Оставайся, играй тут, если хочется. Я скоро вернусь.
Монита не торопясь пошла вверх по косогору за отелем.
Сверкающий белизной дом Розеты стоял на горе, в пятнадцати минутах ходьбы от гостиницы. Название сохранилось, хотя Розета умерла пять лет назад и дом перешел к ее трем сыновьям, которые давно уже обосновались в самом городке.
Со старшим сыном Монита познакомилась в первую же неделю; он содержал погребок в порту, и его дочурка стала лучшей подружкой Моны. Из всего семейства Монита только с ним могла объясняться — он был когдато моряком и неплохо говорил поанглийски. Ей было приятно, что она так быстро обзавелась друзьями в городе, но больше всего ее радовала возможность снять дом Розеты осенью, когда уедет поселившийся там на лето американец.
Дом просторный, удобный, с чудесным видом на горы, порт и залив, кругом большой сад. И до следующего лета он никому не обещан, так что в нем можно почти год прожить.
А пока Монита ходила туда, чтобы посидеть в саду и поговорить с американцем, отставным военным, который приехал сюда писать мемуары.
Поднимаясь по крутому склону, она снова и снова перебирала в уме события, приведшие ее сюда. И в который раз за эти три недели поражалась тому, как быстро и просто все свершилось, стоило решиться и сделать первый шаг. Правда, ее терзала мысль о том, что цель достигнута ценой человеческой жизни. В бессонные ночи в ее голове до сих пор отдавался непреднамеренный роковой выстрел — но, может, время приглушит это воспоминание.
Находка на кухне Филипа Мауритсона сразу все решила. Взяв в руки пистолет, она фактически уже знала, как поступит. Потом два с половиной месяца разрабатывала план и собиралась с духом. Десять недель она ни о чем другом не могла думать.
И когда пришла пора выполнять план, Монита была уверена, что предусмотрела все возможные ситуации, будь то в банке или за его пределами.
Вот только вмешательство постороннего застигло ее врасплох. Она ничего не смыслила в огнестрельном оружии и не пыталась поближе познакомиться с пистолетом, ведь он ей нужен был только для устрашения. Ей и в голову не приходило, что выстрелить так просто.
Когда этот человек бросился к ней, она непроизвольно сжала пистолет в руке. Звук выстрела был для нее полной неожиданностью. Увидев, что человек упал, и поняв, что она натворила, Монита страшно перепугалась. Внутри все онемело, и ей до сих пор было непонятно, как она после такого потрясения смогла довести дело до конца.
Доехав на метро домой, Монита засунула сумку с деньгами в чемодан с одеждой Моны: она приступила к сборам еще накануне.
Дальнейшие действия Мониты трудно было назвать осмысленными.
Она переоделась в платье и сандалии и доехала на такси до Армфельтсгатан. Это не было предусмотрено планом, но ей вдруг представилось, что Мауритсон отчасти тоже повинен в гибели человека в банке, и она решила вернуть оружие туда, где нашла его.
Однако войдя на кухню Мауритсона, Монита почувствовала, что это вздор. В следующую минуту на нее напал страх, и она обратилась в бегство. На первом этаже заметила распахнутую дверь подвала, спустилась туда и уже хотела бросить зеленую брезентовую сумку в мешок с мусором, когда услышала голоса мусорщиков. Она пробежала в глубь коридора, очутилась в какомто чулане и спрятала сумку в деревянный сундук в углу. Дождалась, когда мусорщики хлопнули дверью, и поспешно покинула дом.
На другое утро Монита вылетела за границу.
Мечтой всей ее жизни было увидеть Венецию, и уже через сутки после ограбления она прилетела туда вместе с Моной. Они недолго пробыли в Венеции, всего два дня — было туго с гостиницей, к тому же стояла невыносимая жара, усугубляемая вонью от каналов. Уж лучше приехать еще раз, когда схлынет наплыв туристов.
Монита взяла билеты на поезд до Триеста, оттуда они проехали в Югославию, в маленький истрийский городок, где и остановились.
Черная нейлоновая сумка с восемьюдесятью семью тысячами шведских крон лежала в платяном шкафу ее номера, в одном из чемоданов. Монита не раз говорила себе, что надо придумать более надежное место. Ничего, на днях съездит в Триест и поместит деньги в банк.
Американца не оказалось дома, тогда она прошла в сад и села на траву, прислонясь спиной к дереву; кажется, это была пиния.
Подобрав ноги и положив подбородок на колени, Монита смотрела на Адриатическое море.
Воздух на редкость прозрачный, хорошо видно линию горизонта и светлый пассажирский катер, спешащий к гавани.
Прибрежные утесы, белый пляж и переливающийся синевой залив выглядели очень заманчиво. Что ж, посидит немного и пойдет искупается…
Начальник ЦПУ вызвал члена коллегии Стига Мальма, и тот не замедлил явиться в просторный, светлый угловой кабинет, расположенный в самом старом из зданий полицейского управления.
На малиновом ковре лежал ромб солнечного света, сквозь закрытые окна пробивался гул от стройки, где прокладывалась новая линия метро.
Речь шла о Мартине Беке.
— Ты ведь гораздо чаще моего встречался с ним, — говорил начальник ЦПУ. — Когда у него был отпуск после ранения и теперь, в эти две недели, когда он вышел на работу. Как он тебе?
— Смотря что ты подразумеваешь, — ответил Мальм. — Ты про здоровье спрашиваешь?
— О его физической форме пусть врачи судят. Помоему, он совсем оправился. Меня больше интересует, что ты думаешь о состоянии его психики.
Стиг Мальм пригладил свои холеные кудри.
— Гм… Как бы это сказать…
Дальше ничего не последовало, и, не дождавшись продолжения, начальник ЦПУ заговорил сам с легким раздражением в голосе:
— Я не требую от тебя глубокого психологического анализа. Просто хотелось бы услышать, какое впечатление он на тебя сейчас производит.
— И не так уж часто я с ним сталкивался, — уклончиво произнес Мальм.
— Во всяком случае, чаще, чем я, — настаивал начальник ЦПУ. — Тот он или не тот?
— Ты хочешь знать, тот ли он, что был прежде, до ранения? Да нет, пожалуй, не тот. Но ведь он долго болел, был большой перерыв, ему нужно какоето время, чтобы втянуться в работу.
— Ну а в какую сторону он, потвоему, изменился?
Мальм неуверенно посмотрел на шефа.
— Да уж во всяком случае, не в лучшую. Он всегда был себе на уме и со странностями. Ну и склонен слишком много на себя брать.
Начальник ЦПУ наклонил голову и сморщил лоб.
— В самом деле? Да, пожалуй, это верно, однако прежде он успешно справлялся со всеми заданиями. Или, потвоему, он теперь стал больше своевольничать?
— Трудно сказать… Ведь он всего две недели как вышел на работу…
— Помоему, он какойто несобранный, — сказал начальник ЦПУ. — Хватка уже не та. Взять хоть его последнее дело, этот смертный случай на Бергсгатан.
— Дада, — подхватил Мальм. — Это дело он вел неважно.
— Отвратительно! Больше того — какую нелепую версию предложил! Спасибо, пресса не заинтересовалась этим делом. Правда, еще не поздно, того и гляди, просочится чтонибудь. Вряд ли это будет полезно для нас, а для Бека и подавно.
— Да, тут я просто теряюсь, — сказал Мальм. — У него там многое буквально из пальца высосано. А это мнимое признание… Я даже слов не нахожу.
Начальник ЦПУ встал, подошел к окну, выходящему на Агнегатан, и уставился на ратушу напротив. Постоял так несколько минут, потом вернулся на место, положил ладони на стол, внимательно осмотрел свои ногти и возвестил:
— Я много думал об этой истории. Сам понимаешь, она меня беспокоит, тем более что мы ведь собирались назначить Бека начальником управления.
Он помолчал. Мальм внимательно слушал.
— И вот к какому выводу я пришел, — снова заговорил начальник. — Когда посмотришь, как Бек вел дело этого… этого…
— Свярда, — подсказал Мальм.
— Что? Ладно, пускай Свярда. Так вот — все поведение Бека свидетельствует, что он вроде бы не в своей тарелке, как потвоему?
— Помоему, очень похоже на то, что он спятил, — сказал Мальм.
— Ну, до этого, будем надеяться, еще не дошло. Но какойто сдвиг в психике, несомненно, есть, а потому я предложил бы подождать и поглядеть — серьезно это или речь идет о временном последствии его болезни.
Начальник ЦПУ оторвал ладони от стола и снова опустил их.
— Словом… В данный момент я посчитал бы несколько рискованным рекомендовать его на должность начальника управления. Пусть еще поработает на старом месте, а там будет видно. Все равно ведь этот вопрос обсуждался только предварительно, на коллегию не выносился. Так что предлагаю снять его с повестки дня и отложить до поры до времени. У меня есть другие, более подходящие кандидаты на эту должность, а Беку необязательно знать, что обсуждалась его кандидатура, и ему не будет обидно. Ну как?
— Правильно, — сказал Мальм. — Это разумное решение.
Начальник ЦПУ встал и открыл дверь: Мальм тотчас сорвался с места.
— Вот именно, — заключил начальник ЦПУ, затворяя за ним дверь. — Весьма разумное решение.
Когда слух о том, что повышение отменяется, через два часа дошел до Мартина Бека, он, в виде исключения, вынужден был согласиться с начальником ЦПУ.
Решение и впрямь было на редкость разумным.
Филип Трезор Мауритсон ходил взад и вперед по камере.
Ему не сиделось на месте, и мысли его тоже не знали покоя. Правда, со временем они сильно упростились и теперь свелись всего к нескольким вопросам.
Что, собственно, произошло?
Как это могло получиться?
Он тщетно доискивался ответа.
Дежурные наблюдатели уже докладывали о нем тюремному психиатру. На следующей неделе они собирались обратиться еще и к священнику.
Мауритсон все требовал, чтобы ему чтото объяснили. А священник — мастак объяснять, пусть попробует.
Заключенный лежал неподвижно на нарах во мраке. Ему не спалось.
Он думал.
Что же случилось, черт побери?
Как все это вышло?
Кто-то должен знать ответ.
Кто?
К. Арне Блом
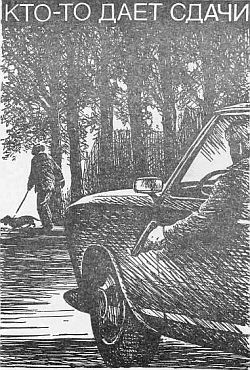
Этот роман — заключительная часть трилогии о современном шведском студенчестве. Действующие лица вымышлены, но обстановка вполне реальна. За одним исключением: в Лунде нет улицы под названием Судденс-вег. В книге же это одна из многих улиц в большом районе, где все, так или иначе, связано со студенческой жизнью.
Автор
ПРОЛОГ
Глава первая
Кто — они?
Комиссар уголовной полиции Бенгт Турен. — Человек вспыльчивый, он нередко срывал злость на тех, кто его раздражал. Турен курил трубку, но умеренно, в юности с неплохим результатом бегал на восемьсот метров. Правда, это было в тридцатые годы, а сейчас ему уже сравнялся пятьдесят один. Ростом он невысок. В каштановых волосах заметна легкая проседь. Кустистые брови, толстая нижняя губа. На лице зачастую лежит печать усталости, и в глаза прежде всего бросается длинный нос, похожий на клюв хищной птицы. Лоб пересечен шрамом. Руки большие, с толстыми пальцами, покрытыми темным пушком. Телосложение худощавое.
Инспектор уголовной полиции Севед Улофссон (отдел по борьбе с особо опасными преступлениями). — Обозначившееся брюшко досаждало больше его жене, Буэль, нежели ему самому. Лоб выпуклый, светлые волосы аккуратно зачесаны назад. С давних пор он приобрел скверную привычку ежеминутно облизывать тонкие губы. Уши слегка оттопыренные, лицо продолговатое, овальное. И вообще он весь длинный: рост приблизительно метр девяносто. Осенью ему стукнет сорок, и он гадал, подарит ему жена тот замшевый пиджак, который он присмотрел, или нет. Дело в том, что по части одежды Севед был немножко сноб. Во-первых, он обожал наряжаться, во-вторых, работать, в-третьих, мастерить авиамодели. А в-четвертых, любил поесть.
Она позвала Мону, и дочь подбежала к ней вместе со своей подружкой.
— Я думаю прогуляться, — сказала Монита. — Только до дома Розеты и обратно. Пойдешь со мной?
— А это обязательно? — спросила Мона.
— Конечно, нет. Оставайся, играй тут, если хочется. Я скоро вернусь.
Монита не торопясь пошла вверх по косогору за отелем.
Сверкающий белизной дом Розеты стоял на горе, в пятнадцати минутах ходьбы от гостиницы. Название сохранилось, хотя Розета умерла пять лет назад и дом перешел к ее трем сыновьям, которые давно уже обосновались в самом городке.
Со старшим сыном Монита познакомилась в первую же неделю; он содержал погребок в порту, и его дочурка стала лучшей подружкой Моны. Из всего семейства Монита только с ним могла объясняться — он был когдато моряком и неплохо говорил поанглийски. Ей было приятно, что она так быстро обзавелась друзьями в городе, но больше всего ее радовала возможность снять дом Розеты осенью, когда уедет поселившийся там на лето американец.
Дом просторный, удобный, с чудесным видом на горы, порт и залив, кругом большой сад. И до следующего лета он никому не обещан, так что в нем можно почти год прожить.
А пока Монита ходила туда, чтобы посидеть в саду и поговорить с американцем, отставным военным, который приехал сюда писать мемуары.
Поднимаясь по крутому склону, она снова и снова перебирала в уме события, приведшие ее сюда. И в который раз за эти три недели поражалась тому, как быстро и просто все свершилось, стоило решиться и сделать первый шаг. Правда, ее терзала мысль о том, что цель достигнута ценой человеческой жизни. В бессонные ночи в ее голове до сих пор отдавался непреднамеренный роковой выстрел — но, может, время приглушит это воспоминание.
Находка на кухне Филипа Мауритсона сразу все решила. Взяв в руки пистолет, она фактически уже знала, как поступит. Потом два с половиной месяца разрабатывала план и собиралась с духом. Десять недель она ни о чем другом не могла думать.
И когда пришла пора выполнять план, Монита была уверена, что предусмотрела все возможные ситуации, будь то в банке или за его пределами.
Вот только вмешательство постороннего застигло ее врасплох. Она ничего не смыслила в огнестрельном оружии и не пыталась поближе познакомиться с пистолетом, ведь он ей нужен был только для устрашения. Ей и в голову не приходило, что выстрелить так просто.
Когда этот человек бросился к ней, она непроизвольно сжала пистолет в руке. Звук выстрела был для нее полной неожиданностью. Увидев, что человек упал, и поняв, что она натворила, Монита страшно перепугалась. Внутри все онемело, и ей до сих пор было непонятно, как она после такого потрясения смогла довести дело до конца.
Доехав на метро домой, Монита засунула сумку с деньгами в чемодан с одеждой Моны: она приступила к сборам еще накануне.
Дальнейшие действия Мониты трудно было назвать осмысленными.
Она переоделась в платье и сандалии и доехала на такси до Армфельтсгатан. Это не было предусмотрено планом, но ей вдруг представилось, что Мауритсон отчасти тоже повинен в гибели человека в банке, и она решила вернуть оружие туда, где нашла его.
Однако войдя на кухню Мауритсона, Монита почувствовала, что это вздор. В следующую минуту на нее напал страх, и она обратилась в бегство. На первом этаже заметила распахнутую дверь подвала, спустилась туда и уже хотела бросить зеленую брезентовую сумку в мешок с мусором, когда услышала голоса мусорщиков. Она пробежала в глубь коридора, очутилась в какомто чулане и спрятала сумку в деревянный сундук в углу. Дождалась, когда мусорщики хлопнули дверью, и поспешно покинула дом.
На другое утро Монита вылетела за границу.
Мечтой всей ее жизни было увидеть Венецию, и уже через сутки после ограбления она прилетела туда вместе с Моной. Они недолго пробыли в Венеции, всего два дня — было туго с гостиницей, к тому же стояла невыносимая жара, усугубляемая вонью от каналов. Уж лучше приехать еще раз, когда схлынет наплыв туристов.
Монита взяла билеты на поезд до Триеста, оттуда они проехали в Югославию, в маленький истрийский городок, где и остановились.
Черная нейлоновая сумка с восемьюдесятью семью тысячами шведских крон лежала в платяном шкафу ее номера, в одном из чемоданов. Монита не раз говорила себе, что надо придумать более надежное место. Ничего, на днях съездит в Триест и поместит деньги в банк.
Американца не оказалось дома, тогда она прошла в сад и села на траву, прислонясь спиной к дереву; кажется, это была пиния.
Подобрав ноги и положив подбородок на колени, Монита смотрела на Адриатическое море.
Воздух на редкость прозрачный, хорошо видно линию горизонта и светлый пассажирский катер, спешащий к гавани.
Прибрежные утесы, белый пляж и переливающийся синевой залив выглядели очень заманчиво. Что ж, посидит немного и пойдет искупается…
Начальник ЦПУ вызвал члена коллегии Стига Мальма, и тот не замедлил явиться в просторный, светлый угловой кабинет, расположенный в самом старом из зданий полицейского управления.
На малиновом ковре лежал ромб солнечного света, сквозь закрытые окна пробивался гул от стройки, где прокладывалась новая линия метро.
Речь шла о Мартине Беке.
— Ты ведь гораздо чаще моего встречался с ним, — говорил начальник ЦПУ. — Когда у него был отпуск после ранения и теперь, в эти две недели, когда он вышел на работу. Как он тебе?
— Смотря что ты подразумеваешь, — ответил Мальм. — Ты про здоровье спрашиваешь?
— О его физической форме пусть врачи судят. Помоему, он совсем оправился. Меня больше интересует, что ты думаешь о состоянии его психики.
Стиг Мальм пригладил свои холеные кудри.
— Гм… Как бы это сказать…
Дальше ничего не последовало, и, не дождавшись продолжения, начальник ЦПУ заговорил сам с легким раздражением в голосе:
— Я не требую от тебя глубокого психологического анализа. Просто хотелось бы услышать, какое впечатление он на тебя сейчас производит.
— И не так уж часто я с ним сталкивался, — уклончиво произнес Мальм.
— Во всяком случае, чаще, чем я, — настаивал начальник ЦПУ. — Тот он или не тот?
— Ты хочешь знать, тот ли он, что был прежде, до ранения? Да нет, пожалуй, не тот. Но ведь он долго болел, был большой перерыв, ему нужно какоето время, чтобы втянуться в работу.
— Ну а в какую сторону он, потвоему, изменился?
Мальм неуверенно посмотрел на шефа.
— Да уж во всяком случае, не в лучшую. Он всегда был себе на уме и со странностями. Ну и склонен слишком много на себя брать.
Начальник ЦПУ наклонил голову и сморщил лоб.
— В самом деле? Да, пожалуй, это верно, однако прежде он успешно справлялся со всеми заданиями. Или, потвоему, он теперь стал больше своевольничать?
— Трудно сказать… Ведь он всего две недели как вышел на работу…
— Помоему, он какойто несобранный, — сказал начальник ЦПУ. — Хватка уже не та. Взять хоть его последнее дело, этот смертный случай на Бергсгатан.
— Дада, — подхватил Мальм. — Это дело он вел неважно.
— Отвратительно! Больше того — какую нелепую версию предложил! Спасибо, пресса не заинтересовалась этим делом. Правда, еще не поздно, того и гляди, просочится чтонибудь. Вряд ли это будет полезно для нас, а для Бека и подавно.
— Да, тут я просто теряюсь, — сказал Мальм. — У него там многое буквально из пальца высосано. А это мнимое признание… Я даже слов не нахожу.
Начальник ЦПУ встал, подошел к окну, выходящему на Агнегатан, и уставился на ратушу напротив. Постоял так несколько минут, потом вернулся на место, положил ладони на стол, внимательно осмотрел свои ногти и возвестил:
— Я много думал об этой истории. Сам понимаешь, она меня беспокоит, тем более что мы ведь собирались назначить Бека начальником управления.
Он помолчал. Мальм внимательно слушал.
— И вот к какому выводу я пришел, — снова заговорил начальник. — Когда посмотришь, как Бек вел дело этого… этого…
— Свярда, — подсказал Мальм.
— Что? Ладно, пускай Свярда. Так вот — все поведение Бека свидетельствует, что он вроде бы не в своей тарелке, как потвоему?
— Помоему, очень похоже на то, что он спятил, — сказал Мальм.
— Ну, до этого, будем надеяться, еще не дошло. Но какойто сдвиг в психике, несомненно, есть, а потому я предложил бы подождать и поглядеть — серьезно это или речь идет о временном последствии его болезни.
Начальник ЦПУ оторвал ладони от стола и снова опустил их.
— Словом… В данный момент я посчитал бы несколько рискованным рекомендовать его на должность начальника управления. Пусть еще поработает на старом месте, а там будет видно. Все равно ведь этот вопрос обсуждался только предварительно, на коллегию не выносился. Так что предлагаю снять его с повестки дня и отложить до поры до времени. У меня есть другие, более подходящие кандидаты на эту должность, а Беку необязательно знать, что обсуждалась его кандидатура, и ему не будет обидно. Ну как?
— Правильно, — сказал Мальм. — Это разумное решение.
Начальник ЦПУ встал и открыл дверь: Мальм тотчас сорвался с места.
— Вот именно, — заключил начальник ЦПУ, затворяя за ним дверь. — Весьма разумное решение.
Когда слух о том, что повышение отменяется, через два часа дошел до Мартина Бека, он, в виде исключения, вынужден был согласиться с начальником ЦПУ.
Решение и впрямь было на редкость разумным.
Филип Трезор Мауритсон ходил взад и вперед по камере.
Ему не сиделось на месте, и мысли его тоже не знали покоя. Правда, со временем они сильно упростились и теперь свелись всего к нескольким вопросам.
Что, собственно, произошло?
Как это могло получиться?
Он тщетно доискивался ответа.
Дежурные наблюдатели уже докладывали о нем тюремному психиатру. На следующей неделе они собирались обратиться еще и к священнику.
Мауритсон все требовал, чтобы ему чтото объяснили. А священник — мастак объяснять, пусть попробует.
Заключенный лежал неподвижно на нарах во мраке. Ему не спалось.
Он думал.
Что же случилось, черт побери?
Как все это вышло?
Кто-то должен знать ответ.
Кто?
К. Арне Блом
КТО-ТО ДАЕТ СДАЧИ
Перевод Н. Федоровой
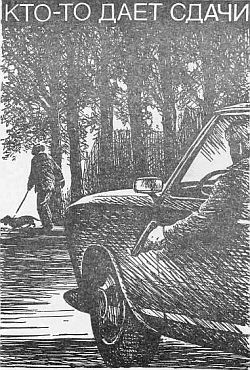
Этот роман — заключительная часть трилогии о современном шведском студенчестве. Действующие лица вымышлены, но обстановка вполне реальна. За одним исключением: в Лунде нет улицы под названием Судденс-вег. В книге же это одна из многих улиц в большом районе, где все, так или иначе, связано со студенческой жизнью.
Автор
ПРОЛОГ
В
предшествующий вторник
Ехать на машине в такую погоду просто нелепо. Поэтому он отправился домой пешком.
Было половина шестого. День выдался хлопотный, с работы он ушел последним.
Теперь, полной грудью вдыхая весенний воздух, он слушал птичье щебетанье.
Вечер, похоже, будет чудесный — теплый, тихий.
Как хорошо посумерничать в саду. Может, поужинать нынче в беседке? Кофе выпить, а то и по бокальчику пунша. Да, хорошо бы.
А ведь он вовсе не хотел с ним встречаться.
Так и есть. Конечно.
Конечно, он тоже узнал его.
Два разных мира всегда замечают друг друга. Вот именно: два разных мира.
Он пересек улицу и направился к нему.
Сейчас они…
Разумеется. Теперь это неизбежно.
Внезапно он оборвал разговор, сказав, что продолжать его нет смысла, круто повернулся и зашагал прочь, к дому.
Собеседник проводил его взглядом, и в голове у него зародилась некая мысль.
В следующий вторник
Он сделал глубокую затяжку. Сигарета была докурена почти до конца и обжигала губы. Он чувствовал боль; но окурок не бросал.
Рука не дрожала.
На коленях лежал пистолет.
Он глубоко вздохнул. Вздох перешел в зевок.
Зачем он надел шляпу? Самому странно. Ведь такая теплынь… Он зашагал по улице, а собака продолжала рваться с поводка.
— Хочешь побегать? — тихонько спросил он. Такса ответила умильным взглядом.
Он нагнулся и отстегнул поводок.
Словно в благодарность, собака приглушенно тявкнула и припустила к столбу.
Ни дать ни взять сарделька с лапками, улыбнулся он.
— Сарделька… — вполголоса, ласково сказал он, глядя ей вслед.
И стал наблюдать за приземистой фигурой в шляпе.
Потер подбородок, чувствуя, что каждый нерв напрягся в ожидании.
Однако он был спокоен. Совершенно спокоен.
Взял пистолет в левую руку и свесил ее из окна машины. Надо выждать.
Сейчас он пойдет сюда, мелькнуло в мозгу.
Все его мысли были сосредоточены на человеке в шляпе, который нагнулся, отстегивая поводок.
Как же он его ненавидит!
Человек медленно двинулся следом за бегущей вприскочку таксой.
Уже скоро, думал он.
И поднял руку с пистолетом.
Человек в шляпе шел теперь по мостовой. Вот он миновал уличный фонарь, а затем четко обозначился метрах в двадцати от машины.
Рука не дрожала.
Он целился в голову.
Но вечер и правда был хороший.
Вот ведь дьявольщина, надо же было влипнуть в эту историю. За столько лет, пожалуй, впервые угодил в такую скверную переделку. Если б хоть кто незнакомый, еще куда ни шло. Но теперь… А газетчики? Эти-то о чем думают? Им подавай результат, ясное дело… К тому же спешка. Спешка и погоня за результатом. Черт!.. Вот только… Дознание… ну то, что было на днях… Когда же, черт побери, оно состоялось?..
Уже ничего, не сознавая, он сделал два шага вперед и тяжело упал на асфальт лицом вниз.
Когда щека его коснулась мостовой, он уже погрузился в долгий сон без сновидений.
Потом быстро втянул руку в машину, сунул было пистолет в карман, но передумал и положил его рядом, на сиденье.
Повернул ключ зажигания, отпустил ручной тормоз и, включив первую скорость, не спеша покатил прочь.
Руки не дрожали.
Чтобы не задеть колесом тело на мостовой, пришлось въехать на тротуар.
Страшно хотелось курить.
Шляпа откатилась в сторону.
Из раны в затылке толчками лилась кровь. Впрочем, ее было немного.
Такса осторожно обнюхала хозяина, поняла: что-то случилось. И тревожно заскулила.
Лизнула безвольную руку на асфальте.
Испугалась и громко тявкнула.
Потом уселась рядом, задрала морду и начала выть. Казалось, она плачет.
Вой не утихал, не прекращался, и, приподняв жалюзи, она выглянула в окно.
На первый взгляд ничего особенного: улица как улица.
Затем она посмотрела направо и увидела на асфальте темную фигуру, а секунду спустя до нее дошло — она выпустила из рук жалюзи и бросилась к двери. Замок, как нарочно, заело, но наконец она справилась с ним и выскочила наружу. Побежала к распростертому на земле человеку, к нему.
Впопыхах потеряла туфлю.
Остановилась рядом, посмотрела. И только теперь закричала. Громко, истерично. Она увидела кровь.
Светила луна. Вызвездило. Тихий, мягкий вечер, совсем неподходящий, чтобы стрелять в людей.
В тот день
В 1972 году тридцатое апреля пришлось на воскресенье.
На площади Тегнерплатс перед зданием Федерации студенческих организаций, там, где стоит памятник Эсай-асу Тегнёру, [17]собрались студенты, чтобы встретить весну.
Председатель корпорации — он был уже чуточку навеселе — произнес речь.
Студенческие песни.
Студенческие шапочки.
Все вокруг дышало весенней свежестью и надеждой.
Торжества во славу весны начались с рассветом. Громкие голоса, музыка, веселье — словом, пир горой. Рекой лилось спиртное.
Но, по мнению полиции, праздник выдался спокойный. Хотя в Федерации и в ресторане «Оке Ханс» не обошлось без драк. И ограбления были: в квартирах, клубах, магазинах — оттуда исчезли стереопроигрыватели, телевизоры, сигареты, вино, деньги. Кроме того, из гаражей угнали несколько машин.
В знак протеста против войны во Вьетнаме, против ЕЭС и империализма по улицам прошли демонстранты Красного Фронта.
С оркестром, флагами и транспарантами проследовали в городской парк колонны социал-демократов. Они тоже протестовали против вьетнамской войны. И вышли на митинг в полном составе.
На университетской площади собралось больше двух тысяч человек. Все ждали, когда появится ректор.
А солнце сияло. Почти совсем по-летнему.
Сначала он обрушился на левых. Потом поделился опасениями насчет рескрипта «Р-68» и его возможных последствий.
Полицейские Мартинссон и Русён, стоя чуть в стороне, обливались потом в своих черных мундирах.
Русен пытался слушать речь, но Мартинссон без умолку бубнил над ухом, подробно расписывая, как он провел последний апрельский день. Русен молчал, стараясь по мере сил слушать и его и оратора. Голоса сливались в один.
— «Р-68», в частности, приведет к усилению… Я и не предполагал, что она вправду приедет. Но ты ведь знаешь, что такое теща… ориентации на рынок труда и жесткому… когда мы ее приглашали, то думали, что у нее хватит ума… ограничению количества учащихся. А ведь это все равно, что решать проблемы… Только хлопала глазами, когда я открыл дверь, и протянула… которых нет… здоровенный букетище… На первый взгляд, разработанные меры вполне отвечают Syxy… ну, я стиснул зубы и взял его… семидесятых годов, а между тем не решаются проблемы сегодняшнего дня. Стоит ли решать проблему безработицы частично и только для… В общем-то, жена у меня вовсе… выпускников университета… не Дура… Такое решение приведет к росту безработицы среди других… Так или иначе, мы сели за стол и… групп населения. Работодатели явно не желают предоставлять… Сконский «аквавит», пиво, водочка к селедке… выпускникам рабочие места, занятые представителями… да, четыре сорта селедки… других категорий населения. Нужно искать совершенно новые пути… Пришлось помочь, наполнить рюмки… решения проблемы безработицы… Закемарила уже после второй рюмашки… среди студентов. Безработица — следствие… Осенью ей стукнет шестьдесят шесть, она малость сектантка… повышенного притока… А потом, когда мы перешли к цыпленку и собирались пить вино, я думал, она откажется, но где там…
Русен сдался.
— Давай пройдемся? — предложил он.
— …и сразу начала икать… Что?
— Давай, говорю, пройдемся.
— Что ж, пошли.
— Ох, и жарища сегодня, прямо пекло, — торопливо сказал Русен, а то ведь Мартинссон — не дай бог! — опять заведет про свою занудливую сектантку тещу, которая, по всему видать, к утру изрядно наклюкалась. А на столе она случайно не плясала? Русен оглянулся по сторонам — Спокойное нынче будет Первое мая.
— Ага, — согласился Мартинссон, потирая нос. — Не то, что год-другой назад.
— Н-да…
— Началось вроде в шестьдесят восьмом? Так, что ли?
— Точно. В юбилей университета.
— И пошло… то призывники митингуют…
— То дома занимают…
— То разные демонстрации устраивают, черт их разберет какие.
— Угу.
— Не-ет, нынче поспокойнее.
Мартинссон остановился и прислушался к голосу, несущемуся из громкоговорителя.
— Никак, теперь ректор говорит? — спросил он, по всей видимости забыв о теще.
— Да, кажись, он.
— …Некоторые полагают, что университеты — это средство политической борьбы, и в экстремальных случаях намереваются использовать их как орудие, которое поможет, например, сокрушить капитализм. Я не вижу необходимости высказываться о целях такого рода деятельности, а вот что касается средств…
Слова, слова, слова, думал Русен, испытывая полное безразличие ко всему, что относится к университету. В его представлении и студенты и университет были связаны исключительно с неприятностями: политикой и демонстрациями.
Это был совершенно особый мир, с которым он соприкасался, только когда надо было охранять приезжающих с визитом послов, надзирать за демонстрантами и очищать занятые дома.
То ли дело раньше! Старослужащие рассказывают, что студенты в ту пору отличались безобидностью и если устраивали проказы, то такие, на которые можно было смотреть сквозь пальцы. Тихо, спокойно. Чуть ли не весело. По-студенчески задорно. Подвыпивший студент куда лучше левого — так они считали. К тогдашнему студенту можно было проявлять снисходительность и терпение. А вот нынешний слишком уж серьезен. Мало того, верит во все, за что борется.
Волей-неволей голова кругом пойдет.
До смеху ли тут.
— …улучшить положение студентов на рынке труда, — гремел динамик. — Когда критика становится чересчур громогласной и доходит до крайности, существует опасность, что не только у ближайшего окружения, но и у широкой общественности возникнет совершенно ложное представление, будто сегодняшние студенты стоят в обществе особняком и требуют для себя как для элиты особых привилегий.
Вдруг к весеннему небу взмыла песня. Она смешалась с первой зеленью, со студенческими шапочками и знаменами. Поднялась в голубую высь, к солнцу, струящему мягкое тепло. Песня слилась с жизнью.
Мелодия была старая, всем хорошо знакомая.
Зато слова заставили кое-кого испуганно вздрогнуть. Но мало-помалу люди заулыбались и начали пересмеиваться.
— Вот какие нынче слова у студенческих песен, — заметил Мартинссон.
Русен потер нос и буркнул:
— Н-да…
1
Апрель еще не кончился, целая неделя впереди, а весна давно вступила в свои права.Ехать на машине в такую погоду просто нелепо. Поэтому он отправился домой пешком.
Было половина шестого. День выдался хлопотный, с работы он ушел последним.
Теперь, полной грудью вдыхая весенний воздух, он слушал птичье щебетанье.
Вечер, похоже, будет чудесный — теплый, тихий.
Как хорошо посумерничать в саду. Может, поужинать нынче в беседке? Кофе выпить, а то и по бокальчику пунша. Да, хорошо бы.
2
Он заметил его на Эстра-Вальгатан. И тотчас узнал. Вон, идет навстречу, правда, по другой стороне улицы. Узнать легко: на нем толстое пальто. Слишком теплое для такой погожей, солнечной весны. Слишком теплое.А ведь он вовсе не хотел с ним встречаться.
3
Мог просто пойти своей дорогой, не подавая виду, что узнал его. Если только он не…Так и есть. Конечно.
Конечно, он тоже узнал его.
Два разных мира всегда замечают друг друга. Вот именно: два разных мира.
Он пересек улицу и направился к нему.
Сейчас они…
Разумеется. Теперь это неизбежно.
4
Говорили они недолго, но весьма недружелюбно.Внезапно он оборвал разговор, сказав, что продолжать его нет смысла, круто повернулся и зашагал прочь, к дому.
Собеседник проводил его взглядом, и в голове у него зародилась некая мысль.
В следующий вторник
1
Тихий, по-весеннему теплый майский вечер.Он сделал глубокую затяжку. Сигарета была докурена почти до конца и обжигала губы. Он чувствовал боль; но окурок не бросал.
Рука не дрожала.
На коленях лежал пистолет.
2
Было около половины одиннадцатого, входную дверь уже заперли на ключ. Такса натягивала поводок: невтерпеж было пристроиться у столбика. Она давно облюбовала для своих делишек столб с почтовым ящиком.Он глубоко вздохнул. Вздох перешел в зевок.
Зачем он надел шляпу? Самому странно. Ведь такая теплынь… Он зашагал по улице, а собака продолжала рваться с поводка.
— Хочешь побегать? — тихонько спросил он. Такса ответила умильным взглядом.
Он нагнулся и отстегнул поводок.
Словно в благодарность, собака приглушенно тявкнула и припустила к столбу.
Ни дать ни взять сарделька с лапками, улыбнулся он.
— Сарделька… — вполголоса, ласково сказал он, глядя ей вслед.
3
Ну, наконец-то, подумал он, заметив таксу у столба с почтовым ящиком.И стал наблюдать за приземистой фигурой в шляпе.
Потер подбородок, чувствуя, что каждый нерв напрягся в ожидании.
Однако он был спокоен. Совершенно спокоен.
Взял пистолет в левую руку и свесил ее из окна машины. Надо выждать.
Сейчас он пойдет сюда, мелькнуло в мозгу.
Все его мысли были сосредоточены на человеке в шляпе, который нагнулся, отстегивая поводок.
Как же он его ненавидит!
Человек медленно двинулся следом за бегущей вприскочку таксой.
Уже скоро, думал он.
И поднял руку с пистолетом.
Человек в шляпе шел теперь по мостовой. Вот он миновал уличный фонарь, а затем четко обозначился метрах в двадцати от машины.
Рука не дрожала.
Он целился в голову.
4
Хороший нынче вечер, ни с того ни с сего подумал он.Но вечер и правда был хороший.
Вот ведь дьявольщина, надо же было влипнуть в эту историю. За столько лет, пожалуй, впервые угодил в такую скверную переделку. Если б хоть кто незнакомый, еще куда ни шло. Но теперь… А газетчики? Эти-то о чем думают? Им подавай результат, ясное дело… К тому же спешка. Спешка и погоня за результатом. Черт!.. Вот только… Дознание… ну то, что было на днях… Когда же, черт побери, оно состоялось?..
5
Пора, решил он. И спустил курок.6
Он не понял, что ударило его в затылок. Просто ощутил толчок, резкий толчок, от которого перехватило дыхание. И вот все вокруг словно исчезло, стерлось: время, пространство, мысль.Уже ничего, не сознавая, он сделал два шага вперед и тяжело упал на асфальт лицом вниз.
Когда щека его коснулась мостовой, он уже погрузился в долгий сон без сновидений.
7
Он взглянул на упавшего.Потом быстро втянул руку в машину, сунул было пистолет в карман, но передумал и положил его рядом, на сиденье.
Повернул ключ зажигания, отпустил ручной тормоз и, включив первую скорость, не спеша покатил прочь.
Руки не дрожали.
Чтобы не задеть колесом тело на мостовой, пришлось въехать на тротуар.
Страшно хотелось курить.
8
Она слышала выстрел, но вслед за тем донесся шум автомобильного котора, и она решила, что это грохнул выхлоп.9
Человек неподвижно лежал на земле.Шляпа откатилась в сторону.
Из раны в затылке толчками лилась кровь. Впрочем, ее было немного.
Такса осторожно обнюхала хозяина, поняла: что-то случилось. И тревожно заскулила.
Лизнула безвольную руку на асфальте.
Испугалась и громко тявкнула.
Потом уселась рядом, задрала морду и начала выть. Казалось, она плачет.
10
Что это собака развылась? — подумала она. Странно. В чем там дело?Вой не утихал, не прекращался, и, приподняв жалюзи, она выглянула в окно.
На первый взгляд ничего особенного: улица как улица.
Затем она посмотрела направо и увидела на асфальте темную фигуру, а секунду спустя до нее дошло — она выпустила из рук жалюзи и бросилась к двери. Замок, как нарочно, заело, но наконец она справилась с ним и выскочила наружу. Побежала к распростертому на земле человеку, к нему.
Впопыхах потеряла туфлю.
Остановилась рядом, посмотрела. И только теперь закричала. Громко, истерично. Она увидела кровь.
11
Теплый майский вечер. Полнолуние. Полицию вызвал мужчина из дома напротив. Он услышал крик.12
Вечером во вторник, второго мая 1972 года, патрульная машина, включив мигалку и завывая сиреной, на полной скорости мчалась по улицам Лунда к Судденс-вег, где на мостовой лежал раненый. Было двадцать два часа сорок три минуты.Светила луна. Вызвездило. Тихий, мягкий вечер, совсем неподходящий, чтобы стрелять в людей.
В тот день
1
Праздник весны в Лунде проводят в последний день апреля.В 1972 году тридцатое апреля пришлось на воскресенье.
На площади Тегнерплатс перед зданием Федерации студенческих организаций, там, где стоит памятник Эсай-асу Тегнёру, [17]собрались студенты, чтобы встретить весну.
Председатель корпорации — он был уже чуточку навеселе — произнес речь.
Студенческие песни.
Студенческие шапочки.
Все вокруг дышало весенней свежестью и надеждой.
Торжества во славу весны начались с рассветом. Громкие голоса, музыка, веселье — словом, пир горой. Рекой лилось спиртное.
Но, по мнению полиции, праздник выдался спокойный. Хотя в Федерации и в ресторане «Оке Ханс» не обошлось без драк. И ограбления были: в квартирах, клубах, магазинах — оттуда исчезли стереопроигрыватели, телевизоры, сигареты, вино, деньги. Кроме того, из гаражей угнали несколько машин.
2
А в понедельник, если не считать, что многие мучились похмельем, все пошло своим чередом.В знак протеста против войны во Вьетнаме, против ЕЭС и империализма по улицам прошли демонстранты Красного Фронта.
С оркестром, флагами и транспарантами проследовали в городской парк колонны социал-демократов. Они тоже протестовали против вьетнамской войны. И вышли на митинг в полном составе.
На университетской площади собралось больше двух тысяч человек. Все ждали, когда появится ректор.
А солнце сияло. Почти совсем по-летнему.
3
Председатель студенческой корпорации обратился к ректору с речью, которую, кстати говоря, сочинил не сам.Сначала он обрушился на левых. Потом поделился опасениями насчет рескрипта «Р-68» и его возможных последствий.
Полицейские Мартинссон и Русён, стоя чуть в стороне, обливались потом в своих черных мундирах.
Русен пытался слушать речь, но Мартинссон без умолку бубнил над ухом, подробно расписывая, как он провел последний апрельский день. Русен молчал, стараясь по мере сил слушать и его и оратора. Голоса сливались в один.
— «Р-68», в частности, приведет к усилению… Я и не предполагал, что она вправду приедет. Но ты ведь знаешь, что такое теща… ориентации на рынок труда и жесткому… когда мы ее приглашали, то думали, что у нее хватит ума… ограничению количества учащихся. А ведь это все равно, что решать проблемы… Только хлопала глазами, когда я открыл дверь, и протянула… которых нет… здоровенный букетище… На первый взгляд, разработанные меры вполне отвечают Syxy… ну, я стиснул зубы и взял его… семидесятых годов, а между тем не решаются проблемы сегодняшнего дня. Стоит ли решать проблему безработицы частично и только для… В общем-то, жена у меня вовсе… выпускников университета… не Дура… Такое решение приведет к росту безработицы среди других… Так или иначе, мы сели за стол и… групп населения. Работодатели явно не желают предоставлять… Сконский «аквавит», пиво, водочка к селедке… выпускникам рабочие места, занятые представителями… да, четыре сорта селедки… других категорий населения. Нужно искать совершенно новые пути… Пришлось помочь, наполнить рюмки… решения проблемы безработицы… Закемарила уже после второй рюмашки… среди студентов. Безработица — следствие… Осенью ей стукнет шестьдесят шесть, она малость сектантка… повышенного притока… А потом, когда мы перешли к цыпленку и собирались пить вино, я думал, она откажется, но где там…
Русен сдался.
— Давай пройдемся? — предложил он.
— …и сразу начала икать… Что?
— Давай, говорю, пройдемся.
— Что ж, пошли.
— Ох, и жарища сегодня, прямо пекло, — торопливо сказал Русен, а то ведь Мартинссон — не дай бог! — опять заведет про свою занудливую сектантку тещу, которая, по всему видать, к утру изрядно наклюкалась. А на столе она случайно не плясала? Русен оглянулся по сторонам — Спокойное нынче будет Первое мая.
— Ага, — согласился Мартинссон, потирая нос. — Не то, что год-другой назад.
— Н-да…
— Началось вроде в шестьдесят восьмом? Так, что ли?
— Точно. В юбилей университета.
— И пошло… то призывники митингуют…
— То дома занимают…
— То разные демонстрации устраивают, черт их разберет какие.
— Угу.
— Не-ет, нынче поспокойнее.
Мартинссон остановился и прислушался к голосу, несущемуся из громкоговорителя.
— Никак, теперь ректор говорит? — спросил он, по всей видимости забыв о теще.
— Да, кажись, он.
— …Некоторые полагают, что университеты — это средство политической борьбы, и в экстремальных случаях намереваются использовать их как орудие, которое поможет, например, сокрушить капитализм. Я не вижу необходимости высказываться о целях такого рода деятельности, а вот что касается средств…
Слова, слова, слова, думал Русен, испытывая полное безразличие ко всему, что относится к университету. В его представлении и студенты и университет были связаны исключительно с неприятностями: политикой и демонстрациями.
Это был совершенно особый мир, с которым он соприкасался, только когда надо было охранять приезжающих с визитом послов, надзирать за демонстрантами и очищать занятые дома.
То ли дело раньше! Старослужащие рассказывают, что студенты в ту пору отличались безобидностью и если устраивали проказы, то такие, на которые можно было смотреть сквозь пальцы. Тихо, спокойно. Чуть ли не весело. По-студенчески задорно. Подвыпивший студент куда лучше левого — так они считали. К тогдашнему студенту можно было проявлять снисходительность и терпение. А вот нынешний слишком уж серьезен. Мало того, верит во все, за что борется.
Волей-неволей голова кругом пойдет.
До смеху ли тут.
— …улучшить положение студентов на рынке труда, — гремел динамик. — Когда критика становится чересчур громогласной и доходит до крайности, существует опасность, что не только у ближайшего окружения, но и у широкой общественности возникнет совершенно ложное представление, будто сегодняшние студенты стоят в обществе особняком и требуют для себя как для элиты особых привилегий.
4
Что ж, звучит разумно, решил Русен, хотя слышал только конец речи.Вдруг к весеннему небу взмыла песня. Она смешалась с первой зеленью, со студенческими шапочками и знаменами. Поднялась в голубую высь, к солнцу, струящему мягкое тепло. Песня слилась с жизнью.
Мелодия была старая, всем хорошо знакомая.
Зато слова заставили кое-кого испуганно вздрогнуть. Но мало-помалу люди заулыбались и начали пересмеиваться.
Споем о счастливых былых временах —
отцы наши радостно жили.
А ты, хоть и молод, кругом в долгах,
седой от забот и унылый.
Сулили нам много, да только давно
отправлено все в долгий ящик.
Но в сердце пока надежда жива:
с дипломом в кармане к конвейеру станем!
Пусть Управление рынком труда
деньжонок подкинет и нас переучит,
и нас переучит, да!
— Вот какие нынче слова у студенческих песен, — заметил Мартинссон.
Русен потер нос и буркнул:
— Н-да…
5
А когда на город опустился вечер, прогремел выстрел.
Глава первая
1
Второго мая, во вторник, все они порядком вымотались.Кто — они?
Комиссар уголовной полиции Бенгт Турен. — Человек вспыльчивый, он нередко срывал злость на тех, кто его раздражал. Турен курил трубку, но умеренно, в юности с неплохим результатом бегал на восемьсот метров. Правда, это было в тридцатые годы, а сейчас ему уже сравнялся пятьдесят один. Ростом он невысок. В каштановых волосах заметна легкая проседь. Кустистые брови, толстая нижняя губа. На лице зачастую лежит печать усталости, и в глаза прежде всего бросается длинный нос, похожий на клюв хищной птицы. Лоб пересечен шрамом. Руки большие, с толстыми пальцами, покрытыми темным пушком. Телосложение худощавое.
Инспектор уголовной полиции Севед Улофссон (отдел по борьбе с особо опасными преступлениями). — Обозначившееся брюшко досаждало больше его жене, Буэль, нежели ему самому. Лоб выпуклый, светлые волосы аккуратно зачесаны назад. С давних пор он приобрел скверную привычку ежеминутно облизывать тонкие губы. Уши слегка оттопыренные, лицо продолговатое, овальное. И вообще он весь длинный: рост приблизительно метр девяносто. Осенью ему стукнет сорок, и он гадал, подарит ему жена тот замшевый пиджак, который он присмотрел, или нет. Дело в том, что по части одежды Севед был немножко сноб. Во-первых, он обожал наряжаться, во-вторых, работать, в-третьих, мастерить авиамодели. А в-четвертых, любил поесть.
