Страница:
Задребезжал дверной звонок.
— Вст вы где. — На пороге стоял начальник полиции.
— Да…
— Я почти все знаю. Ты, Севед, рассказал мне по телефону, а на улице я встретил Густафссона. Ничего нового?
— Да нет… Разве что мелочи, о которых я, может быть, не упомянул по телефону.
— А именно?
— Сперва застрелили Эрика Фрома, и в связи с этим убийством всплыл некий легковой «вольво-седан сто сорок четыре». Теперь кто-то стрелял в Бенгта, и опять здесь видели «вольво-седан сто сорок четыре».
— Ах ты черт! — присвистнул НП. — Ах ты, черт! Опять… Та же машина. Интересно.
— Не правда ли? Чертовски любопытное совпадение. Новый звонок в дверь. Врач. Его проводили к Соне.
— Она вам что-нибудь рассказала? — спросил НП.
— Если бы… С ней сейчас не поговоришь.
— Надо бы съездить в больницу, — предложил Хольм берг.
— Вот и поезжайте, а я побуду здесь.
Садясь в машину, Севед ощупал карманы пиджака.
— Черт побери!
— Что случилось?
— Ключи. Они у Буэль.
Он вылез и пошел за ключами. А Хольмберг закурил очередную сигарету — сорок шестую за этот день. Вообще-то он их не считал, но горло давало знать, что он здорово перехватил.
К машине подошел полицейский. Это был Русен.
— Как там дела? Я имею в виду — с вдовой…
— С вдовой? Надеюсь, она еще не вдова.
Русен что-то смущенно промямлил, потом выпалил:
— Это уж слишком! Стрелять в сотрудника полиции! И в кого — в Турена! —И задумчиво добавил: — Озвереть можно.
— Что верно, то верно. Озвереешь…
— Впору самому палить направо и налево. Хольмберг взглянул на него:
— Уж мы доберемся до того гада, который это сделал. И ему не поздоровится. Будь уверен.
— Да… Я бы своими руками…
Улофссон открыл дверцу, сел за руль и включил зажигание.
— Своими руками… — повторил Русен вслед автомобилю.
Глава шестая
Вокруг царила полнейшая неразбериха, но они едва обратили на это внимание.
Люди с обычными приступами аппендицита и язвы, с порезами, вывихами, переломами, заворотом кишок, жертвы отравлений и внезапных недомоганий, астматики, незадачливые самоубийцы и все новые и новые пострадавшие в катастрофе на шоссе.
И Хольмбергом, и Улофссоном владело одно-единственное чувство: ненависть к человеку, стрелявшему в Бенгта Турена. А раненый Турен проходил сейчас рентгеновское обследование.
Потому-то они хладнокровно, с полным самообладанием шагали по коридору к лифтам, не слыша криков и плача, не видя крови. Рваные раны, изувеченные лица, переломанные ноги. Ожоги. Стоны. Ужас смерти. Судорожные хрипы продавленных грудных клеток. Искромсанные тела.
Сестры в белом, забрызганные кровью. Врачи тоже в белом и тоже в крови, с взлохмаченными волосами, в резиновых перчатках. Бутыли с консервированной кровью для переливаний. Носилки на пути в операционную.
Кровь на полу. Безвольные руки, свешивающиеся из-под белых простынь. Конвульсивные дерганья измученных тел.
Длинный-длинный светлый коридор. Желтые стены. И, наконец, стеклянная дверь. В лифт и наверх.
Рентгеновское отделение. Теперь остается только ждать.
Они стали ждать.
Прошел час.
Самый долгий час за всю их полицейскую службу.
Между тем на рентген поступали все новые жертвы катастрофы. Те, кого еще не просвечивали, кого не отвезли сразу в операционную или в морг.
Хольмберг вышел покурить в туалет: усталая, издерганная сестра сказала, что в приемной курить нельзя.
Он чувствовал себя школьником, который украдкой дымит в туалете. Совсем как в детстве, когда в школах еще не разрешали курить.
— Около часа.
— Правда? А, по-моему, гораздо дольше.
— Гм…
Он ничуть не устал.
Тридцатого апреля он не спал вообще. Прилег только без четверти два ночью первого мая. А в полседьмого уже встал, потому что Ингер захныкала. Черстин поменяла ей пеленки.
Но он совсем проснулся и никак не мог заснуть опять. Странное дело, спать совершенно не хотелось, как бывает после небольшой выпивки. А вечером — тревога. Лег поздно и проспал всего-навсего час с четвертью. Час… нет, полтора часа сна сегодня.
В общей сложности он проспал семь с половиной часов, если считать с восьми утра в понедельник до нынешнего вечера. Почти за трое суток только семь с половиной часов сна.
Теперь уже среда.
И все-таки он не чувствовал усталости.
Удивительно. Ведь что ни говори, он переутомился.
Он взглянул на Севеда.
Тот уставился в стену, и, казалось, что-то лихорадочно перебирал в памяти.
— О чем ты думаешь?
— А? — Улофссон вздрогнул.
— О чем думаешь?
— Да так… размышляю… — Он медленно потер подбородок, ощутил под пальцами колючую щетину и поморщился. — Над совпадениями. Сперва Фром… автомобиль плюс выстрел. Потом Бенгт, и опять автомобиль плюс выстрел. Уж не обнаружим ли мы еще одну пластмассовую пулю?..
— Но почему? Ты можешь понять, почему кто-то вздумал застрелить Фрома, а потом Бенгта? Ведь при таких совпадениях напрашивается вывод, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. Хотя стопроцентной уверенности, конечно, нет… Но предположим, что это так. Что преступник один и тот же. Где связь? Скажи мне. Где связь?
— Думаю, если мы найдем связь, то и преступника сцапаем… Только не спрашивай, где эту связь искать. Я сам теряюсь в догадках.
— Ты можешь с ходу, не задумываясь, вспомнить кого-нибудь, у кого были причины мстить Бенгту?
Улофссон покачал головой.
— Нет. Я и об этом думал. Но тогда при чем тут Фром? — Он рывком встал. — Черт! До чего ж неудобные диваны! — Диваны представляли собой скамейки с почти вертикальной спинкой. — Поясницу ломит, — объяснил Севед.
Он подошел к окну, прижался лбом к прохладному стеклу и стал смотреть на темную улицу.
Хольмберг проводил его взглядом, медленно поднялся и тоже шагнул к окну. Стал рядом, бездумно глядя в ночь.
— Слушай, — сказал Улофссон после тягостной, но недолгой паузы.
— А?
— Когда поймаем этого мерзавца…
Хольмберг и сам толком не понял, с какой стати его вдруг захлестнуло теплое чувство к приземистому, хмурому, желчному и сварливому комиссару, заполучившему вчера маленькую дырочку в затылок.
Что это — отцовские чувства?
Может быть…
Или дух товарищества? Сознание, что преступник поднял руку не на какую-то отдельную личность, а на целый коллектив. Что всякая личность есть символ профессионального коллектива, и что каждый символ имеет свою ценность и с точки зрения коллектива свят и неприкосновенен.
Или все дело в том, что на месте Бенгта мог с таким же успехом оказаться он сам?
Может, дело в этом? Что он сам… с таким же успехом…
Ему доводилось читать статистику. За четыре года при исполнении служебных обязанностей погибли шесть сотрудников полиции. Около девятисот в течение года получили увечья.
Читал он и о способах нападения: удары ногой — по икрам, по кадыку, в грудь, в лицо, в пах, в живот; головой — в живот, в лицо; кулаком — в лицо, по губам, в глаза, в грудь, в пах; укусы; попытки удушения; выкручивание рук; тычки пальцами в глаза.
И об орудиях нападения тоже читал: резиновая дубинка, бутылка, нож, обрезок металлической трубы.
В первую очередь доставалось тем, кто носил мундир, тем, кто патрулировал улицы, тем, у кого низкое жалованье, — они сталкивались с населением, на них и нападали.
Но смертельный исход был все же редкостью.
Большей частью несколько дней на бюллетене. Иногда — месяц-другой. И уж совсем в исключительных случаях — пенсия по инвалидности.
…Подобные происшествия снова и снова рождали в нем ощущение, будто чья-то холодная как лед рука сжимает и выкручивает нутро.
Когда он слышал или читал о тех, кого постигло несчастье…
С таким же успехом это мог быть и я, думалось ему.
Но если бы при исполнении служебных обязанностей его вдруг…
Кошмарный сон, ужас. Засада. Хладнокровно рассчитанная. Запланированная.
Вот как сейчас…
От этого пробуждался дух товарищества. Чувство локтя.
Которое усиливалось и обострялось.
И от этого же рождалась ненависть.
Причем ненависть не только к преступнику. Но скрытая ненависть к любому из подозреваемых.
Нужен виновный. Главное, чтобы был кто-то виновный… Жажда мести… Злоба. Ненависть. Дать сдачи…
Горечь, печаль, неуверенность… Ненависть и жажда мести стали защитной реакцией.
— Да, — сказал он. — Когда мы поймаем этого мерзавца…
Он не сознавал, как долго медлил с ответом.
— Черт! — Улофссон треснул кулаком по стене. — Черт! Он был мужик что надо. В полиции таких еще поискать. Иногда злющий, несносный, и работать с ним — взвоешь! Совершенно несносный в худшие свои дни… Но… я его ценил. Потому что мужик был отличный. Не юлил никогда… он был… что надо.
— Он есть… — тихо поправил Хольмберг.
— Я доктор Андерссон.
— Хольмберг. А это инспектор Улофссон. Белый халат кивнул.
— Ну, как там? — спросил Улофссон. Доктор Андерссон посмотрел на него.
— Он жив. Пока жив. И это странно, ведь с чисто медицинской точки зрения он должен был умереть. После такого ранения.
Улофссон ощутил, как отлегло от сердца, а Хольмберг опустился на диван: голова закружилась. Но тотчас же встал.
— Пуля вошла в самый центр затылка, — сказал врач. — Но что-то тут не то. Во-первых, черепную кость не разнесло на куски, а ведь при таком попадании это было бы вполне естественно. Входное отверстие невелико, я предполагаю, калибр девять миллиметров. Обычная пуля такого диаметра прошла бы навылет, оставив на выходе дыру размером с кулак. Но… рентгеновские снимки показывают нечто странное. Разумеется, пока рано делать окончательный или почти окончательный вывод, однако место, где застряла пуля, выглядит на снимке легким затемнением. Не исключено, конечно, что пуля окружена воздухом, и все-таки я бы осмелился утверждать, что речь идет о…
— Холостом патроне?
Врач взглянул на Улофссона.
— Но каким же образом…
— Было у нас такое подозрение… до некоторой степени.
— Вот оно что! Да… смею почти наверняка утверждать, что мы имеем дело с холостым патроном, то есть с пластмассовой пулей.
— Можно на нее посмотреть? Вы сумеете извлечь ее так, чтобы мы могли убедиться своими глазами? Только вы, конечно, еще не успели ее достать?
— Нет.
— А когда? Сегодня?
— Не знаю.
— Что?!
— Я не могу взять на себя такую ответственность. Риск слишком велик.
— Но в чем же дело?
— Она вошла вот здесь. — Врач прикоснулся к своему затылку, показывая, где именно. — На ощупь нижняя часть затылка мягкая, кость начинается чуть выше.
В этот-то стык и угодила пуля. Он… Кстати, кто он та кой?
— Бенгт Турен. Комиссар уголовной полиции.
— Вот это да! — У врача отвисла челюсть. В самом прямом смысле.
— Вы что же, не знали? — удивился Хольмберг.
— Нет. Не знал. Мне сказали только — срочное обследование. В больнице все вверх дном, сами видите. Катастрофа на шоссе…
— Да, катастрофа… И все же? Что с Бенгтом? Как он?
— Пуля вошла в мозг тут, на уровне ушей… сзади. — Он похлопал себя по затылку. — Здесь находится гипоталамус. Погодите. — Врач вытащил из кармана листок бумаги и сделал набросок. — Итак, заштрихованная область — это гипоталамус. Здесь, в так называемом центральном отделе мозга, расположены жизненно важные центры. Пока они исправны, человек остается человеком. В частности, именно этот участок управляет бодрствованием и сном. Насколько я могу сейчас судить…
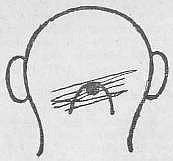
Он умолк, потер подбородок.
Ни Хольмберг, ни Улофссон его не торопили.
— Трудно, когда не можешь сказать ничего определенного, но, все же, основываясь на результатах осмотра раны и рентгеновских снимках, я склонен допустить, что… скажем, центр бодрствования весьма серьезно поврежден, а может быть, даже полностью выведен из строя.
— То есть? — деревянным голосом произнес Улофссон.
— То есть он будет находиться в коматозном состоянии вплоть до конца.
— Как долго… это… протянется? Врач едва заметно покачал головой.
— Не имею ни малейшего представления. Сколь угодно долго. А впрочем, может быть, я ошибаюсь. Запомните: может быть. Повреждения необязательно опасны для жизни. Просто, насколько я могу судить, ему уже давно полагалось умереть.
— Но разве нельзя его оперировать? — спросил Хольмберг.
— Если задет мозговой центр, то… — Врач развел руками.
Они поняли.
— Но пока ничего еще не решено.
Обратно, на Мортенс-Фелад и Судденс-вег.
Улофссон тронул дверь — не заперто.
Оба чувствовали безграничную усталость, апатию, словно из них выпустили воздух, и вместе с тем им очень хотелось что-то предпринять.
Поймать виновного — вот что целиком занимало их мысли.
Поймать преступника — вот что еще имело значение.
Буэль они нашли в кухне Туренов.
— Соня спит, — сказала она. — Ей дали успокоительное и сделали укол снотворного.
Глаза у Буэль были красные: не то от слез, не то от недосыпу. И выглядела она маленькой и усталой.
Плакала, что ли? — размышлял Севед. Из-за Бенгта? Из-за Сони? Или из-за того, что на месте Турена мог оказаться он сам? Едва ли он когда-нибудь узнает, о чем она плакала.
— Ну, как он? — тихо спросила Буэль.
— Жив. Во всяком случае, пока. Только… Все очень сложно и запутанно. Я потом объясню. Но, — Севед покачал головой, — похоже, он вряд ли выкарабкается.
Хольмберг тяжело вздохнул и почувствовал, что страшно хочет спать.
Во рту какой-то мерзкий привкус, и в горле скребет, когда глотаешь. Все вокруг подернулось красноватой дымкой и подозрительно качалось.
Крайнее переутомление…
— Где НП? — спросил он.
— В управление уехал.
— Он ничего не говорил? Ну, на случай, если задержится там?
— Говорил. Велел вам ехать к нему. Который час?
— Пять минут третьего.
— Я останусь здесь, — решительно объявила Буэль.
— Ладно, — согласился Севед.
— А ты где будешь ночевать?
— Он ляжет у нас на диване, — распорядился Хольмберг. — И вообще, если мы хотим завтра быть в форме, нечего всю ночь мыкаться. Заночуешь у нас.
— Хорошо. Но ведь тебе утром на работу, Буэль. Как же ты пойдешь?
— Позвоню и объясню, что произошло. В случае чего возьму выходной.
— О'кей. Только бы все уладилось.
— Да уж. Ну, поезжайте.
— Интересно, выключили мы перед уходом свет? — тщетно вспоминал он.
Хольмберг даже не удостоил его взглядом.
— Я имею в виду… счет за электричество…
— Да брось ты, в конце-то концов!
— Я тут посидел, подумал, — сказал НП, — все взвесил и пришел к выводу, что одним нам не справиться.
— Угу, — машинально буркнул Улофссон.
— Поэтому я запросил помощь из Стокгольма. Завтра Центральное управление пришлет своего сотрудника.
— Кого же?
— Пока неизвестно. Между прочим, еще вчера вечером, когда убили Фрома, я предлагал обратиться за помощью. Ведь дело очень серьезное. А теперь и подавно. Но Бенгт вчера отказался.
— Позавчера.
— Что?
— Сегодня среда.
— Да-да, конечно. Верно. Но как я уже говорил, он отказался. Полагаю, из местного патриотизма. Если б он не возражал, может, нынче вечером ничего бы не случилось.
— Какой, черт побери, смысл об этом говорить, — сказал Хольмберг и мысленно послал к дьяволу и начальника полиции, и стрелков из-за угла, и Центральное управление, и себя самого.
Глава седьмая
Прилетел из Стокгольма, первым же рейсом. На аэродроме Бультофта его встретили и отвезли в управление.
Звали его Эмиль Удин, и уже через час все пришли к выводу, что работать с ним — сущее наказание.
— Послушай, — заикнулся, было Хольмберг.
— А? Сигарету? Подымить охота? Держи! — Удин протянул бело-голубую пачку.
Хольмберг машинально взял сигарету, прикурил, затянулся и жутко раскашлялся. Так раскашлялся, что даже побагровел.
— Что… это… кх!.. за черто… кх-кх!.. вы сига…
— А что? Не нравятся? Будь я проклят. Испанские. «Дукадос».
— Ну… кх-кх!
— Гм… по-моему, вполне на уровне. Только привыкнуть надо.
Он легонько ткнул Хольмберга в живот и захохотал.
— Ах… вот как, — протянул Хольмберг.
— Во-во! Понимаешь, брат у меня летчик. Он-то и покупает мне сигареты, tax-free. [22]Сам-то не курит. А я на них напал случайно, несколько лет назад, когда отдыхал в Испании.
— Извини. Одну минуту, — сказал Хольмберг, вышел из комнаты и заглянул к Улофссону, который сидел, массируя затылок.
— Ну и диван у тебя… Я, конечно, может, и спал, но шея прямо вся онемела. Что это с тобой?
— Он дурак. Черт меня побери, он дурак.
— Что-что? Кто дурак? Начальник полиции?
— Нет, Удин. И мелет, и мелет, не закрывая рта. А сигареты какие курит — господи, спаси и помилуй! И через слово «будь я проклят». Через слово.
— Да. Веселенькое дельце.
— Куда уж веселей. Пошли ко мне, а? Один я с ним не выдержу.
— Ладно. Все равно скоро совещание. — Улофссон вышел из-за стола, и оба направились к двери.
— Это Севед Улофссон, — сказал Хольмберг. — Хотя вы ведь уже встречались.
— А как же. Ты, между прочим, здорово похож на моего брата, — заметил Удин.
Хольмберг посмотрел на него.
— На летчика?
— Нет, на другого. Он в Стокгольме живет и тоже, как я, работает в полиции.
Эмилю Удину уже сравнялось сорок семь. Роста он был среднего — метр семьдесят. Рыжие волосы, крупный нос, пышные усы.
Одет он был в клетчатый пиджак и узенькие брюки-дудочки, на ногах — сандалии.
По слухам, он в своем деле корифей. Во всяком случае, так говорили стокгольмцы.
В Лунде же решили, что он не слишком умен.
В среду к вечеру об этом знало почти все управление. И сотрудники искали повод, чтобы хоть одним глазком посмотреть на сие чудо природы.
Совещание началось после обеда.
НП, Улофссон и Хольмберг ознакомили Удина с ситуацией.
— Ясно, — сказал он, — вот, значит, как обстоит дело. Да-а, я и говорю. История запутанная, ничего не скажешь. Что ж, раз на то пошло, принимаю, как говорится, командование…
— Ну и отлично, — сказал НП.
— Да-а, — продолжал Удин. — Посмотрим, что тут можно сделать. Придется здорово покорпеть, дотошно изучить все возможности, без предубеждения, как говорится. У этого вашего Турена не было любовницы?
Вопрос хлестнул их, как пощечина.
НП залился краской и, помолчав, ответил:
— Я лично понятия не имею.
— Вот как? Что ж, охотно верю. Он ведь, небось, не трубил об этом на каждом углу.
— Простите, но мне сдается, что мы ни с того ни с сего бросаемся по весьма и весьма сомнительному следу, — заметил Улофссон.
— Что ты имеешь в виду?
— Ничего особенного. Просто мы располагаем несколькими очевидными фактами и рядом странных точек соприкосновения. Зачем же копаться в личной жизни Бенгта?
— Да, — вставил Хольмберг. — Именно.
— Но я не это хотел сказать.
— А что же, черт возьми?
— Я имел в виду, что насчет Бенгта… позволю себе называть его Бенгтом, для простоты, как говорится. Потолковать надо насчет Бенгта, вот что. Я подумал, если у него есть любовница, то можно бы выспросить ее, поговорить с ней. Ведь вы не представляете, женатые мужчины болтают с любовницами о таких вещах, о каких при жене и не заикаются. Вдруг он сказал ей что-то очень важное с точки зрения поимки преступника.
Все молчали.
Черт возьми, думал Хольмберг, малый-то прав.
— Разве я не прав?
— Да, прав, — согласился Хольмберг.
— Ну? Так как, была у него приятельница? Будем называть ее так, потому что слово «любовница» в нынешних обстоятельствах звучит, пожалуй, грубовато.
— Нет, — сказал Улофссон. — Ясудить не берусь.
— Я тоже, — сказал Хольмберг. — Не знаю. Но думаю, вряд ли. Староват он для этого.
— Нет, парень. Нет. Возраст, если хочешь знать, только добавляет пикантности.
Час спустя решительно все заподозрили в Эмиле Удине ясновидца.
Трубку снял Хольмберг.
— Добрый день, — услышал он женский голос. — Кто у телефона?
— Ассистент уголовной полиции Хольмберг.
— Добрый день. Мне ужасно неловко, но… Мое имя Сольвейг Флорён, и…
Голос смолк.
— Да? — сказал Хольмберг.
В трубке откашлялись и продолжали:
— Мне очень неловко вас беспокоить. Я знаю, у вас и без того забот хватает, но… Я знала Бенгта… Турена… комиссара. Вот и подумала, вдруг вы мне поможете.
Хольмберг вздохнул.
— А в чем дело?
— Я только что звонила в больницу, выясняла, как он там. Ведь в газете было написано, что состояние критическое и неопределенное… а мне хотелось знать точнее… Я спросила, нельзя ли его навестить, и они сказали, что он до сих пор без сознания и что к нему пускают только жену и сотрудников полиции. А я… мне бы так хотелось… повидать его… если можно.
— Гм… И по какой же причине, если не секрет?
— Почему секрет. Мы были знакомы… если можно так выразиться…
— Знакомы… И близко?
— Да. Пожалуй, что так.
— Очень близко?
— Да…
— Кажется, начинаю понимать…
Сольвейг Флорен молчала, а в памяти Хольмберга сверкнул вопрос Удина насчет того, была ли у Бенгта любовница.
— Но его жена наверняка в больнице, и вам, видимо, не очень удобно появляться там, — начал Хольмберг.
— Однако…
— …если вы понимаете, что я имею в виду.
— Разве нельзя устроить так, чтобы я зашла в ее отсутствие?
— Он для вас много значил… то есть, значит?
— Да.
— Оставьте мне свой телефон, я выясню, можно ли это устроить, и позвоню.
— Правда? Позвоните? Спасибо. Это ужасно любезно с вашей стороны.
Он записал номер.
— Вы себе не представляете, как это для меня важно… ваша помощь, — докончила она.
Он рассказал Удину о разговоре.
— Будь я проклят! Ну, что я говорил?!
— Гм… да. Что будем делать?
— Пусть она его навестит. Звякни в больницу и узнай, там ли его жена. Если нет, действуй. Кроме того, можно воспользоваться случаем и побеседовать с этой дамой. Как говорится, убьем сразу двух зайцев.
Хольмберг чувствовал себя едва ли не сводником, когда звонил в больницу и выяснял, там ли Соня Турен.
Ее не было.
В половине третьего он встретился с Сольвейг Флорен в центральном вестибюле большого больничного блока.
Он никогда прежде не видел ее, но узнал сразу, как только она появилась на пороге, — она очень хорошо себя описала.
Высокая блондинка, с виду усталая.
Все устали, подумал Хольмберг.
Держалась она очень прямо; пышный бюст, судя по всему, не сковывали никакие бюстгальтеры. Одета по молодежной моде: красные расклешенные брюки и черный жакет.
Лет тридцать пять, предположил Хольмберг и подумал: похоже, она из тех женщин, которых с годами все больше и больше охватывает страх, что молодость уходит.
— Сольвейг Флорен?
— Да. Это я.
— В таком случае поднимемся наверх?
— Да. И… спасибо, что все устроили… Он вежливо улыбнулся:
— Пойдемте.
Комиссар лежал в темной одноместной палате: покуда он в таком состоянии, необходимо постоянное наблюдение и тщательный уход. Как долго это будет тянуться, никто не знал.
Увидев Турена, она прямо задохнулась. В лице комиссара не было ни кровинки, грудь судорожно поднималась и опускалась. Из носу торчала резиновая трубка, присоединенная к пластиковому мешку, внутри которого что-то неприятно желтело. Голова скрыта под белой повязкой, а сбоку на койке висел еще один пластиковый мешок с резиновым шлангом, уходящим под одеяло. Турен лежал на боку.
— Вст вы где. — На пороге стоял начальник полиции.
— Да…
— Я почти все знаю. Ты, Севед, рассказал мне по телефону, а на улице я встретил Густафссона. Ничего нового?
— Да нет… Разве что мелочи, о которых я, может быть, не упомянул по телефону.
— А именно?
— Сперва застрелили Эрика Фрома, и в связи с этим убийством всплыл некий легковой «вольво-седан сто сорок четыре». Теперь кто-то стрелял в Бенгта, и опять здесь видели «вольво-седан сто сорок четыре».
— Ах ты черт! — присвистнул НП. — Ах ты, черт! Опять… Та же машина. Интересно.
— Не правда ли? Чертовски любопытное совпадение. Новый звонок в дверь. Врач. Его проводили к Соне.
— Она вам что-нибудь рассказала? — спросил НП.
— Если бы… С ней сейчас не поговоришь.
— Надо бы съездить в больницу, — предложил Хольм берг.
— Вот и поезжайте, а я побуду здесь.
Садясь в машину, Севед ощупал карманы пиджака.
— Черт побери!
— Что случилось?
— Ключи. Они у Буэль.
Он вылез и пошел за ключами. А Хольмберг закурил очередную сигарету — сорок шестую за этот день. Вообще-то он их не считал, но горло давало знать, что он здорово перехватил.
К машине подошел полицейский. Это был Русен.
— Как там дела? Я имею в виду — с вдовой…
— С вдовой? Надеюсь, она еще не вдова.
Русен что-то смущенно промямлил, потом выпалил:
— Это уж слишком! Стрелять в сотрудника полиции! И в кого — в Турена! —И задумчиво добавил: — Озвереть можно.
— Что верно, то верно. Озвереешь…
— Впору самому палить направо и налево. Хольмберг взглянул на него:
— Уж мы доберемся до того гада, который это сделал. И ему не поздоровится. Будь уверен.
— Да… Я бы своими руками…
Улофссон открыл дверцу, сел за руль и включил зажигание.
— Своими руками… — повторил Русен вслед автомобилю.
Глава шестая
1
Из приемной их направили в рентгеновское отделение.Вокруг царила полнейшая неразбериха, но они едва обратили на это внимание.
Люди с обычными приступами аппендицита и язвы, с порезами, вывихами, переломами, заворотом кишок, жертвы отравлений и внезапных недомоганий, астматики, незадачливые самоубийцы и все новые и новые пострадавшие в катастрофе на шоссе.
И Хольмбергом, и Улофссоном владело одно-единственное чувство: ненависть к человеку, стрелявшему в Бенгта Турена. А раненый Турен проходил сейчас рентгеновское обследование.
Потому-то они хладнокровно, с полным самообладанием шагали по коридору к лифтам, не слыша криков и плача, не видя крови. Рваные раны, изувеченные лица, переломанные ноги. Ожоги. Стоны. Ужас смерти. Судорожные хрипы продавленных грудных клеток. Искромсанные тела.
Сестры в белом, забрызганные кровью. Врачи тоже в белом и тоже в крови, с взлохмаченными волосами, в резиновых перчатках. Бутыли с консервированной кровью для переливаний. Носилки на пути в операционную.
Кровь на полу. Безвольные руки, свешивающиеся из-под белых простынь. Конвульсивные дерганья измученных тел.
Длинный-длинный светлый коридор. Желтые стены. И, наконец, стеклянная дверь. В лифт и наверх.
Рентгеновское отделение. Теперь остается только ждать.
2
— Пока не знаю, — сказала медсестра. — Осмотр еще не закончен. Садитесь и ждите. Доктор выйдет и все вам расскажет.Они стали ждать.
Прошел час.
Самый долгий час за всю их полицейскую службу.
Между тем на рентген поступали все новые жертвы катастрофы. Те, кого еще не просвечивали, кого не отвезли сразу в операционную или в морг.
Хольмберг вышел покурить в туалет: усталая, издерганная сестра сказала, что в приемной курить нельзя.
Он чувствовал себя школьником, который украдкой дымит в туалете. Совсем как в детстве, когда в школах еще не разрешали курить.
3
— Сколько мы ждем? — наконец спросил Улофссон. Хольмберг взглянул на часы. Прикинул.— Около часа.
— Правда? А, по-моему, гораздо дольше.
— Гм…
Он ничуть не устал.
Тридцатого апреля он не спал вообще. Прилег только без четверти два ночью первого мая. А в полседьмого уже встал, потому что Ингер захныкала. Черстин поменяла ей пеленки.
Но он совсем проснулся и никак не мог заснуть опять. Странное дело, спать совершенно не хотелось, как бывает после небольшой выпивки. А вечером — тревога. Лег поздно и проспал всего-навсего час с четвертью. Час… нет, полтора часа сна сегодня.
В общей сложности он проспал семь с половиной часов, если считать с восьми утра в понедельник до нынешнего вечера. Почти за трое суток только семь с половиной часов сна.
Теперь уже среда.
И все-таки он не чувствовал усталости.
Удивительно. Ведь что ни говори, он переутомился.
Он взглянул на Севеда.
Тот уставился в стену, и, казалось, что-то лихорадочно перебирал в памяти.
— О чем ты думаешь?
— А? — Улофссон вздрогнул.
— О чем думаешь?
— Да так… размышляю… — Он медленно потер подбородок, ощутил под пальцами колючую щетину и поморщился. — Над совпадениями. Сперва Фром… автомобиль плюс выстрел. Потом Бенгт, и опять автомобиль плюс выстрел. Уж не обнаружим ли мы еще одну пластмассовую пулю?..
— Но почему? Ты можешь понять, почему кто-то вздумал застрелить Фрома, а потом Бенгта? Ведь при таких совпадениях напрашивается вывод, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. Хотя стопроцентной уверенности, конечно, нет… Но предположим, что это так. Что преступник один и тот же. Где связь? Скажи мне. Где связь?
— Думаю, если мы найдем связь, то и преступника сцапаем… Только не спрашивай, где эту связь искать. Я сам теряюсь в догадках.
— Ты можешь с ходу, не задумываясь, вспомнить кого-нибудь, у кого были причины мстить Бенгту?
Улофссон покачал головой.
— Нет. Я и об этом думал. Но тогда при чем тут Фром? — Он рывком встал. — Черт! До чего ж неудобные диваны! — Диваны представляли собой скамейки с почти вертикальной спинкой. — Поясницу ломит, — объяснил Севед.
Он подошел к окну, прижался лбом к прохладному стеклу и стал смотреть на темную улицу.
Хольмберг проводил его взглядом, медленно поднялся и тоже шагнул к окну. Стал рядом, бездумно глядя в ночь.
— Слушай, — сказал Улофссон после тягостной, но недолгой паузы.
— А?
— Когда поймаем этого мерзавца…
Хольмберг и сам толком не понял, с какой стати его вдруг захлестнуло теплое чувство к приземистому, хмурому, желчному и сварливому комиссару, заполучившему вчера маленькую дырочку в затылок.
Что это — отцовские чувства?
Может быть…
Или дух товарищества? Сознание, что преступник поднял руку не на какую-то отдельную личность, а на целый коллектив. Что всякая личность есть символ профессионального коллектива, и что каждый символ имеет свою ценность и с точки зрения коллектива свят и неприкосновенен.
Или все дело в том, что на месте Бенгта мог с таким же успехом оказаться он сам?
Может, дело в этом? Что он сам… с таким же успехом…
Ему доводилось читать статистику. За четыре года при исполнении служебных обязанностей погибли шесть сотрудников полиции. Около девятисот в течение года получили увечья.
Читал он и о способах нападения: удары ногой — по икрам, по кадыку, в грудь, в лицо, в пах, в живот; головой — в живот, в лицо; кулаком — в лицо, по губам, в глаза, в грудь, в пах; укусы; попытки удушения; выкручивание рук; тычки пальцами в глаза.
И об орудиях нападения тоже читал: резиновая дубинка, бутылка, нож, обрезок металлической трубы.
В первую очередь доставалось тем, кто носил мундир, тем, кто патрулировал улицы, тем, у кого низкое жалованье, — они сталкивались с населением, на них и нападали.
Но смертельный исход был все же редкостью.
Большей частью несколько дней на бюллетене. Иногда — месяц-другой. И уж совсем в исключительных случаях — пенсия по инвалидности.
…Подобные происшествия снова и снова рождали в нем ощущение, будто чья-то холодная как лед рука сжимает и выкручивает нутро.
Когда он слышал или читал о тех, кого постигло несчастье…
С таким же успехом это мог быть и я, думалось ему.
Но если бы при исполнении служебных обязанностей его вдруг…
Кошмарный сон, ужас. Засада. Хладнокровно рассчитанная. Запланированная.
Вот как сейчас…
От этого пробуждался дух товарищества. Чувство локтя.
Которое усиливалось и обострялось.
И от этого же рождалась ненависть.
Причем ненависть не только к преступнику. Но скрытая ненависть к любому из подозреваемых.
Нужен виновный. Главное, чтобы был кто-то виновный… Жажда мести… Злоба. Ненависть. Дать сдачи…
Горечь, печаль, неуверенность… Ненависть и жажда мести стали защитной реакцией.
— Да, — сказал он. — Когда мы поймаем этого мерзавца…
Он не сознавал, как долго медлил с ответом.
— Черт! — Улофссон треснул кулаком по стене. — Черт! Он был мужик что надо. В полиции таких еще поискать. Иногда злющий, несносный, и работать с ним — взвоешь! Совершенно несносный в худшие свои дни… Но… я его ценил. Потому что мужик был отличный. Не юлил никогда… он был… что надо.
— Он есть… — тихо поправил Хольмберг.
4
В двенадцать минут второго дверь отворилась, и человек в белом халате направился к ним.— Я доктор Андерссон.
— Хольмберг. А это инспектор Улофссон. Белый халат кивнул.
— Ну, как там? — спросил Улофссон. Доктор Андерссон посмотрел на него.
— Он жив. Пока жив. И это странно, ведь с чисто медицинской точки зрения он должен был умереть. После такого ранения.
Улофссон ощутил, как отлегло от сердца, а Хольмберг опустился на диван: голова закружилась. Но тотчас же встал.
— Пуля вошла в самый центр затылка, — сказал врач. — Но что-то тут не то. Во-первых, черепную кость не разнесло на куски, а ведь при таком попадании это было бы вполне естественно. Входное отверстие невелико, я предполагаю, калибр девять миллиметров. Обычная пуля такого диаметра прошла бы навылет, оставив на выходе дыру размером с кулак. Но… рентгеновские снимки показывают нечто странное. Разумеется, пока рано делать окончательный или почти окончательный вывод, однако место, где застряла пуля, выглядит на снимке легким затемнением. Не исключено, конечно, что пуля окружена воздухом, и все-таки я бы осмелился утверждать, что речь идет о…
— Холостом патроне?
Врач взглянул на Улофссона.
— Но каким же образом…
— Было у нас такое подозрение… до некоторой степени.
— Вот оно что! Да… смею почти наверняка утверждать, что мы имеем дело с холостым патроном, то есть с пластмассовой пулей.
— Можно на нее посмотреть? Вы сумеете извлечь ее так, чтобы мы могли убедиться своими глазами? Только вы, конечно, еще не успели ее достать?
— Нет.
— А когда? Сегодня?
— Не знаю.
— Что?!
— Я не могу взять на себя такую ответственность. Риск слишком велик.
— Но в чем же дело?
— Она вошла вот здесь. — Врач прикоснулся к своему затылку, показывая, где именно. — На ощупь нижняя часть затылка мягкая, кость начинается чуть выше.
В этот-то стык и угодила пуля. Он… Кстати, кто он та кой?
— Бенгт Турен. Комиссар уголовной полиции.
— Вот это да! — У врача отвисла челюсть. В самом прямом смысле.
— Вы что же, не знали? — удивился Хольмберг.
— Нет. Не знал. Мне сказали только — срочное обследование. В больнице все вверх дном, сами видите. Катастрофа на шоссе…
— Да, катастрофа… И все же? Что с Бенгтом? Как он?
— Пуля вошла в мозг тут, на уровне ушей… сзади. — Он похлопал себя по затылку. — Здесь находится гипоталамус. Погодите. — Врач вытащил из кармана листок бумаги и сделал набросок. — Итак, заштрихованная область — это гипоталамус. Здесь, в так называемом центральном отделе мозга, расположены жизненно важные центры. Пока они исправны, человек остается человеком. В частности, именно этот участок управляет бодрствованием и сном. Насколько я могу сейчас судить…
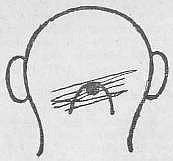
Он умолк, потер подбородок.
Ни Хольмберг, ни Улофссон его не торопили.
— Трудно, когда не можешь сказать ничего определенного, но, все же, основываясь на результатах осмотра раны и рентгеновских снимках, я склонен допустить, что… скажем, центр бодрствования весьма серьезно поврежден, а может быть, даже полностью выведен из строя.
— То есть? — деревянным голосом произнес Улофссон.
— То есть он будет находиться в коматозном состоянии вплоть до конца.
— Как долго… это… протянется? Врач едва заметно покачал головой.
— Не имею ни малейшего представления. Сколь угодно долго. А впрочем, может быть, я ошибаюсь. Запомните: может быть. Повреждения необязательно опасны для жизни. Просто, насколько я могу судить, ему уже давно полагалось умереть.
— Но разве нельзя его оперировать? — спросил Хольмберг.
— Если задет мозговой центр, то… — Врач развел руками.
Они поняли.
— Но пока ничего еще не решено.
5
Казалось, ночи не будет конца.Обратно, на Мортенс-Фелад и Судденс-вег.
Улофссон тронул дверь — не заперто.
Оба чувствовали безграничную усталость, апатию, словно из них выпустили воздух, и вместе с тем им очень хотелось что-то предпринять.
Поймать виновного — вот что целиком занимало их мысли.
Поймать преступника — вот что еще имело значение.
Буэль они нашли в кухне Туренов.
— Соня спит, — сказала она. — Ей дали успокоительное и сделали укол снотворного.
Глаза у Буэль были красные: не то от слез, не то от недосыпу. И выглядела она маленькой и усталой.
Плакала, что ли? — размышлял Севед. Из-за Бенгта? Из-за Сони? Или из-за того, что на месте Турена мог оказаться он сам? Едва ли он когда-нибудь узнает, о чем она плакала.
— Ну, как он? — тихо спросила Буэль.
— Жив. Во всяком случае, пока. Только… Все очень сложно и запутанно. Я потом объясню. Но, — Севед покачал головой, — похоже, он вряд ли выкарабкается.
Хольмберг тяжело вздохнул и почувствовал, что страшно хочет спать.
Во рту какой-то мерзкий привкус, и в горле скребет, когда глотаешь. Все вокруг подернулось красноватой дымкой и подозрительно качалось.
Крайнее переутомление…
— Где НП? — спросил он.
— В управление уехал.
— Он ничего не говорил? Ну, на случай, если задержится там?
— Говорил. Велел вам ехать к нему. Который час?
— Пять минут третьего.
— Я останусь здесь, — решительно объявила Буэль.
— Ладно, — согласился Севед.
— А ты где будешь ночевать?
— Он ляжет у нас на диване, — распорядился Хольмберг. — И вообще, если мы хотим завтра быть в форме, нечего всю ночь мыкаться. Заночуешь у нас.
— Хорошо. Но ведь тебе утром на работу, Буэль. Как же ты пойдешь?
— Позвоню и объясню, что произошло. В случае чего возьму выходной.
— О'кей. Только бы все уладилось.
— Да уж. Ну, поезжайте.
6
Севед Улофссон сел за руль, и машина покатила тихими, пустынными улицами ночного Лунда.— Интересно, выключили мы перед уходом свет? — тщетно вспоминал он.
Хольмберг даже не удостоил его взглядом.
— Я имею в виду… счет за электричество…
— Да брось ты, в конце-то концов!
7
В кабинете начальника полиции их угостили кофе. Дежурный по управлению сам вызвался сварить. Кофе получился не бог весть какой, но приятно сознавать, что о тебе заботятся.— Я тут посидел, подумал, — сказал НП, — все взвесил и пришел к выводу, что одним нам не справиться.
— Угу, — машинально буркнул Улофссон.
— Поэтому я запросил помощь из Стокгольма. Завтра Центральное управление пришлет своего сотрудника.
— Кого же?
— Пока неизвестно. Между прочим, еще вчера вечером, когда убили Фрома, я предлагал обратиться за помощью. Ведь дело очень серьезное. А теперь и подавно. Но Бенгт вчера отказался.
— Позавчера.
— Что?
— Сегодня среда.
— Да-да, конечно. Верно. Но как я уже говорил, он отказался. Полагаю, из местного патриотизма. Если б он не возражал, может, нынче вечером ничего бы не случилось.
— Какой, черт побери, смысл об этом говорить, — сказал Хольмберг и мысленно послал к дьяволу и начальника полиции, и стрелков из-за угла, и Центральное управление, и себя самого.
Глава седьмая
1
Обещанный сотрудник прибыл утром.Прилетел из Стокгольма, первым же рейсом. На аэродроме Бультофта его встретили и отвезли в управление.
Звали его Эмиль Удин, и уже через час все пришли к выводу, что работать с ним — сущее наказание.
2
Никто его за язык не тянул, он сам начал: — Честно говоря, лучше бы я стал адвокатом. Но ты ведь знаешь, как оно бывает… Будь япроклят! В школе учился с прохладцей, лень заела, и результат не замедлил сказаться. Отстал и провалился на экзамене. С треском. Потом отцу приспичило сделать из меня военного, раз уж я и в реалке сел в лужу. Но тут я встал на дыбы. Подался в полицейское училище — все лучше. Так я думал в ту пору и, будь я проклят, думаю до сих пор. Эх! Если б я тогда соображал, не сновал бы теперь по всей стране, выручая провинциальную полицию, а имел бы собственную контору, с хорошей мебелью, с секретаршей… Может, даже коллег, совладельцев адвокатской фирмы… и богатых клиентов… дамочек в мехах и прочая. И сидел бы себе в «Оперном погребке» вместе с Хеннингом Шёстрёмом… Да… мужа моей сестры надо видеть. Он-то адвокат и зарабатывает, скажу я тебе, ого-го!— Послушай, — заикнулся, было Хольмберг.
— А? Сигарету? Подымить охота? Держи! — Удин протянул бело-голубую пачку.
Хольмберг машинально взял сигарету, прикурил, затянулся и жутко раскашлялся. Так раскашлялся, что даже побагровел.
— Что… это… кх!.. за черто… кх-кх!.. вы сига…
— А что? Не нравятся? Будь я проклят. Испанские. «Дукадос».
— Ну… кх-кх!
— Гм… по-моему, вполне на уровне. Только привыкнуть надо.
Он легонько ткнул Хольмберга в живот и захохотал.
— Ах… вот как, — протянул Хольмберг.
— Во-во! Понимаешь, брат у меня летчик. Он-то и покупает мне сигареты, tax-free. [22]Сам-то не курит. А я на них напал случайно, несколько лет назад, когда отдыхал в Испании.
— Извини. Одну минуту, — сказал Хольмберг, вышел из комнаты и заглянул к Улофссону, который сидел, массируя затылок.
— Ну и диван у тебя… Я, конечно, может, и спал, но шея прямо вся онемела. Что это с тобой?
— Он дурак. Черт меня побери, он дурак.
— Что-что? Кто дурак? Начальник полиции?
— Нет, Удин. И мелет, и мелет, не закрывая рта. А сигареты какие курит — господи, спаси и помилуй! И через слово «будь я проклят». Через слово.
— Да. Веселенькое дельце.
— Куда уж веселей. Пошли ко мне, а? Один я с ним не выдержу.
— Ладно. Все равно скоро совещание. — Улофссон вышел из-за стола, и оба направились к двери.
— Это Севед Улофссон, — сказал Хольмберг. — Хотя вы ведь уже встречались.
— А как же. Ты, между прочим, здорово похож на моего брата, — заметил Удин.
Хольмберг посмотрел на него.
— На летчика?
— Нет, на другого. Он в Стокгольме живет и тоже, как я, работает в полиции.
3
Эмилю Удину уже сравнялось сорок семь. Роста он был среднего — метр семьдесят. Рыжие волосы, крупный нос, пышные усы.
Одет он был в клетчатый пиджак и узенькие брюки-дудочки, на ногах — сандалии.
По слухам, он в своем деле корифей. Во всяком случае, так говорили стокгольмцы.
В Лунде же решили, что он не слишком умен.
4
В среду к вечеру об этом знало почти все управление. И сотрудники искали повод, чтобы хоть одним глазком посмотреть на сие чудо природы.
Совещание началось после обеда.
НП, Улофссон и Хольмберг ознакомили Удина с ситуацией.
— Ясно, — сказал он, — вот, значит, как обстоит дело. Да-а, я и говорю. История запутанная, ничего не скажешь. Что ж, раз на то пошло, принимаю, как говорится, командование…
— Ну и отлично, — сказал НП.
— Да-а, — продолжал Удин. — Посмотрим, что тут можно сделать. Придется здорово покорпеть, дотошно изучить все возможности, без предубеждения, как говорится. У этого вашего Турена не было любовницы?
Вопрос хлестнул их, как пощечина.
НП залился краской и, помолчав, ответил:
— Я лично понятия не имею.
— Вот как? Что ж, охотно верю. Он ведь, небось, не трубил об этом на каждом углу.
— Простите, но мне сдается, что мы ни с того ни с сего бросаемся по весьма и весьма сомнительному следу, — заметил Улофссон.
— Что ты имеешь в виду?
— Ничего особенного. Просто мы располагаем несколькими очевидными фактами и рядом странных точек соприкосновения. Зачем же копаться в личной жизни Бенгта?
— Да, — вставил Хольмберг. — Именно.
— Но я не это хотел сказать.
— А что же, черт возьми?
— Я имел в виду, что насчет Бенгта… позволю себе называть его Бенгтом, для простоты, как говорится. Потолковать надо насчет Бенгта, вот что. Я подумал, если у него есть любовница, то можно бы выспросить ее, поговорить с ней. Ведь вы не представляете, женатые мужчины болтают с любовницами о таких вещах, о каких при жене и не заикаются. Вдруг он сказал ей что-то очень важное с точки зрения поимки преступника.
Все молчали.
Черт возьми, думал Хольмберг, малый-то прав.
— Разве я не прав?
— Да, прав, — согласился Хольмберг.
— Ну? Так как, была у него приятельница? Будем называть ее так, потому что слово «любовница» в нынешних обстоятельствах звучит, пожалуй, грубовато.
— Нет, — сказал Улофссон. — Ясудить не берусь.
— Я тоже, — сказал Хольмберг. — Не знаю. Но думаю, вряд ли. Староват он для этого.
— Нет, парень. Нет. Возраст, если хочешь знать, только добавляет пикантности.
5
Час спустя решительно все заподозрили в Эмиле Удине ясновидца.
Трубку снял Хольмберг.
— Добрый день, — услышал он женский голос. — Кто у телефона?
— Ассистент уголовной полиции Хольмберг.
— Добрый день. Мне ужасно неловко, но… Мое имя Сольвейг Флорён, и…
Голос смолк.
— Да? — сказал Хольмберг.
В трубке откашлялись и продолжали:
— Мне очень неловко вас беспокоить. Я знаю, у вас и без того забот хватает, но… Я знала Бенгта… Турена… комиссара. Вот и подумала, вдруг вы мне поможете.
Хольмберг вздохнул.
— А в чем дело?
— Я только что звонила в больницу, выясняла, как он там. Ведь в газете было написано, что состояние критическое и неопределенное… а мне хотелось знать точнее… Я спросила, нельзя ли его навестить, и они сказали, что он до сих пор без сознания и что к нему пускают только жену и сотрудников полиции. А я… мне бы так хотелось… повидать его… если можно.
— Гм… И по какой же причине, если не секрет?
— Почему секрет. Мы были знакомы… если можно так выразиться…
— Знакомы… И близко?
— Да. Пожалуй, что так.
— Очень близко?
— Да…
— Кажется, начинаю понимать…
Сольвейг Флорен молчала, а в памяти Хольмберга сверкнул вопрос Удина насчет того, была ли у Бенгта любовница.
— Но его жена наверняка в больнице, и вам, видимо, не очень удобно появляться там, — начал Хольмберг.
— Однако…
— …если вы понимаете, что я имею в виду.
— Разве нельзя устроить так, чтобы я зашла в ее отсутствие?
— Он для вас много значил… то есть, значит?
— Да.
— Оставьте мне свой телефон, я выясню, можно ли это устроить, и позвоню.
— Правда? Позвоните? Спасибо. Это ужасно любезно с вашей стороны.
Он записал номер.
— Вы себе не представляете, как это для меня важно… ваша помощь, — докончила она.
Он рассказал Удину о разговоре.
— Будь я проклят! Ну, что я говорил?!
— Гм… да. Что будем делать?
— Пусть она его навестит. Звякни в больницу и узнай, там ли его жена. Если нет, действуй. Кроме того, можно воспользоваться случаем и побеседовать с этой дамой. Как говорится, убьем сразу двух зайцев.
6
Хольмберг чувствовал себя едва ли не сводником, когда звонил в больницу и выяснял, там ли Соня Турен.
Ее не было.
В половине третьего он встретился с Сольвейг Флорен в центральном вестибюле большого больничного блока.
Он никогда прежде не видел ее, но узнал сразу, как только она появилась на пороге, — она очень хорошо себя описала.
Высокая блондинка, с виду усталая.
Все устали, подумал Хольмберг.
Держалась она очень прямо; пышный бюст, судя по всему, не сковывали никакие бюстгальтеры. Одета по молодежной моде: красные расклешенные брюки и черный жакет.
Лет тридцать пять, предположил Хольмберг и подумал: похоже, она из тех женщин, которых с годами все больше и больше охватывает страх, что молодость уходит.
— Сольвейг Флорен?
— Да. Это я.
— В таком случае поднимемся наверх?
— Да. И… спасибо, что все устроили… Он вежливо улыбнулся:
— Пойдемте.
Комиссар лежал в темной одноместной палате: покуда он в таком состоянии, необходимо постоянное наблюдение и тщательный уход. Как долго это будет тянуться, никто не знал.
Увидев Турена, она прямо задохнулась. В лице комиссара не было ни кровинки, грудь судорожно поднималась и опускалась. Из носу торчала резиновая трубка, присоединенная к пластиковому мешку, внутри которого что-то неприятно желтело. Голова скрыта под белой повязкой, а сбоку на койке висел еще один пластиковый мешок с резиновым шлангом, уходящим под одеяло. Турен лежал на боку.
