Страница:
— Да ты что?!
— Парню здорово досталось. Если не ошибаюсь, перелом бедра и сильные ожоги. Машина полыхала, сгорела почти целиком. Кроме того, у него пробит череп.
— Значит, он в больнице…
От волнения Хольмберг расплескал кофе.
— Да, как я слышал, он без сознания, хотя это было несколько дней назад… Почему я об этом вспомнил… понимаешь, с ним там возник целый ряд проблем.
— Вот как?
— Видишь ли, мы не сумели найти его родственников. Единственный адрес, который был при нем, — это адрес некоего пансиона. Мы проверили и выяснили, что он действительно два месяца жил там, но хозяева понятия не имеют, есть у него родные или нет. В прошлый четверг я договорился с врачом, что они известят родных, когда он очнется и расскажет, где их искать.
— Господи боже! — простонал Хольмберг. — Стефан Стрём в больнице. Похоже, все крутится вокруг этой чертовой больницы… все…
Он поспешил к себе.
Биргитта Стрём стояла у окна, курила одну из его сигарет и глядела на улицу.
Услышав шаги, она обернулась.
— Знаешь, Мартин, если б не это… деньги, неурядицы, безработица… как бы мы с ним хорошо жили… — Она отвела взгляд в сторону. — Только будут ли у него хоть когда-нибудь шансы… — И в первый раз за все время она расплакалась.
Глава двадцать четвертая
Услышав, что Стефан попал в автомобильную катастрофу, она испугалась. И еще горше заплакала.
Потом пошла, умыться, а Хольмберг тем временем вызвал Улофссона и Вестерберга и рассказал им, как обстоит дело.
— Только поспокойнее с ней, ладно? — попросил он. — И с ним тоже…
Улофссон бросил на него удивленный взгляд.
— Ты вот недавно сказала, — тихо проговорил он, — как бы вам было хорошо вместе…
— Да? — Она взглянула на него, лицо ее покраснело от слез.
— Это ведь вроде из книги? Я, кажется, читал…
— Да, — улыбнулась она. — Это Хемингуэй… «Фиеста»…
— Точно. Я знал, что… — Слова замерли у него на губах.
— Из-за чего он попал к нам?
— Пострадал на прошлой неделе в автомобильной катастрофе.
— Так. Одну минуту. — Она набрала какой-то номер. — Алло? Это из приемного. Стефан Стрём у вас лежит? В вашем отделении жертвы дорожной катастрофы?.. Да… Да… Подождшс секундочку. — Она прикрыла трубку рукой. — А кто им интересуется?
— Полиция.
— А-а… Алло. Тут трое из полиции и с ними дама… Да.
Она опять надолго умолкла, слушая собеседника. Взглянула на Биргитту Стрём, потом сказала:
— Подождите… — и опять прикрыла ладонью трубку. — Вы родственница?
— Я его жена.
— О-о… Вы слушаете? Здесь его жена… Да, понимаю… — Она повесила трубку. — Дежурная сестра проситвас поднягься в отделение.
— Куда именно?
Она объяснила. И в голосе, и в интонации ее было что-то странное.
Хольмберг заметил это и нахмурился.
Лифт доставил их наверх; у дверей ждала медсестра.
— Вы из полиции?
— Совершенно верно.
— А это фру Стрём?
— Да, это я.
— Меня зовут сестра Улла.
— Здравствуйте…
— Прошу вас, идемте.
Они двинулись за ней. Сначала по коридору, потом она подвела их к какой-то двери и открыла ее.
— Проходите, пожалуйста.
— Он здесь? — спросила Биргитта Стрём.
— Нет…
Они вошли. Это был кафетерий.
— Как же так? Где он? — повторила Биргитта Стрём. Глаза ее расширились, и в голосе зазвучали решительные нотки: — Что это значит? Что-нибудь не так?
— Садитесь, фру Стрём. Она опустилась на стул.
— Мне очень жаль, фру Стрём. Но он умер… Биргитта медленно встала, не отрывая глаз от медсестры.
— Умер… — прошептала она. — Умер…
— Да.
Сестра взяла ее за плечи, усадила на стул и вызвала свою коллегу.
— Ждите здесь… Я схожу за доктором Гольдбергом. Она ушла.
Хольмберг быстро обменялся взглядом с Улофссоном и кивнул на Биргитту.
Улофссон молча поднял указательный палец. Хольмберг вышел в коридор и окликнул сестру:
— Что случилось? От чего он умер? И когда?
— Поговорите с доктором Гольдбергом. Сейчас я его приведу. Потерпите немного.
— Я — ассистент уголовной полиции Хольмберг. Скажите, от чего он умер?
Доктор Гольдберг пожал Хольмбергу руку.
— Ни от чего. Он покончил самоубийством. Врач говорил с датским акцентом.
— Самоубийством?.. И когда это случилось?
— Сегодня ночью. Утром его нашли мертвым. Вены на руках были перерезаны ножом, который он получил, чтобы чистить апельсины.
У Хольмберга задрожали колени. Это уже чересчур.
Сначала ненависть — ненависть к человеку, стрелявшему в Бенгта.
Потом все переменилось: яснее и яснее вырисовывался образ стрелявшего — и ненависть угасала, обращаясь в ничто.
А теперь новый удар — самоубийство.
Погоня за человеком, медленно выступающим из тьмы. Погоня из ненависти, из одной только ненависти, не дающей сомкнуть глаз.
И вот они, наконец, разыскали его…
— Может быть, поговорим попозже, — предложил Гольдберг. — Мне надо к фру Стрём.
Улофссон и Вестерберг тоже вышли в коридор, и все трое стали ждать.
— Стрёма привезли к нам в тяжелом состоянии, — сказал Гольдберг. — Он был без сознания; скверный перелом бедра, повреждение черепной кости, смещение позвоночника и тяжелые ожоги, потому что его машина загорелась. Мало-помалу он пришел в себя, но был слишком слаб, чтобы сознавать что-либо. Только в воскресенье он начал говорить, и выяснилось, что он не помнит ни того, что с ним стряслось, ни того, где он находится. Вчера он чувствовал себя сравнительно неплохо и поболтал с сестрами. А вечером ему принесли два апельсина и нож, чтоб их очистить. Его мучила сильная жажда, он много пил, а фруктовый сок в таких случаях очень полезен. И вот утром его нашли мертвым. Постель была залита кровью.
— Ночная сестра ничего не заметила? — спросил Хольмберг.
— Очевидно, нет. Он натянул простыню и одеяло до подбородка, а руки спрятал под ними. Только когда пришли его будить, то… н-да…
Он развел руками.
Некоторое время все молчали.
— Еще нашли письмо.
— Письмо?
— Да вот, — кивнул врач, — лежало в ящике ночного столика. На конверте надписано: «Биргитте». Думаю, там письмо. Во время обхода вчера вечером он попросил ручку и бумагу. Конверт я не вскрывал.
— Можно нам взглянуть?
— Не знаю… его жена…
— Она его получит, — сказал Хольмберг и посмотрел на конверт. — Гм, адреса-то нет.
— Адреса нет.
— Он что-нибудь говорил о родных?
— Только, что хочет написать жене.
Глава двадцать пятая
Там были ответы на все «как» и «почему».
«Однажды вечером я встретил Фрома. Неожиданно столкнулся с ним в городе. Я спросил, как обстоят дела, принял ли он уже решение и есть ли у меня шансы получить работу. Он ответил, что об этом и речи быть не может. Молол насчет ответственности перед фирмой и перед клиентурой и что я отнюдь не подходящая персона для такого солидного поста. Потом завел про мои политические взгляды. Такое впечатление, что он с каждой минутой распалялся и в конце концов почти прокричал, что фирме, право же, не нужны всякие там уголовные леваки. Он-де звонил своему знакомому в полицию и навел справки. Думаю, он не собирался называть имя того человека, но в запале оно нечаянно сорвалось с языка. Кончилось тем, что Фром повернулся и ушел. Сказал только, что, мол, благодарит покорно за таких работников. „Левацкий подонок“ — вот как он меня обозвал».
Хольмберг покачал головой и передал письмо Улофс-сону.
Вестсрберг заглянул Улофссону через плечо.
— «…быть безработным не привилегия. Это кошмар, — тихо прочитал Улофссон. — Это равнозначно полному лишению права на существование…»
Он умолк.
— Бедняга, — медленно проговорил Вестерберг.
— Ничего… Будь я проклят, здесь велят вставать и ходить уже на другой день после операции. Но сейчас все о'кей, — сказал Удин. Облаченный в толстый белый халат, он лежал на постели.
— Отлично. Я пришел сказать тебе, что все кончилось.
— Поймали?
— Да как тебе сказать. Он умер…
И Хольмберг сообщил, что произошло.
— Вот это да, будь я проклят! И все это ты узнал из письма?
— Не совсем. Поговорили с его женой, с соседями — ну и постепенно сложилась более или менее полная картина.
— Он действительно собирался после покушения на Бенгта покончить с собой?
— Так написано в письме. Вот, смотри сам. — Хольмберг вытащил из кармана письмо и прочитал: — «…Выстрелив в Турена, я решил умереть. Погнал на машине в Мальме. Думал там пустить машину в море и исчезнуть, утонуть. Застрелиться духу не хватило. Но, выехав на шоссе, я увидел скопление горящих автомобилей и понял, что произошел несчастный случай. Тогда я до отказа выжал газ и врезался прямо в этот костер. Но неудачно, потому что снова очнулся, в больнице…»
Хольмберг опустил руку с письмом.
— И тогда он попросил нож, чтобы очистить апельсины.
— Гм, — буркнул Удин, разглаживая усы. — И за всем этим стояла ненависть… будь я проклят, странныймир… честное слово…
— Студенческий мир.
— Не только.
— Знаю, что не только.
— Послушай, — начал Удин.
— Да?
— По-моему, вы с Севедом меня невзлюбили. Хольмберг застыл как вкопанный, но промолчал, ожидая, что еще скажет Удин.
— Уж больно вы ершились, — продолжал тот.
— Брось ты. Мы были измотанные и…
— Щепетильные? Из-за Бенгта? Хольмберг пожал плечами.
— Видишь ли, ты был слишком уж посторонний во всем этом, если тебе понятно, что я имею в виду.
— И чересчур много работал языком, да?
— Брось, — сказал Хольмберг. — Увидимся до твоего отъезда.
Он закрыл за собой дверь, спустился на лифте вниз и вышел на залитую солнцем улицу.
Глава двадцать шестая
Севед Улофссон был уже не в силах ненавидеть Стефана Стрёма.
Ларе Вестерберг вернулся к себе в отдел.
Начальник полиции был доволен: слава богу, все кончилось.
Она открыла сама. Вид у нее был очень усталый.
— А-а… это ты, Севед.
— Да. Хотел сказать тебе, что все кончилось.
Она поднесла ладонь к губам и расплакалась. Потом тихо сказала:
— Бенгт…
— Нет-нет. Прости, я неудачно выразился. Мы поймали того, кто стрелял в Бенгта.
— А-а… Входи.
Держась за стену, она прошла в гостиную. Села на диван, уронила голову на руки и молча плакала.
— Ох… до чего же я испугалась.
— Прости. Так неловко вышло. Я сейчас все объясню. И он рассказал о Стефане Стрёме.
— Я, наверное, смогу понять его, — сказала Соня. — Но простить — никогда.
— Я говорил с врачом. Бенгт жив. Состояние вполне стабилизировалось. Может быть, он…
— Поправится? Ты это хотел сказать?
— Да.
— Ты веришь?
— Я надеюсь.
— Да, пожалуй, это единственное, что нам остается… надеяться. Но мне все время кажется, что он уже… там…
— Я понимаю.
В комнату вошла Сарделька и большими глазами уставилась на Улофссона. Подковыляла к нему. Улофссон нагнулся и погладил собаку по голове.
Эпилог
Мария Ланг
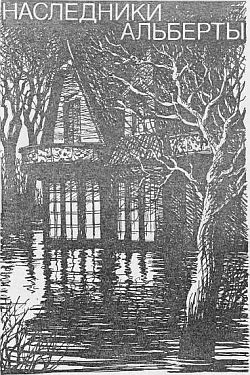
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Сон
2. СТРЕМЛЮСЬ Я ТУДА, ГДЕ МЕНЯ НЕТ
— Парню здорово досталось. Если не ошибаюсь, перелом бедра и сильные ожоги. Машина полыхала, сгорела почти целиком. Кроме того, у него пробит череп.
— Значит, он в больнице…
От волнения Хольмберг расплескал кофе.
— Да, как я слышал, он без сознания, хотя это было несколько дней назад… Почему я об этом вспомнил… понимаешь, с ним там возник целый ряд проблем.
— Вот как?
— Видишь ли, мы не сумели найти его родственников. Единственный адрес, который был при нем, — это адрес некоего пансиона. Мы проверили и выяснили, что он действительно два месяца жил там, но хозяева понятия не имеют, есть у него родные или нет. В прошлый четверг я договорился с врачом, что они известят родных, когда он очнется и расскажет, где их искать.
— Господи боже! — простонал Хольмберг. — Стефан Стрём в больнице. Похоже, все крутится вокруг этой чертовой больницы… все…
Он поспешил к себе.
Биргитта Стрём стояла у окна, курила одну из его сигарет и глядела на улицу.
Услышав шаги, она обернулась.
— Знаешь, Мартин, если б не это… деньги, неурядицы, безработица… как бы мы с ним хорошо жили… — Она отвела взгляд в сторону. — Только будут ли у него хоть когда-нибудь шансы… — И в первый раз за все время она расплакалась.
Глава двадцать четвертая
1
Они поехали в больницу.Услышав, что Стефан попал в автомобильную катастрофу, она испугалась. И еще горше заплакала.
Потом пошла, умыться, а Хольмберг тем временем вызвал Улофссона и Вестерберга и рассказал им, как обстоит дело.
— Только поспокойнее с ней, ладно? — попросил он. — И с ним тоже…
Улофссон бросил на него удивленный взгляд.
2
Вел машину Хольмберг. Биргитта Стрём сидела впереди, рядом с ним.— Ты вот недавно сказала, — тихо проговорил он, — как бы вам было хорошо вместе…
— Да? — Она взглянула на него, лицо ее покраснело от слез.
— Это ведь вроде из книги? Я, кажется, читал…
— Да, — улыбнулась она. — Это Хемингуэй… «Фиеста»…
— Точно. Я знал, что… — Слова замерли у него на губах.
3
В вестибюле Улофссон справился у дежурной, в каком отделении лежит Стефан Стрём.— Из-за чего он попал к нам?
— Пострадал на прошлой неделе в автомобильной катастрофе.
— Так. Одну минуту. — Она набрала какой-то номер. — Алло? Это из приемного. Стефан Стрём у вас лежит? В вашем отделении жертвы дорожной катастрофы?.. Да… Да… Подождшс секундочку. — Она прикрыла трубку рукой. — А кто им интересуется?
— Полиция.
— А-а… Алло. Тут трое из полиции и с ними дама… Да.
Она опять надолго умолкла, слушая собеседника. Взглянула на Биргитту Стрём, потом сказала:
— Подождите… — и опять прикрыла ладонью трубку. — Вы родственница?
— Я его жена.
— О-о… Вы слушаете? Здесь его жена… Да, понимаю… — Она повесила трубку. — Дежурная сестра проситвас поднягься в отделение.
— Куда именно?
Она объяснила. И в голосе, и в интонации ее было что-то странное.
Хольмберг заметил это и нахмурился.
Лифт доставил их наверх; у дверей ждала медсестра.
— Вы из полиции?
— Совершенно верно.
— А это фру Стрём?
— Да, это я.
— Меня зовут сестра Улла.
— Здравствуйте…
— Прошу вас, идемте.
Они двинулись за ней. Сначала по коридору, потом она подвела их к какой-то двери и открыла ее.
— Проходите, пожалуйста.
— Он здесь? — спросила Биргитта Стрём.
— Нет…
Они вошли. Это был кафетерий.
— Как же так? Где он? — повторила Биргитта Стрём. Глаза ее расширились, и в голосе зазвучали решительные нотки: — Что это значит? Что-нибудь не так?
— Садитесь, фру Стрём. Она опустилась на стул.
— Мне очень жаль, фру Стрём. Но он умер… Биргитта медленно встала, не отрывая глаз от медсестры.
— Умер… — прошептала она. — Умер…
— Да.
Сестра взяла ее за плечи, усадила на стул и вызвала свою коллегу.
— Ждите здесь… Я схожу за доктором Гольдбергом. Она ушла.
Хольмберг быстро обменялся взглядом с Улофссоном и кивнул на Биргитту.
Улофссон молча поднял указательный палец. Хольмберг вышел в коридор и окликнул сестру:
— Что случилось? От чего он умер? И когда?
— Поговорите с доктором Гольдбергом. Сейчас я его приведу. Потерпите немного.
4
Появился доктор Гольдберг: маленький полный пыхтящий мужчина в белом халате. Дыхание не то, как у курильщика, не то, как у астматика.— Я — ассистент уголовной полиции Хольмберг. Скажите, от чего он умер?
Доктор Гольдберг пожал Хольмбергу руку.
— Ни от чего. Он покончил самоубийством. Врач говорил с датским акцентом.
— Самоубийством?.. И когда это случилось?
— Сегодня ночью. Утром его нашли мертвым. Вены на руках были перерезаны ножом, который он получил, чтобы чистить апельсины.
У Хольмберга задрожали колени. Это уже чересчур.
Сначала ненависть — ненависть к человеку, стрелявшему в Бенгта.
Потом все переменилось: яснее и яснее вырисовывался образ стрелявшего — и ненависть угасала, обращаясь в ничто.
А теперь новый удар — самоубийство.
Погоня за человеком, медленно выступающим из тьмы. Погоня из ненависти, из одной только ненависти, не дающей сомкнуть глаз.
И вот они, наконец, разыскали его…
— Может быть, поговорим попозже, — предложил Гольдберг. — Мне надо к фру Стрём.
Улофссон и Вестерберг тоже вышли в коридор, и все трое стали ждать.
5
Биргитте Стрём сделали инъекцию успокоительного и уложили на кушетку.— Стрёма привезли к нам в тяжелом состоянии, — сказал Гольдберг. — Он был без сознания; скверный перелом бедра, повреждение черепной кости, смещение позвоночника и тяжелые ожоги, потому что его машина загорелась. Мало-помалу он пришел в себя, но был слишком слаб, чтобы сознавать что-либо. Только в воскресенье он начал говорить, и выяснилось, что он не помнит ни того, что с ним стряслось, ни того, где он находится. Вчера он чувствовал себя сравнительно неплохо и поболтал с сестрами. А вечером ему принесли два апельсина и нож, чтоб их очистить. Его мучила сильная жажда, он много пил, а фруктовый сок в таких случаях очень полезен. И вот утром его нашли мертвым. Постель была залита кровью.
— Ночная сестра ничего не заметила? — спросил Хольмберг.
— Очевидно, нет. Он натянул простыню и одеяло до подбородка, а руки спрятал под ними. Только когда пришли его будить, то… н-да…
Он развел руками.
Некоторое время все молчали.
— Еще нашли письмо.
— Письмо?
— Да вот, — кивнул врач, — лежало в ящике ночного столика. На конверте надписано: «Биргитте». Думаю, там письмо. Во время обхода вчера вечером он попросил ручку и бумагу. Конверт я не вскрывал.
— Можно нам взглянуть?
— Не знаю… его жена…
— Она его получит, — сказал Хольмберг и посмотрел на конверт. — Гм, адреса-то нет.
— Адреса нет.
— Он что-нибудь говорил о родных?
— Только, что хочет написать жене.
Глава двадцать пятая
1
Хольмберг прочитал письмо.Там были ответы на все «как» и «почему».
«Однажды вечером я встретил Фрома. Неожиданно столкнулся с ним в городе. Я спросил, как обстоят дела, принял ли он уже решение и есть ли у меня шансы получить работу. Он ответил, что об этом и речи быть не может. Молол насчет ответственности перед фирмой и перед клиентурой и что я отнюдь не подходящая персона для такого солидного поста. Потом завел про мои политические взгляды. Такое впечатление, что он с каждой минутой распалялся и в конце концов почти прокричал, что фирме, право же, не нужны всякие там уголовные леваки. Он-де звонил своему знакомому в полицию и навел справки. Думаю, он не собирался называть имя того человека, но в запале оно нечаянно сорвалось с языка. Кончилось тем, что Фром повернулся и ушел. Сказал только, что, мол, благодарит покорно за таких работников. „Левацкий подонок“ — вот как он меня обозвал».
Хольмберг покачал головой и передал письмо Улофс-сону.
Вестсрберг заглянул Улофссону через плечо.
— «…быть безработным не привилегия. Это кошмар, — тихо прочитал Улофссон. — Это равнозначно полному лишению права на существование…»
Он умолк.
— Бедняга, — медленно проговорил Вестерберг.
2
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Хольмберг, усаживаясь на стул возле койки.— Ничего… Будь я проклят, здесь велят вставать и ходить уже на другой день после операции. Но сейчас все о'кей, — сказал Удин. Облаченный в толстый белый халат, он лежал на постели.
— Отлично. Я пришел сказать тебе, что все кончилось.
— Поймали?
— Да как тебе сказать. Он умер…
И Хольмберг сообщил, что произошло.
— Вот это да, будь я проклят! И все это ты узнал из письма?
— Не совсем. Поговорили с его женой, с соседями — ну и постепенно сложилась более или менее полная картина.
— Он действительно собирался после покушения на Бенгта покончить с собой?
— Так написано в письме. Вот, смотри сам. — Хольмберг вытащил из кармана письмо и прочитал: — «…Выстрелив в Турена, я решил умереть. Погнал на машине в Мальме. Думал там пустить машину в море и исчезнуть, утонуть. Застрелиться духу не хватило. Но, выехав на шоссе, я увидел скопление горящих автомобилей и понял, что произошел несчастный случай. Тогда я до отказа выжал газ и врезался прямо в этот костер. Но неудачно, потому что снова очнулся, в больнице…»
Хольмберг опустил руку с письмом.
— И тогда он попросил нож, чтобы очистить апельсины.
— Гм, — буркнул Удин, разглаживая усы. — И за всем этим стояла ненависть… будь я проклят, странныймир… честное слово…
— Студенческий мир.
— Не только.
— Знаю, что не только.
3
Четверть часа спустя Хольмберг собрался уходить.— Послушай, — начал Удин.
— Да?
— По-моему, вы с Севедом меня невзлюбили. Хольмберг застыл как вкопанный, но промолчал, ожидая, что еще скажет Удин.
— Уж больно вы ершились, — продолжал тот.
— Брось ты. Мы были измотанные и…
— Щепетильные? Из-за Бенгта? Хольмберг пожал плечами.
— Видишь ли, ты был слишком уж посторонний во всем этом, если тебе понятно, что я имею в виду.
— И чересчур много работал языком, да?
— Брось, — сказал Хольмберг. — Увидимся до твоего отъезда.
Он закрыл за собой дверь, спустился на лифте вниз и вышел на залитую солнцем улицу.
Глава двадцать шестая
1
Мартин Хольмберг чувствовал какую-то пустоту внутри.Севед Улофссон был уже не в силах ненавидеть Стефана Стрёма.
Ларе Вестерберг вернулся к себе в отдел.
Начальник полиции был доволен: слава богу, все кончилось.
2
Улофссон поехал к Соне Турен.Она открыла сама. Вид у нее был очень усталый.
— А-а… это ты, Севед.
— Да. Хотел сказать тебе, что все кончилось.
Она поднесла ладонь к губам и расплакалась. Потом тихо сказала:
— Бенгт…
— Нет-нет. Прости, я неудачно выразился. Мы поймали того, кто стрелял в Бенгта.
— А-а… Входи.
Держась за стену, она прошла в гостиную. Села на диван, уронила голову на руки и молча плакала.
— Ох… до чего же я испугалась.
— Прости. Так неловко вышло. Я сейчас все объясню. И он рассказал о Стефане Стрёме.
— Я, наверное, смогу понять его, — сказала Соня. — Но простить — никогда.
— Я говорил с врачом. Бенгт жив. Состояние вполне стабилизировалось. Может быть, он…
— Поправится? Ты это хотел сказать?
— Да.
— Ты веришь?
— Я надеюсь.
— Да, пожалуй, это единственное, что нам остается… надеяться. Но мне все время кажется, что он уже… там…
— Я понимаю.
В комнату вошла Сарделька и большими глазами уставилась на Улофссона. Подковыляла к нему. Улофссон нагнулся и погладил собаку по голове.
Эпилог
Юности вешний рассвет…
Покончив с делами, он теперь возвращался по Эстра-Вальгатан.
Во дворе школы имени Стрёмберга собралось множество людей. С цветами и плакатами в руках.
Хольмберг остановил машину у тротуара и вышел.
Соборные часы пробили пять.
И вот в дверях появились белые студенческие шапочки.
Хольмберг подошел к ограде и заглянул во двор.
Грянула веселая песня, полная по-весеннему светлой надежды.
Хольмберг смотрел на голубой шарик, поднимающийся к солнцу, и думал: неужели лопнет?
Потом снял с ограды руку: она выпачкалась ржавчиной.
Сел в машину и поехал домой.
К Черстин и Ингер.
Но на сей раз все было по закону.
Потому что останки принадлежали епископу, который жил здесь восемь столетий назад.
1
Как-то вечером в конце мая Мартин Хольмберг ехал домой.Покончив с делами, он теперь возвращался по Эстра-Вальгатан.
Во дворе школы имени Стрёмберга собралось множество людей. С цветами и плакатами в руках.
Хольмберг остановил машину у тротуара и вышел.
Соборные часы пробили пять.
И вот в дверях появились белые студенческие шапочки.
Хольмберг подошел к ограде и заглянул во двор.
Грянула веселая песня, полная по-весеннему светлой надежды.
Вместе с разноцветными шариками песня взлетела к безоблачно-синему весеннему небу.
Споемте о счастье студенческих лет,
о радости бодрой, кипучей.
Встречаем мы юности вешний рассвет,
и в сердце стучит грядущее.
Еще нас не тронули
вихри невзгод,
надежда нам путь озаряет
и лавровой ветвью во веки веков
союз наш священный скрепляет.
Так станем же верить, что сбудется все,
о чем мы с тобою мечтаем!
Хольмберг смотрел на голубой шарик, поднимающийся к солнцу, и думал: неужели лопнет?
Потом снял с ограды руку: она выпачкалась ржавчиной.
Сел в машину и поехал домой.
К Черстин и Ингер.
2
Этой осенью в Лунде, на Клостергатан, выкопали труп мужчины.Но на сей раз все было по закону.
Потому что останки принадлежали епископу, который жил здесь восемь столетий назад.
Мария Ланг
НАСЛЕДНИКИ АЛЬБЕРТЫ
Перевод О. Вронской
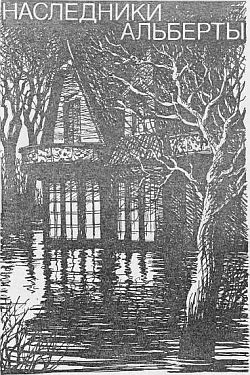
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Альберта Фабианурожденная Люндён, владелица виллы, оставившая после смерти большое состояние
Рудольф Люндёнбедный настоятель прихода
Лиселотт Люндёнего корыстная жена
Еспер Экерюджурналист без постоянной работы
Мирьям Экерюдиздательница журнала «Мы — женщины», самоуверенная и властная
Эдуард Амбрассанитар, веселый и беззаботный
Полли Томссонсекретарша, всегда грустная и подавленная
Сванте Страндначинающий адвокат
Даниель Северинопытный врач
Эрк Берггренвездесущий помощник шефа местной полиции
Елена Вийкхозяйка соседней виллы
Камилла Мартинпевица, впервые дающая уроки пения
Кристер Вийкшеф государственной комиссии по уголовным делам
Рудольф Люндёнбедный настоятель прихода
Лиселотт Люндёнего корыстная жена
Еспер Экерюджурналист без постоянной работы
Мирьям Экерюдиздательница журнала «Мы — женщины», самоуверенная и властная
Эдуард Амбрассанитар, веселый и беззаботный
Полли Томссонсекретарша, всегда грустная и подавленная
Сванте Страндначинающий адвокат
Даниель Северинопытный врач
Эрк Берггренвездесущий помощник шефа местной полиции
Елена Вийкхозяйка соседней виллы
Камилла Мартинпевица, впервые дающая уроки пения
Кристер Вийкшеф государственной комиссии по уголовным делам
Сон
1 ЗЛО, ЧТО СВЕРШИТСЯ В ГРЯДУЩЕМ, ПОКА ЕЩЕ ДРЕМЛЕТ
Нескончаемая езда в лифтах.
Огромных лифтах из толстого прозрачного стекла. Пол, стены, потолок — все было прозрачное. Охваченная смятением, стояла она в одном из стеклянных кубов и следила, как мимо с головокружительной скоростью проносятся черные стены шахты.
Она не хотела смотреть вниз, сквозь пол, под которым зияла бездна, она вообще старалась никуда не смотреть, ей хотелось закрыть глаза, задремать.
Но оказалось, это очень трудно, сквозь сон она вдруг поняла, как трудно закрыть глаза, если ты уже лежишь с закрытыми глазами. Лежишь, и тебе снится, что ты спишь и видишь сон.
Лифт рывком остановился и выбросил ее в каком-то вестибюле, где толпилось множество людей. Они мешали ей идти быстро. Она изо всех сил пробивала себе дорогу и беспрестанно извинялась:
— Извините. Ради бога, простите. Я очень тороплюсь. Впереди мелькнула белокурая, гордо посаженная голова.
— Эй, Мирьям! Подожди меня, слышишь? Помоги мне отсюда выбраться!
Потом она почувствовала запахи озера и вот уже побежала к берегу. Над ней только небо, кругом ни души, все страхи и тревоги исчезли, она улыбалась от радости, приближаясь к розовой вилле, стоявшей у самой воды.
И снова у нее на пути выросла безмолвная толпа.
— Пропустите меня, — умоляла она. — Ведь это мой дом!
Однако теперь дорогу ей преграждали не только люди. Низкое крыльцо виллы было затянуто колючей проволокой, парадная дверь заколочена досками, окна без гардин зияли пустотой. Но в одном из них висело кашпо с поникшим цветком.
— Да поймите же, — упрашивала она, — Мне надо домой, чтобы полить цветок.
Никто в этой безликой толпе не ответил ей, никто не посторонился.
Что говорить, серый каменный дом на узкой стокгольмской улице был построен основательно, и огромная старомодная квартира на пятом этаже, которую занимала Мирьям, имела неплохую звукоизоляцию, но тем не менее, еще с порога услыхав, как грохочет вода в ванной, — Мирьям пришла в ярость.
Она без стука рванула дверь и заорала:
— Ты в своем уме? Кто это моется в три часа ночи на второй день пасхи? Хочешь перебудить весь дом?
Ее брат, на котором не было ничего, кроме желтых махровых тапочек, хмуро заметил:
— Тебя разве не учили, что невежливо врываться без стука в ванную, если там кто-то моется?
— Да ты бы за этим шумом никакого стука не услышал. Выключи воду, болван. Говорят тебе, заверни краны!
Но брат не шевельнулся; тогда Мирьям протиснулась между обнаженной фигурой и унитазом и сама выключила воду.
На первый взгляд брат и сестра были удивительно похожи. Оба статные, белокурые, голубоглазые. Он — высок даже для мужчины, она — для женщины.
Есперу Экерюду было тридцать пять лет. Мирьям только что исполнилось тридцать. Но стоило приглядеться повнимательнее — и обнаруживалось, что различий у них все-таки больше, чем сходства. Судя по складкам вокруг глаз и рта Еспера, из них двоих он был более слабым и чувствительным. К тому же недавние неприятности в личной жизни изрядно поубавили в нем спеси и самоуверенности, тогда как его преуспевающая сестра комплексами не страдала.
Порой она выглядит слишком уж безукоризненно, подумал он со вздохом. Светлые волосы, как бы чуть задетые ветром, умелая косметика, на голубом брючном костюме ни единой складочки даже после долгой езды в машине, скромные голубые лодочки из самого дорогого магазина — все это детали, из которых складывался облик деловой женщины, посвятившей себя изданию дамского еженедельника. Не исключено, что холодная расчетливость и командирский голос также способствовали ее карьере.
Но Еспер еще помнил время, когда иметь дело с Мирьям было легко и приятно. Она и держалась тогда, совсем по-другому — проще, естественней.
Он снова вздохнул и включил воду. Видавшие виды трубы взревели в ночной тишине.
— Договор о найме квартиры запрещает жильцам шуметь по ночам. А квартира все-таки моя, — раздраженно сказала Мирьям.
— Правильно, и уж ты не упустишь случая напомнить об этом, — сказал Еспер. — Но по дороге мне пришлось менять колесо, грязь жуткая, я извозился с ног до головы и поэтому все-таки залезу в твою ванну, и буду сидеть в ней, пока не согреюсь и не отмоюсь добела. И плевать я хотел на тебя вместе с твоим домовладельцем.
Как бы ненароком он направил в ее сторону шланг душа, и она предусмотрительно покинула ванную.
— Ты и так белый! — крикнула она из-за двери. — Как сметана. Где ты был на праздники? Небось, безвылазно торчал в помещении или за рулем?
— Не каждому по карману загорать в горных отелях Норвегии, — ответил он сквозь шум льющейся воды.
И громко хлопнул дверью. Удар отозвался в другом конце огромной старинной квартиры, в комнате для прислуги. Девушка в постели беспокойно заворочалась, но не проснулась, и сновидения ее продолжались.
Вот она на узкой улице, по которой мчится нескончаемый поток автомобилей. Выхлопные газы заволокли тротуары-, машины и дома зловещей желто-зеленой дымкой. Она не размыкает губ, зажимает ноздри, чтобы ядовитая копоть не проникла в легкие. Она вот-вот задохнется.
— Нет, не так, — говорит кто-то. — Нужно открыть рот. Подними выше нёбо. Пой позиционно выше. Ты можешь и выше.
И она сама очутилась где-то высоко. Может быть, в театре? Наверно, в опере.
— Это двенадцатый ряд, — звучит в темноте голос капельдинера. — У вас место в двенадцатом ряду?
— Нет, в шестом, — бормочет она виновато. — Куда мне идти?
— Ш-ш! — шипят вокруг зрители. — Тише, уже началось!
Оказалось, идти нужно куда-то вниз, в темноту, и она понимает, что между рядами кресел — ступени. Высокие ступени, которые почти невозможно разглядеть в темноте и по которым невозможно пройти бесшумно.
Откуда у нее да ногах вдруг взялись сабо? Господи, как они стучат. Сверху, с полукруглого балкона, на нее опять зашикали.
В яме перед сценой оркестр играл совсем не то, что следовало. «Смерть Изольды»? Но почему тогда они исполняют оперу с конца?
Она заторопилась, и сабо с грохотом упало с ноги. Обливаясь холодным потом, она рухнула на первое свободное место с краю. С робкой улыбкой повернулась к соседу.
Она увидела рядом с собой женщину, однако лица не успела разглядеть, потому что соседка торопливо отвернулась.
Оркестр продолжал играть Вагнера. Но со сцены уже звучало меццо-сопрано, исполнявшее арию Сюзанны из моцартовской «Свадьбы Фигаро». Вскоре Сюзанна сбилась на какой-то танцевальный бразильский мотив. И Вагнера мало-помалу заглушили ритмичные звуки самбы…
В шелковом синем пеньюаре и такой же ночной сорочке Мирьям впорхнула в прокуренную, загроможденную книгами комнату, где из колонок стереосистемы грохотала самба.
— Эдуардо, милый, скоро половина четвертого, — укоризненно сказала она. — Генеральша под нами наверняка кипит от злости. А с нею лучше не связываться, особенно когда она не в духе.
По правде говоря, Мирьям не собиралась упрекать его всерьез, уж слишком нежно звучало в ее устах его испанское имя.
Молодой человек, обладатель этого экзотического имени — к тому же фамилия у него была Амбрас, — ответил ей по-шведски почти без акцента:
— Пускай обращается прямо ко мне. У нас в больнице этой зимой, лежала одна занудная генеральша. Так я с ней отлично ладил.
— Да, это ты умеешь, — признала Мирьям.
Эдуард выглядел на несколько лет моложе Мирьям. Она не могла бы сказать, красив он или уродлив. Скорее серединка наполовинку. Волосы, только что взъерошенные ее рукой, были черные, синеватый, тщательно выбритый подбородок, темные жгучие глаза. Обычно сдержанная, Мирьям влюбилась в него без памяти.
— Ладно, — сказал Эдуард, убавив все-таки звук. — Это же праздничная музыка. Ты умеешь танцевать настоящую южноамериканскую самбу? Давай-ка попробуем.
Он отложил свою неизменную сигарету и поднялся. Без ботинок, в носках, он был ниже своей партнерши, но это их нисколько не смущало.
— Мне пора спать, — сопротивлялась Мирьям. — Завтра у меня безумный день.
Немного погодя к ним в комнату явился Еспер в желтых тапочках и с желтым полотенцем вокруг бедер.
— Договор о найме квартиры запрещает шуметь по ночам, — передразнил он сестру.
— Тебя разве не учили, что невежливо врываться в чужую спальню без стука? — отвечала запыхавшаяся Мирьям.
— Так это спальня? А я думал, дискотека.
Он сощурился, глядя на них сквозь завесу табачного дыма, в голосе его внезапно послышалась усталость:
— И охота вам? Что за дикая страсть к танцам? Вы что, в Норвегии не перебесились?
Темные глаза взглянули на Еспера, Эдуард ответил:
— Не знаю, как другие, а я на пасху в Норвегии не был.
— Мне наплевать, где вы проводите праздники. Но могли бы подумать о бедной девочке, которая спит в комнате для прислуги. Вы же ей спать не даете.
— Да разве в двадцать лет сон так уж важен? Тем более могу поспорить, она сейчас спит как сурок, — успокоила его Мирьям.
Она действительно спала, Мирьям не ошиблась. Носон ее не был спокойным и безмятежным.
Звуки извне вплетались в ее сновидения, все более тревожные и бессвязные.
В гостиной, задрапированной красным бархатом, тусклый свет хрустальной люстры освещал наполненную водой ванну. Кто-то подталкивал ее к этой ванне, а она упиралась. С какой стати она должна раздеваться и садиться в воду посреди этой изысканной гостиной, где на нее смотрит столько незнакомых людей? Если бы еще она хоть кого-нибудь из них знала, хоть кому-нибудь могла доверять… И она вновь бежит. Куда?
Домой. Только где он, ее дом? Куда ей бежать?
Она спотыкалась в темных коридорах, ощупью пробираясь через бесчисленные двери.
И вот в конце длинного туннеля она видит того, кто ее ждет.
Слава богу! Наконец она у цели, вот он, выход из темноты. И там, на грани мрака и света, она увидела, что тот, к кому она стремилась, вновь отвернулся от нее. Ей и на этот раз не удалось даже мельком заглянуть в его лицо.
Огромных лифтах из толстого прозрачного стекла. Пол, стены, потолок — все было прозрачное. Охваченная смятением, стояла она в одном из стеклянных кубов и следила, как мимо с головокружительной скоростью проносятся черные стены шахты.
Она не хотела смотреть вниз, сквозь пол, под которым зияла бездна, она вообще старалась никуда не смотреть, ей хотелось закрыть глаза, задремать.
Но оказалось, это очень трудно, сквозь сон она вдруг поняла, как трудно закрыть глаза, если ты уже лежишь с закрытыми глазами. Лежишь, и тебе снится, что ты спишь и видишь сон.
Лифт рывком остановился и выбросил ее в каком-то вестибюле, где толпилось множество людей. Они мешали ей идти быстро. Она изо всех сил пробивала себе дорогу и беспрестанно извинялась:
— Извините. Ради бога, простите. Я очень тороплюсь. Впереди мелькнула белокурая, гордо посаженная голова.
— Эй, Мирьям! Подожди меня, слышишь? Помоги мне отсюда выбраться!
Потом она почувствовала запахи озера и вот уже побежала к берегу. Над ней только небо, кругом ни души, все страхи и тревоги исчезли, она улыбалась от радости, приближаясь к розовой вилле, стоявшей у самой воды.
И снова у нее на пути выросла безмолвная толпа.
— Пропустите меня, — умоляла она. — Ведь это мой дом!
Однако теперь дорогу ей преграждали не только люди. Низкое крыльцо виллы было затянуто колючей проволокой, парадная дверь заколочена досками, окна без гардин зияли пустотой. Но в одном из них висело кашпо с поникшим цветком.
— Да поймите же, — упрашивала она, — Мне надо домой, чтобы полить цветок.
Никто в этой безликой толпе не ответил ей, никто не посторонился.
Что говорить, серый каменный дом на узкой стокгольмской улице был построен основательно, и огромная старомодная квартира на пятом этаже, которую занимала Мирьям, имела неплохую звукоизоляцию, но тем не менее, еще с порога услыхав, как грохочет вода в ванной, — Мирьям пришла в ярость.
Она без стука рванула дверь и заорала:
— Ты в своем уме? Кто это моется в три часа ночи на второй день пасхи? Хочешь перебудить весь дом?
Ее брат, на котором не было ничего, кроме желтых махровых тапочек, хмуро заметил:
— Тебя разве не учили, что невежливо врываться без стука в ванную, если там кто-то моется?
— Да ты бы за этим шумом никакого стука не услышал. Выключи воду, болван. Говорят тебе, заверни краны!
Но брат не шевельнулся; тогда Мирьям протиснулась между обнаженной фигурой и унитазом и сама выключила воду.
На первый взгляд брат и сестра были удивительно похожи. Оба статные, белокурые, голубоглазые. Он — высок даже для мужчины, она — для женщины.
Есперу Экерюду было тридцать пять лет. Мирьям только что исполнилось тридцать. Но стоило приглядеться повнимательнее — и обнаруживалось, что различий у них все-таки больше, чем сходства. Судя по складкам вокруг глаз и рта Еспера, из них двоих он был более слабым и чувствительным. К тому же недавние неприятности в личной жизни изрядно поубавили в нем спеси и самоуверенности, тогда как его преуспевающая сестра комплексами не страдала.
Порой она выглядит слишком уж безукоризненно, подумал он со вздохом. Светлые волосы, как бы чуть задетые ветром, умелая косметика, на голубом брючном костюме ни единой складочки даже после долгой езды в машине, скромные голубые лодочки из самого дорогого магазина — все это детали, из которых складывался облик деловой женщины, посвятившей себя изданию дамского еженедельника. Не исключено, что холодная расчетливость и командирский голос также способствовали ее карьере.
Но Еспер еще помнил время, когда иметь дело с Мирьям было легко и приятно. Она и держалась тогда, совсем по-другому — проще, естественней.
Он снова вздохнул и включил воду. Видавшие виды трубы взревели в ночной тишине.
— Договор о найме квартиры запрещает жильцам шуметь по ночам. А квартира все-таки моя, — раздраженно сказала Мирьям.
— Правильно, и уж ты не упустишь случая напомнить об этом, — сказал Еспер. — Но по дороге мне пришлось менять колесо, грязь жуткая, я извозился с ног до головы и поэтому все-таки залезу в твою ванну, и буду сидеть в ней, пока не согреюсь и не отмоюсь добела. И плевать я хотел на тебя вместе с твоим домовладельцем.
Как бы ненароком он направил в ее сторону шланг душа, и она предусмотрительно покинула ванную.
— Ты и так белый! — крикнула она из-за двери. — Как сметана. Где ты был на праздники? Небось, безвылазно торчал в помещении или за рулем?
— Не каждому по карману загорать в горных отелях Норвегии, — ответил он сквозь шум льющейся воды.
И громко хлопнул дверью. Удар отозвался в другом конце огромной старинной квартиры, в комнате для прислуги. Девушка в постели беспокойно заворочалась, но не проснулась, и сновидения ее продолжались.
Вот она на узкой улице, по которой мчится нескончаемый поток автомобилей. Выхлопные газы заволокли тротуары-, машины и дома зловещей желто-зеленой дымкой. Она не размыкает губ, зажимает ноздри, чтобы ядовитая копоть не проникла в легкие. Она вот-вот задохнется.
— Нет, не так, — говорит кто-то. — Нужно открыть рот. Подними выше нёбо. Пой позиционно выше. Ты можешь и выше.
И она сама очутилась где-то высоко. Может быть, в театре? Наверно, в опере.
— Это двенадцатый ряд, — звучит в темноте голос капельдинера. — У вас место в двенадцатом ряду?
— Нет, в шестом, — бормочет она виновато. — Куда мне идти?
— Ш-ш! — шипят вокруг зрители. — Тише, уже началось!
Оказалось, идти нужно куда-то вниз, в темноту, и она понимает, что между рядами кресел — ступени. Высокие ступени, которые почти невозможно разглядеть в темноте и по которым невозможно пройти бесшумно.
Откуда у нее да ногах вдруг взялись сабо? Господи, как они стучат. Сверху, с полукруглого балкона, на нее опять зашикали.
В яме перед сценой оркестр играл совсем не то, что следовало. «Смерть Изольды»? Но почему тогда они исполняют оперу с конца?
Она заторопилась, и сабо с грохотом упало с ноги. Обливаясь холодным потом, она рухнула на первое свободное место с краю. С робкой улыбкой повернулась к соседу.
Она увидела рядом с собой женщину, однако лица не успела разглядеть, потому что соседка торопливо отвернулась.
Оркестр продолжал играть Вагнера. Но со сцены уже звучало меццо-сопрано, исполнявшее арию Сюзанны из моцартовской «Свадьбы Фигаро». Вскоре Сюзанна сбилась на какой-то танцевальный бразильский мотив. И Вагнера мало-помалу заглушили ритмичные звуки самбы…
В шелковом синем пеньюаре и такой же ночной сорочке Мирьям впорхнула в прокуренную, загроможденную книгами комнату, где из колонок стереосистемы грохотала самба.
— Эдуардо, милый, скоро половина четвертого, — укоризненно сказала она. — Генеральша под нами наверняка кипит от злости. А с нею лучше не связываться, особенно когда она не в духе.
По правде говоря, Мирьям не собиралась упрекать его всерьез, уж слишком нежно звучало в ее устах его испанское имя.
Молодой человек, обладатель этого экзотического имени — к тому же фамилия у него была Амбрас, — ответил ей по-шведски почти без акцента:
— Пускай обращается прямо ко мне. У нас в больнице этой зимой, лежала одна занудная генеральша. Так я с ней отлично ладил.
— Да, это ты умеешь, — признала Мирьям.
Эдуард выглядел на несколько лет моложе Мирьям. Она не могла бы сказать, красив он или уродлив. Скорее серединка наполовинку. Волосы, только что взъерошенные ее рукой, были черные, синеватый, тщательно выбритый подбородок, темные жгучие глаза. Обычно сдержанная, Мирьям влюбилась в него без памяти.
— Ладно, — сказал Эдуард, убавив все-таки звук. — Это же праздничная музыка. Ты умеешь танцевать настоящую южноамериканскую самбу? Давай-ка попробуем.
Он отложил свою неизменную сигарету и поднялся. Без ботинок, в носках, он был ниже своей партнерши, но это их нисколько не смущало.
— Мне пора спать, — сопротивлялась Мирьям. — Завтра у меня безумный день.
Немного погодя к ним в комнату явился Еспер в желтых тапочках и с желтым полотенцем вокруг бедер.
— Договор о найме квартиры запрещает шуметь по ночам, — передразнил он сестру.
— Тебя разве не учили, что невежливо врываться в чужую спальню без стука? — отвечала запыхавшаяся Мирьям.
— Так это спальня? А я думал, дискотека.
Он сощурился, глядя на них сквозь завесу табачного дыма, в голосе его внезапно послышалась усталость:
— И охота вам? Что за дикая страсть к танцам? Вы что, в Норвегии не перебесились?
Темные глаза взглянули на Еспера, Эдуард ответил:
— Не знаю, как другие, а я на пасху в Норвегии не был.
— Мне наплевать, где вы проводите праздники. Но могли бы подумать о бедной девочке, которая спит в комнате для прислуги. Вы же ей спать не даете.
— Да разве в двадцать лет сон так уж важен? Тем более могу поспорить, она сейчас спит как сурок, — успокоила его Мирьям.
Она действительно спала, Мирьям не ошиблась. Носон ее не был спокойным и безмятежным.
Звуки извне вплетались в ее сновидения, все более тревожные и бессвязные.
В гостиной, задрапированной красным бархатом, тусклый свет хрустальной люстры освещал наполненную водой ванну. Кто-то подталкивал ее к этой ванне, а она упиралась. С какой стати она должна раздеваться и садиться в воду посреди этой изысканной гостиной, где на нее смотрит столько незнакомых людей? Если бы еще она хоть кого-нибудь из них знала, хоть кому-нибудь могла доверять… И она вновь бежит. Куда?
Домой. Только где он, ее дом? Куда ей бежать?
Она спотыкалась в темных коридорах, ощупью пробираясь через бесчисленные двери.
И вот в конце длинного туннеля она видит того, кто ее ждет.
Слава богу! Наконец она у цели, вот он, выход из темноты. И там, на грани мрака и света, она увидела, что тот, к кому она стремилась, вновь отвернулся от нее. Ей и на этот раз не удалось даже мельком заглянуть в его лицо.
2. СТРЕМЛЮСЬ Я ТУДА, ГДЕ МЕНЯ НЕТ
Обычно Полли старалась встать первой, чтобы без помех принять душ и привести себя в порядок. И этот вторник ничем не отличался от прочих.
Уже одетая, она направлялась в кухню, когда брат и сестра Экерюд столкнулись в прихожей, спеша наперегонки в ванную. Победа досталась Мирьям, Еспер только чертыхнулся ей вслед.
Зевая, он поплелся за Полли на кухню, где все было выкрашено в оранжевый цвет.
— Будь другом, поджарь и мне пару гренков. Господи, какая же ты тощая и бледная! Ты не заболела? Весенний грипп сейчас в самом разгаре.
— Ты с утра тоже не больно-то красив.
Еспер был пятнадцатью годами старше двадцатилетней Полли, но, даже небритый, непричесанный, в немыслимом розовато-лиловом халате, он выглядел гораздо здоровее и свежее, чем она.
Полли Томссон всегда была тоненькая и хрупкая, а после восьми месяцев жизни в Стокгольме и вовсе спала с лица. Главным ее украшением были глаза — то серые, то серо-голубые, то просто синие, в зависимости от ее настроения. Прямые брови были темнее русых, коротко подстриженных волос.
Еспер всегда относился к ней по-родственному, как к младшей сестре, хотя родственниками они, в сущности, не были. Вот и сейчас он сказал ей по-братски бесцеремонно:
Уже одетая, она направлялась в кухню, когда брат и сестра Экерюд столкнулись в прихожей, спеша наперегонки в ванную. Победа досталась Мирьям, Еспер только чертыхнулся ей вслед.
Зевая, он поплелся за Полли на кухню, где все было выкрашено в оранжевый цвет.
— Будь другом, поджарь и мне пару гренков. Господи, какая же ты тощая и бледная! Ты не заболела? Весенний грипп сейчас в самом разгаре.
— Ты с утра тоже не больно-то красив.
Еспер был пятнадцатью годами старше двадцатилетней Полли, но, даже небритый, непричесанный, в немыслимом розовато-лиловом халате, он выглядел гораздо здоровее и свежее, чем она.
Полли Томссон всегда была тоненькая и хрупкая, а после восьми месяцев жизни в Стокгольме и вовсе спала с лица. Главным ее украшением были глаза — то серые, то серо-голубые, то просто синие, в зависимости от ее настроения. Прямые брови были темнее русых, коротко подстриженных волос.
Еспер всегда относился к ней по-родственному, как к младшей сестре, хотя родственниками они, в сущности, не были. Вот и сейчас он сказал ей по-братски бесцеремонно:
