Страница:
– Что он говорит? – спросил Кандыбай, чутко слушая рассказ председателя, угадывая его горький смысл. – Что тут у них стряслось?
Коногонов перевел рассказ председателя.
– Пусть винтовки возьмут! Пусть позовут военных! Зачем «духам» хлеб отдавать? – Кандыбай подхватил автомат, спрыгнул на землю. Подошел к комбайну и цепко, ловко ощупал его сверху донизу. Заглянул под днище, обошел с хвоста. – Машина в порядке! Только бак пустой. Спустили, гады, в землю горючее и пробку тут же бросили… Товарищ лейтенант! – загораясь, становясь как бы тоньше и выше, сказал Кандыбай. – А что, если мы комбайн запустим! Нам своего топлива хватит! Откачаем в комбайн горючее, и я запущу! Здесь дел-то – раз-два!
Коногонов, увлекаясь этой мыслью, разделяя молодое нетерпение сержанта, перевел председателю:
– Мой водитель умеет водить и комбайн. Он просит позволения сесть в кабину и скосить ваше поле.
Председатель молчал. Потом его черные, запавшие, тревожно мигающие глаза вдруг зажглись сухим блеском, как тогда, на митинге, когда на груди у председателя краснел бант, и он прикреплял к трактору красный флажок, и трактор был накрыт ковром, как попоной.
– Пусть косит! – сказал председатель. – Пусть люди увидят, как работает комбайн! Пусть видят – кооператив не умер!
Кандыбай извлек из броневика шланг и мятое ведро. Вдвоем с председателем открыли у броневика бак, затолкали шланг. Кандыбай, оскалив зубы, схватил шланг ртом, засосал топливо. Окунул прозрачно-желтую, остро пахнущую струю в ведро. Когда оно наполнилось, знаками повел за собой расторопного, суетящегося афганца, и они перелили горючее в комбайн. Еще и еще раз.
– А теперь, товарищ лейтенант, смотрите, что мы умеем!
Кандыбай угнездился в кабине. Улыбнулся, подмигнул афганцу. Запустил двигатель. Опробовал рычаги управления, заставив вращаться в комбайне шкивы и колеса. Наполнил железную полую машину гулом и рокотом. Опустил ниже жатку с режущей молнией ножей, с крутящимся, хлопающим воздухом мотовилом. И тронул комбайн вперед.
Алая махина надвинулась на белую стену пшеницы. Коснулась ее. По пшенице побежала, как по воде, волна. И комбайн, утопая в колосьях, вошел в них, выстригая поле, неся перед собой яркий мелькающий вихрь, оставляя сзади колючую рябую стерню.
Люди, опустив серпы, перестали работать. Смотрели на красную грохающую машину, идущую вдоль их поля. Председатель, подпрыгивая, взмахивая руками, стараясь повторить движения мотовила, шкивов, крутящего штурвал комбайнера, бежал по стерне, оглядываясь на Коногонова. Звал за собой, не в поле, а куда-то вверх, ввысь, куда намеревался взлететь вслед за алой огромной птицей.
Комбайн приподнял в хвосте решетку и вывалил спрессованный куб соломы. Золотая, напоминающая слиток копна лучилась, испускала сияние. Коногонов, откинув на спину автомат, ликуя, подошел к копне, к председателю, волочившему на своем башмаке колосок, вздымавшему руки вверх, благодаря то ли небо, то ли сидящего в высокой кабине сержанта.
Комбайн развернулся и пошел обратно. Кандыбай помахал Коногонову. Проежая мимо, обдавая его теплым духом спелых выбитых зерен, грохотом бушующего железа, снова открыл хвостовые ворота, вывалил рядом с первой вторую золоченую башню. И зрелище этой яркой живой копны наполнило Коногонова ликующим чувством.
Здесь, в афганском селении, на истерзанных войною полях, он творил свое негрозное дело. Не стрелял, не губил хлеба, а косил, собирал.
Коногонов вдруг подумал о друге. О сверстнике, с кем дружили в университете. Вечно спорили, превратив свой союз в непрерывную незлобивую распрю. Искали друг друга, чтобы спорить, схлестнуть свои интеллекты, осыпать друг друга упреками, почти рассориться и снова торопиться друг к другу. Часами по телефону обсуждали проблемы истории. Друг изучал древний Псков, тонкую, светлую культуру на северо-западе Руси, уходившую корнями в языческие толщи угро-финнов и кривичей, осевших на озерах и реках. Ездил копать древние жальники, извлекая из погребений бронзовые ожерелья, височные кольца и гривны и хрупкие безымянные кости витязей, рыбаков, земледельцев. Друг упрекал Коногонова в том, что тот отказался от познания отечества, углубился в ислам, питал своим духом чужое дерево, в то время как здесь, в родной истории, был непочатый простор для талантов, смелых открытий, бескорыстного, одного на всю жизнь служения. Друг не хотел принимать его, Коногонова, доводов, что судьба России давно слилась с судьбою народов Востока, и мощный, один из главных векторов русской истории глядит на Восток. В сегодняшней многоликой державе соединилось множество разных народов, в том числе и восточных, питая общее древо, взращенное среди трех океанов.
Вот если бы друг оказался сейчас с ним рядом! Увидел его посреди афганского поля, по которому ходит красный советский комбайн и казах из целинной степи убирает пуштунский хлеб. «Ну какой еще аргумент тебе нужен!»
Он приближался к копне, видя, как председатель, опередив его, торопится навстречу комбайну, сделавшему новый разворот, проглотившему добрую половину поля, разделив пшеницу на ворохи огненно-белой соломы и на невидимое в бункере зерно. Он был погружен в полемику с другом. Обдумывал, как запишет новые, родившиеся на пшеничном поле доводы, в свою сокровенную тетрадь. И люди, что перебегали по другую сторону низкой глинобитной стены, были похожи на других, стоящих у края нивы с серпами. Те же голубоватые и желтоватые перевязи, те же пузырящиеся просторные штаны, тот же поблескивающий в руках металл. И только когда ахнул тугим дымом гранатомет и шипящая, рассыпающая искры струя с огненной головой промчалась мимо него, вонзилась в броневик, лопнула внутри и машина, содрогнувшись, брызнула пламенем, только тогда он понял, что люди за стеной держат в руках оружие и это оружие бьет по нему, Коногонову, пуская вокруг молниеносные свисты.
Он растерялся, остолбенел, забывая упасть. Видел огромными от ужаса глазами всю окрестность разом.
Узко висела, не успев расшириться, дымная трасса, соединившая гранатометчика в серой чалме с горящим броневиком. Комбайн продолжал молотить, и в стеклянной кабине двигался Кандыбай. Председатель бежал, расставив руки, огибая копну. Но Коногонов, в прозрении испуга, понимал, что случилось то, поджидавшее его поминутно, о чем говорили ему постоянно, что до времени его обходило, доставалось другим.
Он увидел, как запнулся, упал председатель. Тонкие красноватые иглы, пощупав его, лежащего, поколов вокруг него поле, поднялись выше, полетели туда, где бежали врассыпную крестьяне, хоронясь в арыке, исчезая в пшенице. Председатель лежал неподвижно, голубея одеждой, и Коногонов вдруг подумал, что в его башмаке все так же торчит колосок.
Выстрелы и трассы сместились, били теперь по комбайну. Коногонов почти телесно ощущал пулевые попадания в краснотелую машину, прострелы в жесть и в стекло. И там, в кабине, в расколотом стеклянном кристалле, они попадали в живое тело, в Кандыбая. Комбайн встал, мотовило продолжало крутиться, молотя пустой воздух. А в кабине метался, ударялся о стеклянные грани сержант. Оседал, пропадал. И эти два почти одновременных попадания – в председателя и Кандыбая, зрелище двух пораженных машин – броневика и комбайна, заставило его очнуться. Паралич, словно больное, сотрясшее его электричество, прокатился сквозь тело, судорогой ушел в землю. Он был теперь один среди открытого поля. В руках у него был автомат. Он был офицер, принимающий бой в одиночку.
Он резко упал на землю. Выставив автомат, полоснул по вершине стены, видя, как задымилась пробитая глина и стрелки спрятали свои головы. Упруго вскочил, заостряясь в беге, увиливая от пуль, метнулся с открытого места к копне, врезаясь в нее, накалываясь на остья соломы. Запах свежевымолоченного зерна, спасительный запах и цвет, становились для него цветом и запахом боя.
Из-за стены стреляли в копну. Он чувствовал, как свинец уходит в солому, застревает в ней, остановленный сплетеньем бесчисленных хрупких стеблей, спасавших ему, Коногонову, жизнь.
Он выглянул, просматривая стену сквозь прорезь своего автомата, помещая ее на матерчатый ком чалмы, спуская крючок. И там, на другом конце простучавшей, умчавшейся очереди раздался крик, поднялся в рост человек и рухнул на стену, свесив вниз руки и голову, переломленный надвое смертью. Другие двое, пригибаясь, пузырясь шароварами, побежали, не стреляя. Коногонов послал им вслед две короткие нервные очереди и не попал.
Было тихо. Никто не стрелял. Он лежал за копной, ожидая повторения атаки. Но атаки не было. На краю пшеничного поля, у груды межевых камней, горел и дымил броневик. На другом конце поля все так же тарахтел, крутил мотовилом застывший комбайн. И фигура сержанта, недвижная, чуть темнела в кабине. На стерне, вытянув голые руки, лежал председатель. Как бы кинувшись навстречу ему, протянув для пожатия руки, висел на стене убитый басмач. И он, Коногонов, живой, лежал у копны между двух убитых, и синее осеннее небо без облачка сияло над ним. И вид этой ясной восточной лазури на мгновение потряс его. Словно чье-то всевидящее и вездесущее око наблюдало за ним, здесь лежащим, не убитым – убившим. Но это потрясение тут же прошло, как недавний паралич, спустилось судорогой в землю.
Он поднялся из-за копны. Тут же присел, ожидая выстрела. Но выстрел не прозвучал. Белело наполовину сжатое поле. Зеленел в отдалении кишлак. И никто не стрелял.
Он держал автомат, готовый к бою. Упруго, на носках, шел по земле, слыша, как хрустит стерня. Подошел к председателю. Увидел, что щека его прижата к земле, глаза выпучены, а в горле, в кадыке, там, куда он недавно показывал пальцем, чернеет дыра. Председатель был мертв. Коногонов, не трогая его, двинулся дальше.
Комбайн смотрел на него своим прожектором, шлепал мотовилом, стучал, что-то говорил, шевелил без устали деревянными лопочущими губами. Коногонов влез по трапу в кабину и увидел, что бункер пробит. Из него тонко, с перерывами льется зерно, будто в бункере билось невидимое сердце, пульсировало, выталкивало струйку пшеницы.
Он открыл дверь кабины и увидел лицо Кандыбая, живое, моргающее. Сержант кивал головой, отталкивал от себя боль, смерть. Его рубаха чернела на животе мокрым пятном. Он дышал и стонал:
– Умираю… Я умираю…
Этот стон, бледное, несчастное лицо отозвалось в Коногонове жаркой торопливой энергией.
– Не умрешь, сержант! А я тебе говорю, не умрешь!
Он расстегнул и откинул его ремень. Задрал хлюпающую рубаху. Увидел кровавый живот с пулевым отверстием. Растерялся, не зная, что делать, пачкаясь кровью. Выхватил из кармана платочек жены с красной вишенкой, наложил на рану. Но платочек был мал, пропитался кровью, вишенки не стало видно. Он бросил платок на железный пол кабины. Скинул с себя рубаху и стал драть ее на жесткие зеленые ленты, приговаривая:
– Не умрешь, сержант, не умрешь!
Неумело, кое-как, причиняя сержанту боль, перевязал ему рану. Схватив под мышки, стянул с сиденья, опустил рядом в тесное, между стенкой и штурвалом, пространство.
– Не умрешь, Кандыбай, не умрешь!
Хлеб из бункера продолжал сочиться. И почти бессознательно он поднял с пола платочек, перепачканный кровью, и сунул в пулевое отверстие бункера, затыкая свищ, прекращая истечение хлеба.
– Не умрешь, сержант, не умрешь!..
Он занял сиденье, оглядывая штурвал, педали и кнопки, не зная, как к ним подступиться. Дома он очень плохо водил машину, не имел водительских прав, не любил механизмы. Теперь он смотрел на штурвал, не умея пустить комбайн.
– Там… – простонал Кандыбай. – Там, слева сцепление…
Не памятью, не умением, а наитием Коногонов пустил комбайн. Толчками, рывками ворочал в разные стороны его огромное неуклюжее тулово, глядя сквозь расколотое стекло на стерню, на крутящееся впереди мотовило.
Подкатил к лежащему на земле председателю. Остановил комбайн и слез. С трудом, надрываясь, поднял мертвое тело, заволок на жатку у самого крутящегося мотовила. И снова залез в кабину.
В стороне догорал броневик. Зеленел кишлак Сабзикер, куда убежали крестьяне, укрылись стрелявшие басмачи. Сержант, потеряв сознание, что-то бормотал в забытьи. Торчал из пробитого бункера шелковый платочек жены. И поле, скошенное наполовину, светилось белой пшеницей. Коногонов, голый по пояс, перепачканный землей и кровью, жал на рычаги и педали.
Автомат лежал у сиденья, готовый стрелять. В лицо сквозь пробитую лучистую скважину дул сквознячок. Коногонов вел по дороге громыхавший, дрожащий комбайн и повторял:
– Не умрет!.. Никто не умрет!..
Смотрел, как клубится дорога. В бурунах пыли, крутя гусеницами, навстречу двигались танки.
Глава шестая
Коногонов перевел рассказ председателя.
– Пусть винтовки возьмут! Пусть позовут военных! Зачем «духам» хлеб отдавать? – Кандыбай подхватил автомат, спрыгнул на землю. Подошел к комбайну и цепко, ловко ощупал его сверху донизу. Заглянул под днище, обошел с хвоста. – Машина в порядке! Только бак пустой. Спустили, гады, в землю горючее и пробку тут же бросили… Товарищ лейтенант! – загораясь, становясь как бы тоньше и выше, сказал Кандыбай. – А что, если мы комбайн запустим! Нам своего топлива хватит! Откачаем в комбайн горючее, и я запущу! Здесь дел-то – раз-два!
Коногонов, увлекаясь этой мыслью, разделяя молодое нетерпение сержанта, перевел председателю:
– Мой водитель умеет водить и комбайн. Он просит позволения сесть в кабину и скосить ваше поле.
Председатель молчал. Потом его черные, запавшие, тревожно мигающие глаза вдруг зажглись сухим блеском, как тогда, на митинге, когда на груди у председателя краснел бант, и он прикреплял к трактору красный флажок, и трактор был накрыт ковром, как попоной.
– Пусть косит! – сказал председатель. – Пусть люди увидят, как работает комбайн! Пусть видят – кооператив не умер!
Кандыбай извлек из броневика шланг и мятое ведро. Вдвоем с председателем открыли у броневика бак, затолкали шланг. Кандыбай, оскалив зубы, схватил шланг ртом, засосал топливо. Окунул прозрачно-желтую, остро пахнущую струю в ведро. Когда оно наполнилось, знаками повел за собой расторопного, суетящегося афганца, и они перелили горючее в комбайн. Еще и еще раз.
– А теперь, товарищ лейтенант, смотрите, что мы умеем!
Кандыбай угнездился в кабине. Улыбнулся, подмигнул афганцу. Запустил двигатель. Опробовал рычаги управления, заставив вращаться в комбайне шкивы и колеса. Наполнил железную полую машину гулом и рокотом. Опустил ниже жатку с режущей молнией ножей, с крутящимся, хлопающим воздухом мотовилом. И тронул комбайн вперед.
Алая махина надвинулась на белую стену пшеницы. Коснулась ее. По пшенице побежала, как по воде, волна. И комбайн, утопая в колосьях, вошел в них, выстригая поле, неся перед собой яркий мелькающий вихрь, оставляя сзади колючую рябую стерню.
Люди, опустив серпы, перестали работать. Смотрели на красную грохающую машину, идущую вдоль их поля. Председатель, подпрыгивая, взмахивая руками, стараясь повторить движения мотовила, шкивов, крутящего штурвал комбайнера, бежал по стерне, оглядываясь на Коногонова. Звал за собой, не в поле, а куда-то вверх, ввысь, куда намеревался взлететь вслед за алой огромной птицей.
Комбайн приподнял в хвосте решетку и вывалил спрессованный куб соломы. Золотая, напоминающая слиток копна лучилась, испускала сияние. Коногонов, откинув на спину автомат, ликуя, подошел к копне, к председателю, волочившему на своем башмаке колосок, вздымавшему руки вверх, благодаря то ли небо, то ли сидящего в высокой кабине сержанта.
Комбайн развернулся и пошел обратно. Кандыбай помахал Коногонову. Проежая мимо, обдавая его теплым духом спелых выбитых зерен, грохотом бушующего железа, снова открыл хвостовые ворота, вывалил рядом с первой вторую золоченую башню. И зрелище этой яркой живой копны наполнило Коногонова ликующим чувством.
Здесь, в афганском селении, на истерзанных войною полях, он творил свое негрозное дело. Не стрелял, не губил хлеба, а косил, собирал.
Коногонов вдруг подумал о друге. О сверстнике, с кем дружили в университете. Вечно спорили, превратив свой союз в непрерывную незлобивую распрю. Искали друг друга, чтобы спорить, схлестнуть свои интеллекты, осыпать друг друга упреками, почти рассориться и снова торопиться друг к другу. Часами по телефону обсуждали проблемы истории. Друг изучал древний Псков, тонкую, светлую культуру на северо-западе Руси, уходившую корнями в языческие толщи угро-финнов и кривичей, осевших на озерах и реках. Ездил копать древние жальники, извлекая из погребений бронзовые ожерелья, височные кольца и гривны и хрупкие безымянные кости витязей, рыбаков, земледельцев. Друг упрекал Коногонова в том, что тот отказался от познания отечества, углубился в ислам, питал своим духом чужое дерево, в то время как здесь, в родной истории, был непочатый простор для талантов, смелых открытий, бескорыстного, одного на всю жизнь служения. Друг не хотел принимать его, Коногонова, доводов, что судьба России давно слилась с судьбою народов Востока, и мощный, один из главных векторов русской истории глядит на Восток. В сегодняшней многоликой державе соединилось множество разных народов, в том числе и восточных, питая общее древо, взращенное среди трех океанов.
Вот если бы друг оказался сейчас с ним рядом! Увидел его посреди афганского поля, по которому ходит красный советский комбайн и казах из целинной степи убирает пуштунский хлеб. «Ну какой еще аргумент тебе нужен!»
Он приближался к копне, видя, как председатель, опередив его, торопится навстречу комбайну, сделавшему новый разворот, проглотившему добрую половину поля, разделив пшеницу на ворохи огненно-белой соломы и на невидимое в бункере зерно. Он был погружен в полемику с другом. Обдумывал, как запишет новые, родившиеся на пшеничном поле доводы, в свою сокровенную тетрадь. И люди, что перебегали по другую сторону низкой глинобитной стены, были похожи на других, стоящих у края нивы с серпами. Те же голубоватые и желтоватые перевязи, те же пузырящиеся просторные штаны, тот же поблескивающий в руках металл. И только когда ахнул тугим дымом гранатомет и шипящая, рассыпающая искры струя с огненной головой промчалась мимо него, вонзилась в броневик, лопнула внутри и машина, содрогнувшись, брызнула пламенем, только тогда он понял, что люди за стеной держат в руках оружие и это оружие бьет по нему, Коногонову, пуская вокруг молниеносные свисты.
Он растерялся, остолбенел, забывая упасть. Видел огромными от ужаса глазами всю окрестность разом.
Узко висела, не успев расшириться, дымная трасса, соединившая гранатометчика в серой чалме с горящим броневиком. Комбайн продолжал молотить, и в стеклянной кабине двигался Кандыбай. Председатель бежал, расставив руки, огибая копну. Но Коногонов, в прозрении испуга, понимал, что случилось то, поджидавшее его поминутно, о чем говорили ему постоянно, что до времени его обходило, доставалось другим.
Он увидел, как запнулся, упал председатель. Тонкие красноватые иглы, пощупав его, лежащего, поколов вокруг него поле, поднялись выше, полетели туда, где бежали врассыпную крестьяне, хоронясь в арыке, исчезая в пшенице. Председатель лежал неподвижно, голубея одеждой, и Коногонов вдруг подумал, что в его башмаке все так же торчит колосок.
Выстрелы и трассы сместились, били теперь по комбайну. Коногонов почти телесно ощущал пулевые попадания в краснотелую машину, прострелы в жесть и в стекло. И там, в кабине, в расколотом стеклянном кристалле, они попадали в живое тело, в Кандыбая. Комбайн встал, мотовило продолжало крутиться, молотя пустой воздух. А в кабине метался, ударялся о стеклянные грани сержант. Оседал, пропадал. И эти два почти одновременных попадания – в председателя и Кандыбая, зрелище двух пораженных машин – броневика и комбайна, заставило его очнуться. Паралич, словно больное, сотрясшее его электричество, прокатился сквозь тело, судорогой ушел в землю. Он был теперь один среди открытого поля. В руках у него был автомат. Он был офицер, принимающий бой в одиночку.
Он резко упал на землю. Выставив автомат, полоснул по вершине стены, видя, как задымилась пробитая глина и стрелки спрятали свои головы. Упруго вскочил, заостряясь в беге, увиливая от пуль, метнулся с открытого места к копне, врезаясь в нее, накалываясь на остья соломы. Запах свежевымолоченного зерна, спасительный запах и цвет, становились для него цветом и запахом боя.
Из-за стены стреляли в копну. Он чувствовал, как свинец уходит в солому, застревает в ней, остановленный сплетеньем бесчисленных хрупких стеблей, спасавших ему, Коногонову, жизнь.
Он выглянул, просматривая стену сквозь прорезь своего автомата, помещая ее на матерчатый ком чалмы, спуская крючок. И там, на другом конце простучавшей, умчавшейся очереди раздался крик, поднялся в рост человек и рухнул на стену, свесив вниз руки и голову, переломленный надвое смертью. Другие двое, пригибаясь, пузырясь шароварами, побежали, не стреляя. Коногонов послал им вслед две короткие нервные очереди и не попал.
Было тихо. Никто не стрелял. Он лежал за копной, ожидая повторения атаки. Но атаки не было. На краю пшеничного поля, у груды межевых камней, горел и дымил броневик. На другом конце поля все так же тарахтел, крутил мотовилом застывший комбайн. И фигура сержанта, недвижная, чуть темнела в кабине. На стерне, вытянув голые руки, лежал председатель. Как бы кинувшись навстречу ему, протянув для пожатия руки, висел на стене убитый басмач. И он, Коногонов, живой, лежал у копны между двух убитых, и синее осеннее небо без облачка сияло над ним. И вид этой ясной восточной лазури на мгновение потряс его. Словно чье-то всевидящее и вездесущее око наблюдало за ним, здесь лежащим, не убитым – убившим. Но это потрясение тут же прошло, как недавний паралич, спустилось судорогой в землю.
Он поднялся из-за копны. Тут же присел, ожидая выстрела. Но выстрел не прозвучал. Белело наполовину сжатое поле. Зеленел в отдалении кишлак. И никто не стрелял.
Он держал автомат, готовый к бою. Упруго, на носках, шел по земле, слыша, как хрустит стерня. Подошел к председателю. Увидел, что щека его прижата к земле, глаза выпучены, а в горле, в кадыке, там, куда он недавно показывал пальцем, чернеет дыра. Председатель был мертв. Коногонов, не трогая его, двинулся дальше.
Комбайн смотрел на него своим прожектором, шлепал мотовилом, стучал, что-то говорил, шевелил без устали деревянными лопочущими губами. Коногонов влез по трапу в кабину и увидел, что бункер пробит. Из него тонко, с перерывами льется зерно, будто в бункере билось невидимое сердце, пульсировало, выталкивало струйку пшеницы.
Он открыл дверь кабины и увидел лицо Кандыбая, живое, моргающее. Сержант кивал головой, отталкивал от себя боль, смерть. Его рубаха чернела на животе мокрым пятном. Он дышал и стонал:
– Умираю… Я умираю…
Этот стон, бледное, несчастное лицо отозвалось в Коногонове жаркой торопливой энергией.
– Не умрешь, сержант! А я тебе говорю, не умрешь!
Он расстегнул и откинул его ремень. Задрал хлюпающую рубаху. Увидел кровавый живот с пулевым отверстием. Растерялся, не зная, что делать, пачкаясь кровью. Выхватил из кармана платочек жены с красной вишенкой, наложил на рану. Но платочек был мал, пропитался кровью, вишенки не стало видно. Он бросил платок на железный пол кабины. Скинул с себя рубаху и стал драть ее на жесткие зеленые ленты, приговаривая:
– Не умрешь, сержант, не умрешь!
Неумело, кое-как, причиняя сержанту боль, перевязал ему рану. Схватив под мышки, стянул с сиденья, опустил рядом в тесное, между стенкой и штурвалом, пространство.
– Не умрешь, Кандыбай, не умрешь!
Хлеб из бункера продолжал сочиться. И почти бессознательно он поднял с пола платочек, перепачканный кровью, и сунул в пулевое отверстие бункера, затыкая свищ, прекращая истечение хлеба.
– Не умрешь, сержант, не умрешь!..
Он занял сиденье, оглядывая штурвал, педали и кнопки, не зная, как к ним подступиться. Дома он очень плохо водил машину, не имел водительских прав, не любил механизмы. Теперь он смотрел на штурвал, не умея пустить комбайн.
– Там… – простонал Кандыбай. – Там, слева сцепление…
Не памятью, не умением, а наитием Коногонов пустил комбайн. Толчками, рывками ворочал в разные стороны его огромное неуклюжее тулово, глядя сквозь расколотое стекло на стерню, на крутящееся впереди мотовило.
Подкатил к лежащему на земле председателю. Остановил комбайн и слез. С трудом, надрываясь, поднял мертвое тело, заволок на жатку у самого крутящегося мотовила. И снова залез в кабину.
В стороне догорал броневик. Зеленел кишлак Сабзикер, куда убежали крестьяне, укрылись стрелявшие басмачи. Сержант, потеряв сознание, что-то бормотал в забытьи. Торчал из пробитого бункера шелковый платочек жены. И поле, скошенное наполовину, светилось белой пшеницей. Коногонов, голый по пояс, перепачканный землей и кровью, жал на рычаги и педали.
Автомат лежал у сиденья, готовый стрелять. В лицо сквозь пробитую лучистую скважину дул сквознячок. Коногонов вел по дороге громыхавший, дрожащий комбайн и повторял:
– Не умрет!.. Никто не умрет!..
Смотрел, как клубится дорога. В бурунах пыли, крутя гусеницами, навстречу двигались танки.
Глава шестая
Звякал металл. Солдаты ветошью сбивали с брони пыль. Толкали банники в пушки. Заправщики с урчанием качали в баки горючее. Чумазые, серые от пыли мотострелки, обнаженные по пояс, ополаскивались из ведер. Кричали, хохотали. Опрокидывали на голые плечи и спины брызгающие шумные ворохи, пахло горючим, сталью, потными, разгоряченными телами.
Веретенов шел среди машин, разыскивая в их тесных рядах башню с номером 31. Огибал выброшенные на землю тюфяки, сиденья, боекомплекты, полуголых солдат, вытрясающих пыль из гимнастерок и ботинок.
– Товарищ художник! – его догнал офицер, остановил, смущаясь, не зная, как правильно к нему обратиться. – Подполковник Корнеев просил вас к себе на ужин!
– А как он узнал, что я здесь? – удивился Веретенов. – Ведь я никому не докладывал!
– Видели, как вы к нам идете.
– Ну, Кадацкий, ну, Андрей Поликарпович! Нигде от него не укроешься!..
Они ужинали с Корнеевым в тесном фургоне, куда сквозь окошечко в стене повар в белом халате подавал тарелки с супом, картошку с мясом, все обильное, походное, сваренное неженскими руками. Лицо у командира было утомленным, красным от солнца. Бело-рыжие брови казались седыми на обгорелом лице.
– Мне приказали взять вас с собой, – сказал Корнеев. – Сядете в мой штабной транспортер. Войдем в Герат. Роты уйдут в Деванчу, а мы войдем в крепость и в ней развернем командный пункт. Я и полковник Салех. На башне. Два пункта, мы и афганцы.
– Я знаю крепость, был в ней вчера. – Веретенов вспомнил прокаленные камни цитадели, где разговаривал с археологом, голубоватые черепки на земле, круглую зубчатую башню, на которую хотелось подняться. – Для меня это просто удача! Оттуда я увижу весь город. Смогу поставить этюдник.
– Конечно, сможете. Оттуда весь Герат виден.
– Заранее вам признателен. И заранее прошу извинения, что доставляю вам хлопоты.
Они пили чай, переслащенный, переваренный до черноты. Командир рассеянно мешал и мешал несуществующий, давно растворенный сахар:
– Я знаю, ваш сын служит в роте Молчанова. Я думал об этом. Я вас как отца понимаю. Вы будете с башни смотреть, как воюет сын. Это не каждому отцу выпадает. Я вас понимаю.
– Спасибо, – сказал Веретенов. – Спасибо за добрые слова. Я только хотел вас спросить: то, что завтра ему предстоит, это очень опасно?
– Завтра все сами увидите. В городе две или три тысячи душманов. Они хорошо вооружены. У них есть пулеметы. Есть пушки. Есть зенитные ракеты. Они наверняка заминировали все подступы к Деванче, все ближние улицы. Наверняка расставили снайперов. Два афганских полка пойдут их теснить от окраин. Станут выбивать из убежищ. Возможно, мятежники атакуют центр города. Пойдут на нас. Мы им ответим огнем. Это будет самая сложная и опасная часть операции. Вот все, что я могу вам сказать.
– Спасибо. Я понял, – Веретенов смотрел на усталое, немолодое лицо подполковника. В его руках находилась сыновняя жизнь. Он пошлет завтра сына под пули. И Веретенов не может сказать: «Не посылай!..» Не может выпросить, вымолить сына. Может только подняться на старую башню и смотреть, как воюет сын. И быть может, смотреть, как он гибнет. Смотреть и делать рисунок.
И снова Веретенов подумал: в кажущемся однообразии лиц, сведенных в роты и взводы, нацеленных на единое дело, требующее для своего выполнения именно этого единообразия, в кажущемся усеченном единстве продолжает существовать неповторимое многообразие мук и привязанностей, надежд и верований, связанных с отдельной человеческой жизнью, пересекающей другую жизнь не просто на командном пункте, не в перекрестье прицела, а в загадочном человеческом сердце. И, подумав об этом, сказал:
– Я увидел вас впервые два дня назад, в библиотеке. Вы говорили с тихой и милой женщиной, с библиотекаршей…
– Ее зовут Татьяна Владимировна, – сказал подполковник. – Она, вы, наверное, догадываетесь, очень дорогой для меня человек. Я ведь вдовец. Два года назад жена умерла. Осталось двое детей. Взрослые, сын и дочь. Мы очень хорошо с женой жили. Я горевал. Думал, личная жизнь для меня кончена. Дети большие. Остается только служба. Я и служил. Получил сюда назначение, обрадовался: служба тяжелей, работы больше. Это мне и нужно. А вышло так, что встретил здесь Татьяну Владимировну. И полюбил. Война необъявленная, любовь необъявленная. Я говорю ей: «Давай поженимся!» А она боится. Тоже жизнь за спиной немалая. Свои боли, свои страхи. Я уж в который раз прихожу к ней все с тем же. А она отказывает. «Не теперь, – говорит, – не теперь!» – «А когда же?» – «А вот вернешься, тогда и скажу!» Я удивляюсь: а вдруг не вернусь? Если в она согласилась, если в сказала «да», мне бы ведь легче было завтра на башне стоять. Уверенней… Добрая, чуткая, умная, а этого понять не может!
Он замолчал, а Веретенов подумал: Корнеев, та женщина, сын Петя, два близнеца, раненный миной водитель и он сам, Веретенов, связаны незримой, бегущей от одного к другому волной. И эта волна роднит их всех, связывает в неразделимое целое, с единой на всех задачей, с единой на всех бедой.
– Я сейчас займусь с командирами рот, – сказал подполковник. – Спать приходите в санитарный фургон. Утром я вас подниму, посажу в штабной транспортер.
Они расстались, едва знакомые, но знающие друг о друге нечто глубокое, перенося это знание в завтрашний день, на башню Гератской крепости.
Кругом на земле светились огоньки, как лампады. В маленьких лунках стояли банки с соляркой, копотно и чадно горели. Над ними склонились солдаты. Ставили котелки, алюминиевые кружки, плоские жестянки. Варили, жарили. Тени и свет бежали по лицам, по земле, по броне. То вспыхнет близкий к огню, расширенный глаз, то сверкнет гусеница, то зашипит, загорится, прольется в пыль брызгающее пламя солярки.
Он отыскал боевую машину с номером 31. У кормы в тесном кругу солдат вокруг костерка сразу увидел сына. Как и все, он смотрел на плоскую крышку, в которой шипело масло. Худой тонкорукий солдат кидал в это масло лепешки, в бурлящую трескучую гущу.
– Петька!.. Веретенов!.. Отец твой!.. Да вы садитесь, садитесь к нам! – Рыжый здоровяк, еще более красный от пламени, вскочил, открывая место. Кинул на землю бушлат, приглашая Веретенова. Солдаты обратили к нему свои молодые, живые, исполненные любопытства и радушия лица. Раздвигались, принимали к себе. И он, смущаясь и радуясь, опустился на бушлат, отложив в темноту за спину карандаши и альбом.
– Поужинайте с нами, закусите! – стряпающий солдат насадил на вилку испеченную, истекавшую маслом лепешку, вытащил ее из жира, положил на стопку уже готовых. Кинул в пузыри сырое плоское тесто.
– Да я уже поужинал. – Веретенов вдыхал вкусный жареный дух.
– У нас слаще, почти домашнее!
– Где же ты печь научился? – Веретенов мельком взглянул на сына. Тот молчал, не смотрел на отца, но чувствовалось: не тяготится его появлением. Просто не выдает свою радость.
– Да у матери! Она печь любит. Печет, а я прихожу и смотрю. Нравится мне. Вот и пригодилось!
– Да у него и фамилия – Лепешкин! – засмеялся рыжий здоровяк, положив свою тяжелую руку на плечо тонкорукого.
Все посмеивались, нетерпеливо поглядывали на Лепешкина, на его вкусную стряпню. Ждали, когда нарастет горка печеного теста.
– А ты откуда родом? Чем занимался? – спросил Веретенов рыжеволосого, уже прицеливаясь к очагу, состроенному из мятой банки, к мелькающим теням на броне, к озаренным солдатским лицам. Был готов рисовать ночной солдатский бивак.
– Я-то? Я с Витебской области. А взяли сюда из Москвы. Я по лимиту в Москве работал. В метро. Я мозаичник-облицовщик. Полы в метро выкладывал, на стене делал узор. Мозаику из яшмы и лабрадора. Из яшмы клал зеленое дерево, а из лабрадора должен был розовых птиц вьжладывать. Дерево выложил, а птиц не успел… В армию призвали. Я свое дерево на стене найду, полюбуюсь. Я в Москве хочу жить. Думаю, пропишут меня?
Веретенов легчайшим ударом зрачков оторвал его от этой степи, перенес через долы и реки. Опустил в Москве, на подземную многошумную платформу. Дал насладиться толпой, сверкающим вихрем состава и, когда унеслись голубые вагоны, погас в туннеле улетающий красный огонь, бережно вернул в эту степь, к боевой машине пехоты, к налитой в лунку солярке.
– А ты откуда? Что до армии делал? – Веретенов спрашивал кулинара, а сам уже рисовал. Уже водил карандашом по бумаге, высекал из нее искрящиеся тонкие линии. Бумага чуть слышно звенела, выгибалась, тяжелела. На ней, плоской и пустой, возникали губы, глаза. Она обретала объем. Объем этой ночи, степи, в которой светились молодые свежие лица. И лицо его сына. Лица его сыновей… – Ты-то чем занимался?
– А я сапожник. Из-под Горького. Обувь делаю. Туфли, босоножки, ботинки. По индивидуальному заказу! Ко мне все в поселке идут. Я фасон сам выдумываю. Всем нравится. Иду по улице, а передо мной босоножки мои цокают! На танцплощадку приду – и там мои туфельки танцуют! Я на снегу следы от моих сапожек всегда узнаю. Набоечку я одну придумал с узором. Вот и узнаю на снегу!
Веретенов и его перенес в заснеженный городок, где сосульки, сугробы, ломкая корочка льда. Хрустят по голубому снежку красные тугие сапожки. Обернулось в улыбке девичье лицо. И такая благодать, такой на березе иней, что галка взлетела – и долго сыплется с ветки прохладная белая занавесь.
– А вы, близнецы? – Он рисовал их крепкие круглые головы, выпуклые совиные глаза. – Вы какого роду и звания?
– Мы из-под Гомеля, скотники, – ответил один.
– Скотники мы, – заверил второй.
– За скотиною ходим. – Первый и, видимо, главный, родившийся минутою раньше, задавал в разговорах тон. – На ферме с батей работаем.
– С батей на ферме…
Веретенов переносил их через долы и веси в белорусское лесное село, где мычали на ферме коровы, окутывались дыханием и паром. Вдоль рогов и загривков, вдоль слезных мерцающих глаз скотник в тулупе катил тележку с кормами, и два сына его, в одинаковых тулупах и шапках, махали вилами, сыпали сено в кормушки.
– Угощенье готово! Теперь разбирай! – Лепешкин снял с огня кипящее масло, и пламя в банке опахнуло выше, светлей. Лепешкин раздавал жаркие пышки. Все брали, хрустели. Блестели зубы, зрачки. Шевелились губы.
– И вы берите, вы что же! – Лепешкин угощал Веретенова.
– Да я уже сыт, спасибо!.. Петя, ты мне отломи!..
Сын разломил свой хлебец, протянул неловко отцу. Веретенов, продлив мгновение, разглядывал близкую руку сына, протянувшую ему хлеб точно так же, как днем воду. Принял сыновний дар. Ел с благодарностью подаренный сыном хлеб. Теплую ржаную лепешку, испеченную в афганской степи.
Подходили солдаты от соседних машин. Усаживались, смотрели, как он рисовал. За наброском набросок. Он перевертывал в альбоме листы. Расспрашивал их, лукавил, хотел, чтобы они забыли о нем, забыли о его рисовании. И они забыли. Их разговоры текли помимо него. Они лишь пользовались его присутствием, чтобы что-то друг другу сказать, что-то вымолвить вслух.
– Завтра в Герат войдем, будет жарко! Водителям будет жарко на минных ловушках. Хоть бы трал вперед пустили, на танке! А то опять подорвусь, я чую!
– Мотострелкам не слаще. «Духи» снайперов небось насажали у каждой щели. Из-за дувала пальнул и скрылся. Ищи его там! Витьку-то прямо в лоб, под каску.
– Выкуривать их из домов ох и трудно! Дом-то уходит в землю на три этажа. Наверху люди живут, дом как дом. Ниже скотину держат, вроде хлев. Еще ниже чуланы всякие, барахло, харч. Я как вошел – ба! Да это же дот, а не хата! Гляжу, а там женщина мертвая и рука оторвана!
– А еще киризы, колодцы ихние. Ты говоришь: метро! Вот оно, их метро-то! Туннели по пять километров! В них хоть сто человек может спрятаться. В одном месте в землю уйдут, в другом, у тебя за спиной, выйдут. Раз «бээмпешка» шла. Обвалила кириз. Мы туда заглянули, а там чистая вода течет. Пришлось соляркой залить и поджечь.
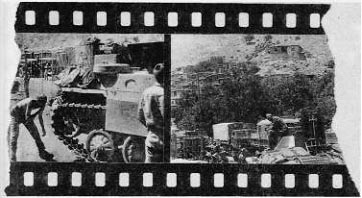 – А как они этой водой управляют! Вроде ручеек небольшой, а все поле обежал, напоил. Кажется, что вода сама в гору идет! Как же это они воду в гору пускают? А если «духи» водой завладеют, это хуже, чем мины! Только подъедешь, они ее во все арыки напустят, – я бы эти арыки все завалил, сровнял!
– А как они этой водой управляют! Вроде ручеек небольшой, а все поле обежал, напоил. Кажется, что вода сама в гору идет! Как же это они воду в гору пускают? А если «духи» водой завладеют, это хуже, чем мины! Только подъедешь, они ее во все арыки напустят, – я бы эти арыки все завалил, сровнял!
– Хуже нет этих арыков, дувалов! Друг в дружку втекают, кружат. Один кончился, другой начинается. Кто-то рядом есть, а кто – не видать! Свой, чужой? Тут чутье надо! Закон кишлака! Боюсь я туда идти!
Веретенов шел среди машин, разыскивая в их тесных рядах башню с номером 31. Огибал выброшенные на землю тюфяки, сиденья, боекомплекты, полуголых солдат, вытрясающих пыль из гимнастерок и ботинок.
– Товарищ художник! – его догнал офицер, остановил, смущаясь, не зная, как правильно к нему обратиться. – Подполковник Корнеев просил вас к себе на ужин!
– А как он узнал, что я здесь? – удивился Веретенов. – Ведь я никому не докладывал!
– Видели, как вы к нам идете.
– Ну, Кадацкий, ну, Андрей Поликарпович! Нигде от него не укроешься!..
Они ужинали с Корнеевым в тесном фургоне, куда сквозь окошечко в стене повар в белом халате подавал тарелки с супом, картошку с мясом, все обильное, походное, сваренное неженскими руками. Лицо у командира было утомленным, красным от солнца. Бело-рыжие брови казались седыми на обгорелом лице.
– Мне приказали взять вас с собой, – сказал Корнеев. – Сядете в мой штабной транспортер. Войдем в Герат. Роты уйдут в Деванчу, а мы войдем в крепость и в ней развернем командный пункт. Я и полковник Салех. На башне. Два пункта, мы и афганцы.
– Я знаю крепость, был в ней вчера. – Веретенов вспомнил прокаленные камни цитадели, где разговаривал с археологом, голубоватые черепки на земле, круглую зубчатую башню, на которую хотелось подняться. – Для меня это просто удача! Оттуда я увижу весь город. Смогу поставить этюдник.
– Конечно, сможете. Оттуда весь Герат виден.
– Заранее вам признателен. И заранее прошу извинения, что доставляю вам хлопоты.
Они пили чай, переслащенный, переваренный до черноты. Командир рассеянно мешал и мешал несуществующий, давно растворенный сахар:
– Я знаю, ваш сын служит в роте Молчанова. Я думал об этом. Я вас как отца понимаю. Вы будете с башни смотреть, как воюет сын. Это не каждому отцу выпадает. Я вас понимаю.
– Спасибо, – сказал Веретенов. – Спасибо за добрые слова. Я только хотел вас спросить: то, что завтра ему предстоит, это очень опасно?
– Завтра все сами увидите. В городе две или три тысячи душманов. Они хорошо вооружены. У них есть пулеметы. Есть пушки. Есть зенитные ракеты. Они наверняка заминировали все подступы к Деванче, все ближние улицы. Наверняка расставили снайперов. Два афганских полка пойдут их теснить от окраин. Станут выбивать из убежищ. Возможно, мятежники атакуют центр города. Пойдут на нас. Мы им ответим огнем. Это будет самая сложная и опасная часть операции. Вот все, что я могу вам сказать.
– Спасибо. Я понял, – Веретенов смотрел на усталое, немолодое лицо подполковника. В его руках находилась сыновняя жизнь. Он пошлет завтра сына под пули. И Веретенов не может сказать: «Не посылай!..» Не может выпросить, вымолить сына. Может только подняться на старую башню и смотреть, как воюет сын. И быть может, смотреть, как он гибнет. Смотреть и делать рисунок.
И снова Веретенов подумал: в кажущемся однообразии лиц, сведенных в роты и взводы, нацеленных на единое дело, требующее для своего выполнения именно этого единообразия, в кажущемся усеченном единстве продолжает существовать неповторимое многообразие мук и привязанностей, надежд и верований, связанных с отдельной человеческой жизнью, пересекающей другую жизнь не просто на командном пункте, не в перекрестье прицела, а в загадочном человеческом сердце. И, подумав об этом, сказал:
– Я увидел вас впервые два дня назад, в библиотеке. Вы говорили с тихой и милой женщиной, с библиотекаршей…
– Ее зовут Татьяна Владимировна, – сказал подполковник. – Она, вы, наверное, догадываетесь, очень дорогой для меня человек. Я ведь вдовец. Два года назад жена умерла. Осталось двое детей. Взрослые, сын и дочь. Мы очень хорошо с женой жили. Я горевал. Думал, личная жизнь для меня кончена. Дети большие. Остается только служба. Я и служил. Получил сюда назначение, обрадовался: служба тяжелей, работы больше. Это мне и нужно. А вышло так, что встретил здесь Татьяну Владимировну. И полюбил. Война необъявленная, любовь необъявленная. Я говорю ей: «Давай поженимся!» А она боится. Тоже жизнь за спиной немалая. Свои боли, свои страхи. Я уж в который раз прихожу к ней все с тем же. А она отказывает. «Не теперь, – говорит, – не теперь!» – «А когда же?» – «А вот вернешься, тогда и скажу!» Я удивляюсь: а вдруг не вернусь? Если в она согласилась, если в сказала «да», мне бы ведь легче было завтра на башне стоять. Уверенней… Добрая, чуткая, умная, а этого понять не может!
Он замолчал, а Веретенов подумал: Корнеев, та женщина, сын Петя, два близнеца, раненный миной водитель и он сам, Веретенов, связаны незримой, бегущей от одного к другому волной. И эта волна роднит их всех, связывает в неразделимое целое, с единой на всех задачей, с единой на всех бедой.
– Я сейчас займусь с командирами рот, – сказал подполковник. – Спать приходите в санитарный фургон. Утром я вас подниму, посажу в штабной транспортер.
Они расстались, едва знакомые, но знающие друг о друге нечто глубокое, перенося это знание в завтрашний день, на башню Гератской крепости.
* * *
Он вышел из фургона. Было темно. Та ясная синяя тьма, в которой много исчезнувшего недавно света, и первые звезды одиноко и влажно мерцают, и в этих первых мгновениях ночи в немолодой остывшей душе воскреснет не юность, а воспоминание о юности, не счастье, а воспоминание о счастье, не чудо, а его слабый угасающий след.Кругом на земле светились огоньки, как лампады. В маленьких лунках стояли банки с соляркой, копотно и чадно горели. Над ними склонились солдаты. Ставили котелки, алюминиевые кружки, плоские жестянки. Варили, жарили. Тени и свет бежали по лицам, по земле, по броне. То вспыхнет близкий к огню, расширенный глаз, то сверкнет гусеница, то зашипит, загорится, прольется в пыль брызгающее пламя солярки.
Он отыскал боевую машину с номером 31. У кормы в тесном кругу солдат вокруг костерка сразу увидел сына. Как и все, он смотрел на плоскую крышку, в которой шипело масло. Худой тонкорукий солдат кидал в это масло лепешки, в бурлящую трескучую гущу.
– Петька!.. Веретенов!.. Отец твой!.. Да вы садитесь, садитесь к нам! – Рыжый здоровяк, еще более красный от пламени, вскочил, открывая место. Кинул на землю бушлат, приглашая Веретенова. Солдаты обратили к нему свои молодые, живые, исполненные любопытства и радушия лица. Раздвигались, принимали к себе. И он, смущаясь и радуясь, опустился на бушлат, отложив в темноту за спину карандаши и альбом.
– Поужинайте с нами, закусите! – стряпающий солдат насадил на вилку испеченную, истекавшую маслом лепешку, вытащил ее из жира, положил на стопку уже готовых. Кинул в пузыри сырое плоское тесто.
– Да я уже поужинал. – Веретенов вдыхал вкусный жареный дух.
– У нас слаще, почти домашнее!
– Где же ты печь научился? – Веретенов мельком взглянул на сына. Тот молчал, не смотрел на отца, но чувствовалось: не тяготится его появлением. Просто не выдает свою радость.
– Да у матери! Она печь любит. Печет, а я прихожу и смотрю. Нравится мне. Вот и пригодилось!
– Да у него и фамилия – Лепешкин! – засмеялся рыжий здоровяк, положив свою тяжелую руку на плечо тонкорукого.
Все посмеивались, нетерпеливо поглядывали на Лепешкина, на его вкусную стряпню. Ждали, когда нарастет горка печеного теста.
– А ты откуда родом? Чем занимался? – спросил Веретенов рыжеволосого, уже прицеливаясь к очагу, состроенному из мятой банки, к мелькающим теням на броне, к озаренным солдатским лицам. Был готов рисовать ночной солдатский бивак.
– Я-то? Я с Витебской области. А взяли сюда из Москвы. Я по лимиту в Москве работал. В метро. Я мозаичник-облицовщик. Полы в метро выкладывал, на стене делал узор. Мозаику из яшмы и лабрадора. Из яшмы клал зеленое дерево, а из лабрадора должен был розовых птиц вьжладывать. Дерево выложил, а птиц не успел… В армию призвали. Я свое дерево на стене найду, полюбуюсь. Я в Москве хочу жить. Думаю, пропишут меня?
Веретенов легчайшим ударом зрачков оторвал его от этой степи, перенес через долы и реки. Опустил в Москве, на подземную многошумную платформу. Дал насладиться толпой, сверкающим вихрем состава и, когда унеслись голубые вагоны, погас в туннеле улетающий красный огонь, бережно вернул в эту степь, к боевой машине пехоты, к налитой в лунку солярке.
– А ты откуда? Что до армии делал? – Веретенов спрашивал кулинара, а сам уже рисовал. Уже водил карандашом по бумаге, высекал из нее искрящиеся тонкие линии. Бумага чуть слышно звенела, выгибалась, тяжелела. На ней, плоской и пустой, возникали губы, глаза. Она обретала объем. Объем этой ночи, степи, в которой светились молодые свежие лица. И лицо его сына. Лица его сыновей… – Ты-то чем занимался?
– А я сапожник. Из-под Горького. Обувь делаю. Туфли, босоножки, ботинки. По индивидуальному заказу! Ко мне все в поселке идут. Я фасон сам выдумываю. Всем нравится. Иду по улице, а передо мной босоножки мои цокают! На танцплощадку приду – и там мои туфельки танцуют! Я на снегу следы от моих сапожек всегда узнаю. Набоечку я одну придумал с узором. Вот и узнаю на снегу!
Веретенов и его перенес в заснеженный городок, где сосульки, сугробы, ломкая корочка льда. Хрустят по голубому снежку красные тугие сапожки. Обернулось в улыбке девичье лицо. И такая благодать, такой на березе иней, что галка взлетела – и долго сыплется с ветки прохладная белая занавесь.
– А вы, близнецы? – Он рисовал их крепкие круглые головы, выпуклые совиные глаза. – Вы какого роду и звания?
– Мы из-под Гомеля, скотники, – ответил один.
– Скотники мы, – заверил второй.
– За скотиною ходим. – Первый и, видимо, главный, родившийся минутою раньше, задавал в разговорах тон. – На ферме с батей работаем.
– С батей на ферме…
Веретенов переносил их через долы и веси в белорусское лесное село, где мычали на ферме коровы, окутывались дыханием и паром. Вдоль рогов и загривков, вдоль слезных мерцающих глаз скотник в тулупе катил тележку с кормами, и два сына его, в одинаковых тулупах и шапках, махали вилами, сыпали сено в кормушки.
– Угощенье готово! Теперь разбирай! – Лепешкин снял с огня кипящее масло, и пламя в банке опахнуло выше, светлей. Лепешкин раздавал жаркие пышки. Все брали, хрустели. Блестели зубы, зрачки. Шевелились губы.
– И вы берите, вы что же! – Лепешкин угощал Веретенова.
– Да я уже сыт, спасибо!.. Петя, ты мне отломи!..
Сын разломил свой хлебец, протянул неловко отцу. Веретенов, продлив мгновение, разглядывал близкую руку сына, протянувшую ему хлеб точно так же, как днем воду. Принял сыновний дар. Ел с благодарностью подаренный сыном хлеб. Теплую ржаную лепешку, испеченную в афганской степи.
Подходили солдаты от соседних машин. Усаживались, смотрели, как он рисовал. За наброском набросок. Он перевертывал в альбоме листы. Расспрашивал их, лукавил, хотел, чтобы они забыли о нем, забыли о его рисовании. И они забыли. Их разговоры текли помимо него. Они лишь пользовались его присутствием, чтобы что-то друг другу сказать, что-то вымолвить вслух.
– Завтра в Герат войдем, будет жарко! Водителям будет жарко на минных ловушках. Хоть бы трал вперед пустили, на танке! А то опять подорвусь, я чую!
– Мотострелкам не слаще. «Духи» снайперов небось насажали у каждой щели. Из-за дувала пальнул и скрылся. Ищи его там! Витьку-то прямо в лоб, под каску.
– Выкуривать их из домов ох и трудно! Дом-то уходит в землю на три этажа. Наверху люди живут, дом как дом. Ниже скотину держат, вроде хлев. Еще ниже чуланы всякие, барахло, харч. Я как вошел – ба! Да это же дот, а не хата! Гляжу, а там женщина мертвая и рука оторвана!
– А еще киризы, колодцы ихние. Ты говоришь: метро! Вот оно, их метро-то! Туннели по пять километров! В них хоть сто человек может спрятаться. В одном месте в землю уйдут, в другом, у тебя за спиной, выйдут. Раз «бээмпешка» шла. Обвалила кириз. Мы туда заглянули, а там чистая вода течет. Пришлось соляркой залить и поджечь.
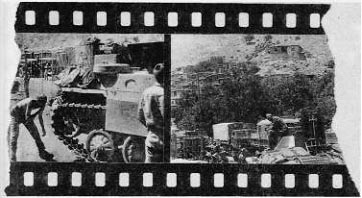
– Хуже нет этих арыков, дувалов! Друг в дружку втекают, кружат. Один кончился, другой начинается. Кто-то рядом есть, а кто – не видать! Свой, чужой? Тут чутье надо! Закон кишлака! Боюсь я туда идти!
