Страница:
Значит, мы были правы? Ах, если бы можно было продолжать эти впрыскивания! Быть может, нам удалось бы одержать двойную победу, двойную, потому что мы не только спасли бы Катеньку Стогину, но доказали бы, что с помощью крустозина можно спасти не одну, а тысячи человеческих жизней.
Но крустозина не было, и никакими силами невозможно было заставить плесневой грибок ускорить свою работу. Крустозина не было, и Катеньке стало хуже, и Стогин звонил и приезжал, и сидел в вестибюле, опустив голову, провожая каждого входящего и уходящего остановившимся взглядом. Он унес из лаборатории бульон (питательную среду, на которой растет грибок). Девочка выпила этот бульон. Разумеется, это не принесло ей – и не могло принести – ни малейшего облегчения.
Враг, с которым мы так и не справились, – время – продолжал действовать против нас. На любом лабораторном столе можно было найти пробирку со старым, потерявшим активность крустозином. А в термостатах медленно вырастал плесневой грибок, из которого можно было приготовить свежий препарат только через девять-десять дней после посева.
Мы с Леной поехали к профессору Вишнякову, одному из лучших терапевтов Советского Союза, и привезли его к больной, вернее было бы сказать – к умирающей. Профессор выслушал ее, посмотрел анализы, температурный листок.
– Так вы думаете, Татьяна Петровна, что улучшение наступило после впрыскивания вашего препарата?
– Да. Но препарата больше нет. Чтобы приготовить его, нужно время.
Грузный человек с умными усталыми глазами внимательно слушал, подняв большие старческие брови.
– Еще хотя бы два-три дня, и, быть может, ее удастся спасти.
Он чуть-чуть улыбнулся и печально пожал плечами.
– Я бы хотел, чтобы это было так. Ну что ж, сделаем все, что возможно.
Я почти не выходила из лаборатории и не знаю, как он боролся с надвигавшейся смертью, какими средствами воспользовался, чтобы отвоевать эти немногие дни. Но борьба шла, непрерывная, неустанная, острая.
Кажется, и мы сделали все, что могли за эти стремительно пролетевшие дни! Матрацы с питательной средой, на которой росла зеленая плесень, длинными рядами выстроились во всех термостатах. Везде, куда ни взглянешь, стояли эти плоские сосуды, и в каждом – мы были в этом уверены – таилась частица жизни, которую мы хотели вернуть Кате Стогиной, вернуть во что бы то ни стало!
К исходу третьего дня нам удалось приготовить препарат, и ассистенты Вишнякова стали вводить его внутривенно по пять кубиков через каждые три часа.
…Все перепуталось – дни и ночи. Все сдвинулось, смешалось: работа, какие-то дела, отчеты, отпуска – то, что еще неделю назад могло, казалось, существовать одновременно и независимо от болезни Кати. И все соединилось у постели маленькой худенькой девочки, лежавшей на высокой подушке с крепко затянутой полотенцем головой.
Все то же. Маленькая надежда. Никакой надежды. Как будто меньше одышка? Снова надежда.
Умное, с пристальным взглядом лицо Вишнякова, часами изучающего новое «воскресение из мертвых». Напряженно наблюдаем и мы. Час за часом. Ночью и днем. Меняется ли – и в чем – картина болезни? Так все-таки есть надежда? Да, может быть. Осторожные недомолвки врачей.
И все-таки девочке становится легче. Температура падает. Уменьшается резкая бледность. Давно миновали три дня, которые я требовала у знаменитого терапевта, а Катя живет…
– И будет жить? – спрашиваю я Вишнякова, который поздним вечером выходит из дома на Крымской площади. Мы с Леной провожаем его, и он идет между нами, задумчивый, рассеянный, тяжело опираясь на палку.
– Пока я могу сказать только одно: вот уже скоро сорок лет, как я наблюдаю эту тяжелую болезнь, и впервые не узнал ее. Вы совершили чудо. Но одна ласточка не делает весны. Будущее покажет.
Да, будущее покажет. Прошлую ночь мы почти не спали, но почему-то не хочется спать – ясный вечер, много гуляющих, светло.
– У тебя бывает когда-нибудь такое чувство, Танечка, что кончается одна полоса жизни и наступает другая?
– Бывает. И всегда хочется заглянуть в это новое, угадать его.
Мы с Леной идем по Кропоткинской, по бульварам. Каждая ветка нежной молодой зелени отчетливо видна под светом и повторяется в тонком рисунке теней на земле.
– У меня сегодня была такая минута… когда я посмотрела Кате в глаза и поняла, что она будет жить. И что это сделали мы.
– А помнишь тот вечер, когда мы кончили институт и собрались у моей подруги – не институтской, а лопахинской? У Нины. Вот когда мы пытались заглянуть в будущее! И оно казалось нам таинственным, сложным, необыкновенным.
Мы свернули в переулок. Здесь было темнее, чем на бульваре, но зато мы увидели звезды.
– Знаешь, какие у нее были глаза? Как у очень маленьких детей, когда они впервые начинают сознательно видеть… Теперь ты согласна, Таня, что пора публиковать нашу работу?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
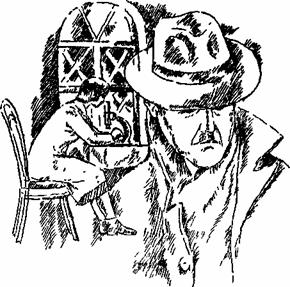
Глава первая
ВСТУПЛЕНИЕ
КРУТОЙ ПОВОРОТ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Но крустозина не было, и никакими силами невозможно было заставить плесневой грибок ускорить свою работу. Крустозина не было, и Катеньке стало хуже, и Стогин звонил и приезжал, и сидел в вестибюле, опустив голову, провожая каждого входящего и уходящего остановившимся взглядом. Он унес из лаборатории бульон (питательную среду, на которой растет грибок). Девочка выпила этот бульон. Разумеется, это не принесло ей – и не могло принести – ни малейшего облегчения.
Враг, с которым мы так и не справились, – время – продолжал действовать против нас. На любом лабораторном столе можно было найти пробирку со старым, потерявшим активность крустозином. А в термостатах медленно вырастал плесневой грибок, из которого можно было приготовить свежий препарат только через девять-десять дней после посева.
Мы с Леной поехали к профессору Вишнякову, одному из лучших терапевтов Советского Союза, и привезли его к больной, вернее было бы сказать – к умирающей. Профессор выслушал ее, посмотрел анализы, температурный листок.
– Так вы думаете, Татьяна Петровна, что улучшение наступило после впрыскивания вашего препарата?
– Да. Но препарата больше нет. Чтобы приготовить его, нужно время.
Грузный человек с умными усталыми глазами внимательно слушал, подняв большие старческие брови.
– Еще хотя бы два-три дня, и, быть может, ее удастся спасти.
Он чуть-чуть улыбнулся и печально пожал плечами.
– Я бы хотел, чтобы это было так. Ну что ж, сделаем все, что возможно.
Я почти не выходила из лаборатории и не знаю, как он боролся с надвигавшейся смертью, какими средствами воспользовался, чтобы отвоевать эти немногие дни. Но борьба шла, непрерывная, неустанная, острая.
Кажется, и мы сделали все, что могли за эти стремительно пролетевшие дни! Матрацы с питательной средой, на которой росла зеленая плесень, длинными рядами выстроились во всех термостатах. Везде, куда ни взглянешь, стояли эти плоские сосуды, и в каждом – мы были в этом уверены – таилась частица жизни, которую мы хотели вернуть Кате Стогиной, вернуть во что бы то ни стало!
К исходу третьего дня нам удалось приготовить препарат, и ассистенты Вишнякова стали вводить его внутривенно по пять кубиков через каждые три часа.
…Все перепуталось – дни и ночи. Все сдвинулось, смешалось: работа, какие-то дела, отчеты, отпуска – то, что еще неделю назад могло, казалось, существовать одновременно и независимо от болезни Кати. И все соединилось у постели маленькой худенькой девочки, лежавшей на высокой подушке с крепко затянутой полотенцем головой.
Все то же. Маленькая надежда. Никакой надежды. Как будто меньше одышка? Снова надежда.
Умное, с пристальным взглядом лицо Вишнякова, часами изучающего новое «воскресение из мертвых». Напряженно наблюдаем и мы. Час за часом. Ночью и днем. Меняется ли – и в чем – картина болезни? Так все-таки есть надежда? Да, может быть. Осторожные недомолвки врачей.
И все-таки девочке становится легче. Температура падает. Уменьшается резкая бледность. Давно миновали три дня, которые я требовала у знаменитого терапевта, а Катя живет…
– И будет жить? – спрашиваю я Вишнякова, который поздним вечером выходит из дома на Крымской площади. Мы с Леной провожаем его, и он идет между нами, задумчивый, рассеянный, тяжело опираясь на палку.
– Пока я могу сказать только одно: вот уже скоро сорок лет, как я наблюдаю эту тяжелую болезнь, и впервые не узнал ее. Вы совершили чудо. Но одна ласточка не делает весны. Будущее покажет.
Да, будущее покажет. Прошлую ночь мы почти не спали, но почему-то не хочется спать – ясный вечер, много гуляющих, светло.
– У тебя бывает когда-нибудь такое чувство, Танечка, что кончается одна полоса жизни и наступает другая?
– Бывает. И всегда хочется заглянуть в это новое, угадать его.
Мы с Леной идем по Кропоткинской, по бульварам. Каждая ветка нежной молодой зелени отчетливо видна под светом и повторяется в тонком рисунке теней на земле.
– У меня сегодня была такая минута… когда я посмотрела Кате в глаза и поняла, что она будет жить. И что это сделали мы.
– А помнишь тот вечер, когда мы кончили институт и собрались у моей подруги – не институтской, а лопахинской? У Нины. Вот когда мы пытались заглянуть в будущее! И оно казалось нам таинственным, сложным, необыкновенным.
Мы свернули в переулок. Здесь было темнее, чем на бульваре, но зато мы увидели звезды.
– Знаешь, какие у нее были глаза? Как у очень маленьких детей, когда они впервые начинают сознательно видеть… Теперь ты согласна, Таня, что пора публиковать нашу работу?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
НАДЕЖДЫ
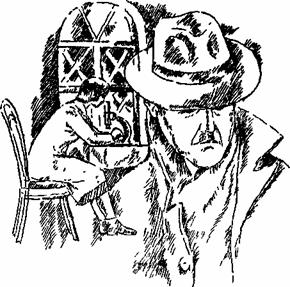
Глава первая
А ЖИЗНЬ ИДЕТ
ВСТУПЛЕНИЕ
– Москва, Москва… Да вы садитесь, товарищ Власенкова. Длинная история. Не дают нам Москву!
Дождь стучит по крыше маленького здания телеграфа в маленьком пограничном городке. Заливает окна, журчит вдоль панели, брызгая, выбегает из водосточной трубы. Без отдыха, без умолку. На стеклах, в сливающихся струях воды переламывается свет фонаря.
– Подождем, товарищ Власенкова. Видно, Москве не до нас!
Да, подождем. Телеграфистка похожа на Машеньку Спешневу – худенькая, прямая, с мягкими движениями, с нежным лицом. Я смотрю, как она работает – тонкие пальцы ловко, с треском вставляют в гнезда шнуры.
– Вы бы прилегли, товарищ Власенкова. У вас лицо усталое. Я разбужу, когда дадут Москву.
– Спасибо. Я подожду.
А ведь правда, как хочется спать! Дождь стучит успокоительно, равномерно, и под это постукиванье и журчанье, под этот раздробленный, пробегающий топот спит городок. За десять тысяч километров от фронта, от Москвы, от всего, о чем говорено-переговорено, думано-передумано, спит городок. Что же делаем мы в эту ночь, в эти дни, за десять тысяч километров от фронта?
«Проводим мероприятия» – за кордоном были случаи азиатской холеры. Даем бактериограф – пограничникам и населению. Всех приезжающих из-за рубежа сажаем на шесть дней в карантин. Уничтожаем продукты, которые они привозят с собой. Встречаем пароходы, дезинфицируем грузы…
Нет холеры, ложная тревога! Давно пора возвращаться в Москву. Нельзя вернуться, нет приказа. Нельзя вернуться, молчит, не отвечает Москва.
– Алло, кто на проводе? Вызываю Москву.
Все мешается в голове. Сплю и не сплю. Андрей выходит из темноты, из туманного света, который, дрожа, переливается на залитом водой стекле. Где ты, мой дорогой? Здоров ли? Почему, не дождавшись меня, отправил Павлика с бабушкой в Лопахин – ведь мы условились, что они будут ждать моего возвращения в Москву? Почему в Лопахин, где у нас давно уже нет ни родных, ни друзей? Ах, как беспокойно, тревожно на сердце! Как волнуется, томится душа!
– Москва, Москва… Занят провод. Не отвечает Москва.
Завернутый в газету завтрак лежит в кармане пальто. Я разворачиваю газету. «Особенно ожесточенные бои происходили на Клинском, Волоколамском, Тульском и Ростовском (Ростов-на-Дону) участках». В десятый раз я перечитываю последнюю сводку.
– Хотите бутерброд?
– Спасибо, некогда.
Сплю и не сплю. Стучит дождь, стучит девушка телеграфным ключом. Полно, да в Термезе ли я? Просторный город с раскинувшейся, просторной рекой открывается передо мной. Ростов? Фонари нежно и ярко освещают липы бульвара. Где Митя? «Скучаю без вас, – писал он в последнем письме. – Ну, не преступленье ли, что мы видимся так редко?»
Да, мы могли видеться чаще. Не так уж много на свете людей, без которых хотя и можно, но не очень хочется жить. Зачем же мы – я и Андрей – позволили, чтобы он столько лет, семь или восемь, прожил так далеко от нас? Он один, у него не удалась – кажется, не удалась? – жизнь. Он стареет, у него поседели виски. Что придумать, как поступить, чтобы он вернулся в Москву?
Поздно. Неподвижно висят черные, страшно освещенные тучи – над полями и лесами, над морями и реками, над городами и селами.
– Москва, Москва! Не отвечает Москва.
Дверь хлопает, я открываю глаза. Высокий человек с мокрым лицом, в мокром плаще входит в комнату. Это Виктор Мерзляков – наяву, не во сне.
– Татьяна Петровна, я пришел вас сменить. Я у хозяйки зонтик взял. Вот он. Идите к себе, отдохните.
– Зачем вы вскочили, Витя? Мне нельзя уйти. А ну, как уйду – и дадут?
– Москва, Москва… Кто на проводе? Москва? Центр шесть шестьдесят один пятьдесять четыре. Алло! Товарищ Власенкова, возьмите трубку.
– Дежурный по Наркомздраву слушает.
– Дайте Малышева… Михаил Алексеевич, это вы? Говорит Власенкова.
– Слушаю вас, Татьяна Петровна.
– Докладываю: работа полностью закончена. Предположения не подтвердились. Прошу разрешения вылететь в Москву.
– Нет, Татьяна Петровна. Вылетайте в Ташкент.
– В Ташкент?
– Да. На месте получите спецзадание.
Пауза.
– Одна или с группой?
– Кто с вами?
– Мерзляков и два лаборанта.
– Мерзлякова оставьте для дальнейшего наблюдения.
– Михаил Алексеевич, а вы не думаете, что в Москве я…
– Поменьше вопросов, Татьяна Петровна. Институт эвакуирован в тыл.
Снова пауза.
– Андрея Дмитриевича видел на днях. Вернулся с фронта и опять уехал. Справлялся о вас. Сообщил ему, что вы живы-здоровы.
– Я-то что! Вы как?
– В порядке. Тороплюсь. Желаю счастья, Татьяна Петровна.
– Желаю счастья.
…Мы выходим на улицу, и Виктор раскрывает надо мной огромный, рыжий, старомодный зонт.
Дождь усиливается. Словно в бешеной битве, кружатся, сталкиваются, сливаются капли. Барабанят по крышам. Бегут по ночной пустынной улице спящего пограничного городка.
– Стало быть, я здесь остаюсь? Ну что же! И здесь найдется работа. Татьяна Петровна, как вы думаете, а что, если на пробу залить фагом колодцы? Ведь, собственно говоря… Да вы, никак, плачете, Татьяна Петровна?
– Что вы, Витя! Это дождь. Когда же наконец кончится этот надоедливый дождь? Зайдем к начальнику погранотряда, Витя. Нужно справиться, когда идет самолет на Ташкент.
Почему с такой остротой запомнилась мне эта ночь в Термезе? Потому ли, что еще непривычными были горькие впечатления войны? Или потому, что я томилась сознанием оторванности, заброшенности в этом чистеньком, утонувшем в садах городке? Не знаю. Вскоре я поняла, что это – ложное чувство. Но тогда мне казалось, что все, чем мы занимаемся, в нескольких тысячах километров от фронта, не имеет и не может иметь ни малейшего отношения к тяжкому испытанию войны.
…Я получила письмо из Лопахина: Агния Петровна сняла комнату на Малой Михайловской, недалеко от того дома, в котором когда-то жили мы с мамой. Знакомых она не нашла, кроме какого-то Дедюлина, который в те годы, когда Агния Петровна заведовала Домом культуры, работал в этом доме монтером. Но зато она случайно на улице встретилась с Агашей – той самой толстой, доброй, пугливой Агашей, которая еще до революции служила у Львовых. И Агаша, по старой памяти, взялась помогать бабушке по хозяйству. Я радостно вздохнула, прочтя эти строки: на Агашу, со всеми ее причудами, запомнившимися с детства, все же можно было положиться. Впрочем, и бабушка, судя по этому письму, была настроена бодро. Я боялась, что она растеряется, – нет! Фразы были короткие, почерк решительный, твердый, и по всему было видно, что Агния Петровна снова почувствовала себя прежней энергичной, деятельной, вырастившей двух сыновей хозяйкой «Депо проката роялей и пианино».
Андрей вернулся с фронта и с августа жил в Москве, один, в новой квартире в Серебряном переулке, которую мы получили перед самой войной. «Мы обменялись профессиями, – писал он, – ты стала, как сказал Маяковский, „певцом воды кипяченой и ярым врагом воды сырой“, а я засел в лабораторию и занимаюсь известной тебе вакциной. Пока ничего не получается или почти ничего, причем дед утверждает, что на это „почти“ он наткнулся еще в конце прошлого века. Я спросил: почему же в таком случае он бросил работу, и он ответил, что занялся другой, „менее безнадежной“. Каков, а?»
Дед – это был Никольский, который, несмотря на все настояния родных и друзей, отказался уехать из Москвы, а вакцина, над которой работал Андрей, была вакциной против сыпного тифа. Что касается выражения «засел в лабораторию», то нетрудно было догадаться, что Андрей принимает желаемое за совершившееся, потому что он был назначен директором большого производственного института и в своей лаборатории мог бывать, увы, не больше двух-трех раз в неделю.
О том, каждый ли день он обедает, он не писал, а когда я наконец рассердилась, ответил, что на работе так хорошо, тепло и уютно, что он подчас предпочитает ночевать в институте, тем более что непривычно большая квартира без меня и Павлика представляется ему чем-то вроде пустыни Гоби…
Мы долго ничего не знали о Мите, а между тем кого только я не расспрашивала о нем! Куда ни закинула бы меня судьба или, точнее сказать, опасность эпидемической вспышки, везде я прежде всего искала ростовчан и, найдя, расспрашивала о Мите. Один военный врач, с которым я познакомилась в самолете, сказал, что Митя с лабораторией эвакуировался в Нальчик, – я немедленно написала туда и не получила ответа. В Красноводске какая-то медсестра, узнав, что я навожу справки о Мите, разыскала меня и, наговорив с три короба, напугала до смерти. Митя, по ее словам, тяжело заболел накануне отхода наших войск из Ростова и, безусловно, остался бы в городе, если бы не доктор Гордеева, которая спрятала его в погребе, выходила, а потом бежала с ним к партизанам. Я не поверила этой истории – мне показалось странным, что медсестра отзывалась о Мите с истерической восторженностью, а потом проговорилась, что видела его только раз на публичной лекции в Доме санитарной культуры. Но как я ни убеждала себя, что нельзя верить ни одному слову этой болтливой неприятной женщины, а все-таки думалось: ведь взялся же откуда-то этот слух! И тревожно, тоскливо становилось на сердце.
Я написала Андрею, и он согласился со мной, что все это вздор. Но что было делать с Агнией Петровной, которая каждое письмо начинала с вопроса: где Митя? «Только не скрывайте правды, – просила она. – Сердце чувствует, что с ним случилась беда, и лучше мне все сразу узнать, чем медленно убьет меня неизвестность».
Прошло два-три месяца, и вдруг – это было в Ташкенте, в конце декабря – один знакомый микробиолог спросил меня: «Вы знаете, что вас разыскивает Дмитрий Дмитриевич Львов?»
– Дмитрий Дмитриевич? Да ведь я же сама его разыскиваю вот уже полгода!
– А он – вас. Или брата.
Я бросилась в институт, нашла этот, больше месяца пролежавший в канцелярии, узенький драгоценный листок – и сразу точно чья-то рука отвалила камень от сердца. Это был краткий, в двух словах, запрос обо мне и Андрее: не знают ли в институте, куда мы уехали из Москвы? Под Митиной – несомненно, Митиной – подписью стоял номер полевой почты.
Точно такой же запрос я нашла через две недели в Астраханском, потом в Куйбышевском бакинститутах. Митя поступил просто: он написал директорам всех бакинститутов – знакомым и незнакомым, справедливо рассчитав, что микробиологи должны знать, куда эвакуировались их товарищи по работе. В том, что мы с Андреем эвакуировались, он почему-то не сомневался.
Где же он пропадал так долго? Почему, когда мы наконец списались, ответил на мои вопросы глухо, невнятно, упомянув между строк, что прошел пешком больше тысячи километров? «Все расскажу при встрече. А вот встретимся ли, где и когда? Кто знает?»
Дождь стучит по крыше маленького здания телеграфа в маленьком пограничном городке. Заливает окна, журчит вдоль панели, брызгая, выбегает из водосточной трубы. Без отдыха, без умолку. На стеклах, в сливающихся струях воды переламывается свет фонаря.
– Подождем, товарищ Власенкова. Видно, Москве не до нас!
Да, подождем. Телеграфистка похожа на Машеньку Спешневу – худенькая, прямая, с мягкими движениями, с нежным лицом. Я смотрю, как она работает – тонкие пальцы ловко, с треском вставляют в гнезда шнуры.
– Вы бы прилегли, товарищ Власенкова. У вас лицо усталое. Я разбужу, когда дадут Москву.
– Спасибо. Я подожду.
А ведь правда, как хочется спать! Дождь стучит успокоительно, равномерно, и под это постукиванье и журчанье, под этот раздробленный, пробегающий топот спит городок. За десять тысяч километров от фронта, от Москвы, от всего, о чем говорено-переговорено, думано-передумано, спит городок. Что же делаем мы в эту ночь, в эти дни, за десять тысяч километров от фронта?
«Проводим мероприятия» – за кордоном были случаи азиатской холеры. Даем бактериограф – пограничникам и населению. Всех приезжающих из-за рубежа сажаем на шесть дней в карантин. Уничтожаем продукты, которые они привозят с собой. Встречаем пароходы, дезинфицируем грузы…
Нет холеры, ложная тревога! Давно пора возвращаться в Москву. Нельзя вернуться, нет приказа. Нельзя вернуться, молчит, не отвечает Москва.
– Алло, кто на проводе? Вызываю Москву.
Все мешается в голове. Сплю и не сплю. Андрей выходит из темноты, из туманного света, который, дрожа, переливается на залитом водой стекле. Где ты, мой дорогой? Здоров ли? Почему, не дождавшись меня, отправил Павлика с бабушкой в Лопахин – ведь мы условились, что они будут ждать моего возвращения в Москву? Почему в Лопахин, где у нас давно уже нет ни родных, ни друзей? Ах, как беспокойно, тревожно на сердце! Как волнуется, томится душа!
– Москва, Москва… Занят провод. Не отвечает Москва.
Завернутый в газету завтрак лежит в кармане пальто. Я разворачиваю газету. «Особенно ожесточенные бои происходили на Клинском, Волоколамском, Тульском и Ростовском (Ростов-на-Дону) участках». В десятый раз я перечитываю последнюю сводку.
– Хотите бутерброд?
– Спасибо, некогда.
Сплю и не сплю. Стучит дождь, стучит девушка телеграфным ключом. Полно, да в Термезе ли я? Просторный город с раскинувшейся, просторной рекой открывается передо мной. Ростов? Фонари нежно и ярко освещают липы бульвара. Где Митя? «Скучаю без вас, – писал он в последнем письме. – Ну, не преступленье ли, что мы видимся так редко?»
Да, мы могли видеться чаще. Не так уж много на свете людей, без которых хотя и можно, но не очень хочется жить. Зачем же мы – я и Андрей – позволили, чтобы он столько лет, семь или восемь, прожил так далеко от нас? Он один, у него не удалась – кажется, не удалась? – жизнь. Он стареет, у него поседели виски. Что придумать, как поступить, чтобы он вернулся в Москву?
Поздно. Неподвижно висят черные, страшно освещенные тучи – над полями и лесами, над морями и реками, над городами и селами.
– Москва, Москва! Не отвечает Москва.
Дверь хлопает, я открываю глаза. Высокий человек с мокрым лицом, в мокром плаще входит в комнату. Это Виктор Мерзляков – наяву, не во сне.
– Татьяна Петровна, я пришел вас сменить. Я у хозяйки зонтик взял. Вот он. Идите к себе, отдохните.
– Зачем вы вскочили, Витя? Мне нельзя уйти. А ну, как уйду – и дадут?
– Москва, Москва… Кто на проводе? Москва? Центр шесть шестьдесят один пятьдесять четыре. Алло! Товарищ Власенкова, возьмите трубку.
– Дежурный по Наркомздраву слушает.
– Дайте Малышева… Михаил Алексеевич, это вы? Говорит Власенкова.
– Слушаю вас, Татьяна Петровна.
– Докладываю: работа полностью закончена. Предположения не подтвердились. Прошу разрешения вылететь в Москву.
– Нет, Татьяна Петровна. Вылетайте в Ташкент.
– В Ташкент?
– Да. На месте получите спецзадание.
Пауза.
– Одна или с группой?
– Кто с вами?
– Мерзляков и два лаборанта.
– Мерзлякова оставьте для дальнейшего наблюдения.
– Михаил Алексеевич, а вы не думаете, что в Москве я…
– Поменьше вопросов, Татьяна Петровна. Институт эвакуирован в тыл.
Снова пауза.
– Андрея Дмитриевича видел на днях. Вернулся с фронта и опять уехал. Справлялся о вас. Сообщил ему, что вы живы-здоровы.
– Я-то что! Вы как?
– В порядке. Тороплюсь. Желаю счастья, Татьяна Петровна.
– Желаю счастья.
…Мы выходим на улицу, и Виктор раскрывает надо мной огромный, рыжий, старомодный зонт.
Дождь усиливается. Словно в бешеной битве, кружатся, сталкиваются, сливаются капли. Барабанят по крышам. Бегут по ночной пустынной улице спящего пограничного городка.
– Стало быть, я здесь остаюсь? Ну что же! И здесь найдется работа. Татьяна Петровна, как вы думаете, а что, если на пробу залить фагом колодцы? Ведь, собственно говоря… Да вы, никак, плачете, Татьяна Петровна?
– Что вы, Витя! Это дождь. Когда же наконец кончится этот надоедливый дождь? Зайдем к начальнику погранотряда, Витя. Нужно справиться, когда идет самолет на Ташкент.
Почему с такой остротой запомнилась мне эта ночь в Термезе? Потому ли, что еще непривычными были горькие впечатления войны? Или потому, что я томилась сознанием оторванности, заброшенности в этом чистеньком, утонувшем в садах городке? Не знаю. Вскоре я поняла, что это – ложное чувство. Но тогда мне казалось, что все, чем мы занимаемся, в нескольких тысячах километров от фронта, не имеет и не может иметь ни малейшего отношения к тяжкому испытанию войны.
…Я получила письмо из Лопахина: Агния Петровна сняла комнату на Малой Михайловской, недалеко от того дома, в котором когда-то жили мы с мамой. Знакомых она не нашла, кроме какого-то Дедюлина, который в те годы, когда Агния Петровна заведовала Домом культуры, работал в этом доме монтером. Но зато она случайно на улице встретилась с Агашей – той самой толстой, доброй, пугливой Агашей, которая еще до революции служила у Львовых. И Агаша, по старой памяти, взялась помогать бабушке по хозяйству. Я радостно вздохнула, прочтя эти строки: на Агашу, со всеми ее причудами, запомнившимися с детства, все же можно было положиться. Впрочем, и бабушка, судя по этому письму, была настроена бодро. Я боялась, что она растеряется, – нет! Фразы были короткие, почерк решительный, твердый, и по всему было видно, что Агния Петровна снова почувствовала себя прежней энергичной, деятельной, вырастившей двух сыновей хозяйкой «Депо проката роялей и пианино».
Андрей вернулся с фронта и с августа жил в Москве, один, в новой квартире в Серебряном переулке, которую мы получили перед самой войной. «Мы обменялись профессиями, – писал он, – ты стала, как сказал Маяковский, „певцом воды кипяченой и ярым врагом воды сырой“, а я засел в лабораторию и занимаюсь известной тебе вакциной. Пока ничего не получается или почти ничего, причем дед утверждает, что на это „почти“ он наткнулся еще в конце прошлого века. Я спросил: почему же в таком случае он бросил работу, и он ответил, что занялся другой, „менее безнадежной“. Каков, а?»
Дед – это был Никольский, который, несмотря на все настояния родных и друзей, отказался уехать из Москвы, а вакцина, над которой работал Андрей, была вакциной против сыпного тифа. Что касается выражения «засел в лабораторию», то нетрудно было догадаться, что Андрей принимает желаемое за совершившееся, потому что он был назначен директором большого производственного института и в своей лаборатории мог бывать, увы, не больше двух-трех раз в неделю.
О том, каждый ли день он обедает, он не писал, а когда я наконец рассердилась, ответил, что на работе так хорошо, тепло и уютно, что он подчас предпочитает ночевать в институте, тем более что непривычно большая квартира без меня и Павлика представляется ему чем-то вроде пустыни Гоби…
Мы долго ничего не знали о Мите, а между тем кого только я не расспрашивала о нем! Куда ни закинула бы меня судьба или, точнее сказать, опасность эпидемической вспышки, везде я прежде всего искала ростовчан и, найдя, расспрашивала о Мите. Один военный врач, с которым я познакомилась в самолете, сказал, что Митя с лабораторией эвакуировался в Нальчик, – я немедленно написала туда и не получила ответа. В Красноводске какая-то медсестра, узнав, что я навожу справки о Мите, разыскала меня и, наговорив с три короба, напугала до смерти. Митя, по ее словам, тяжело заболел накануне отхода наших войск из Ростова и, безусловно, остался бы в городе, если бы не доктор Гордеева, которая спрятала его в погребе, выходила, а потом бежала с ним к партизанам. Я не поверила этой истории – мне показалось странным, что медсестра отзывалась о Мите с истерической восторженностью, а потом проговорилась, что видела его только раз на публичной лекции в Доме санитарной культуры. Но как я ни убеждала себя, что нельзя верить ни одному слову этой болтливой неприятной женщины, а все-таки думалось: ведь взялся же откуда-то этот слух! И тревожно, тоскливо становилось на сердце.
Я написала Андрею, и он согласился со мной, что все это вздор. Но что было делать с Агнией Петровной, которая каждое письмо начинала с вопроса: где Митя? «Только не скрывайте правды, – просила она. – Сердце чувствует, что с ним случилась беда, и лучше мне все сразу узнать, чем медленно убьет меня неизвестность».
Прошло два-три месяца, и вдруг – это было в Ташкенте, в конце декабря – один знакомый микробиолог спросил меня: «Вы знаете, что вас разыскивает Дмитрий Дмитриевич Львов?»
– Дмитрий Дмитриевич? Да ведь я же сама его разыскиваю вот уже полгода!
– А он – вас. Или брата.
Я бросилась в институт, нашла этот, больше месяца пролежавший в канцелярии, узенький драгоценный листок – и сразу точно чья-то рука отвалила камень от сердца. Это был краткий, в двух словах, запрос обо мне и Андрее: не знают ли в институте, куда мы уехали из Москвы? Под Митиной – несомненно, Митиной – подписью стоял номер полевой почты.
Точно такой же запрос я нашла через две недели в Астраханском, потом в Куйбышевском бакинститутах. Митя поступил просто: он написал директорам всех бакинститутов – знакомым и незнакомым, справедливо рассчитав, что микробиологи должны знать, куда эвакуировались их товарищи по работе. В том, что мы с Андреем эвакуировались, он почему-то не сомневался.
Где же он пропадал так долго? Почему, когда мы наконец списались, ответил на мои вопросы глухо, невнятно, упомянув между строк, что прошел пешком больше тысячи километров? «Все расскажу при встрече. А вот встретимся ли, где и когда? Кто знает?»
КРУТОЙ ПОВОРОТ
Еще в юности, в ту далекую пору, когда я работала над своим первым рефератом, Николай Васильевич предостерегал меня от «комнатности» в научной работе, от опасности, которую таит в себе «стеклянный мир лаборатории». То были годы, когда я выбирала между деятельностью практического врача и наукой, смутно догадываясь, что не могу и не захочу жить без этого «стеклянного мира». И, вернувшись из зерносовхоза, на добрых восемь лет я засела в лабораторию, забыв и думать об этих предостережениях и опасениях. Впрочем, я не забыла о них. Но мне казалось, что самое направление работы, связавшее меня сперва с промышленностью, потом с клиникой, само по себе разрывает заколдованный круг, в котором живут многие люди науки. И началась – и продолжалась до самой войны – та особенная полоса в моей жизни, когда с жесткой последовательностью я старалась отстранить от себя все, что отвлекало меня от дела науки.
Но вот в летний воскресный день 1941 года скрылась из глаз, как за крутым поворотом, прежняя жизнь, и вдруг стало ясно, что я жила за лабораторным стеклом. Как красная ракета – сигнал к «наступлению», вылетела я из привычной обстановки, и одна, без сотрудников, без лаборатории, принялась за дело, о котором до войны не имела никакого понятия. Из Москвы в Термез, из Термеза в Ташкент, потом Красноводск, Астрахань, Саратов. Лабораторный работник, занимавшийся изучением лекарств, я стала эпидемиологом, санитарным врачом. Как тысячи моих товарищей, я читала лекции по гигиене, добывала дрова для бань, инвентарь для больниц. Я воевала с местными администраторами, не желавшими тратить свое драгоценное время на такую малость, как противоэпидемическая защита. Я преследовала, разумеется, с помощью милиции, спекулянтов, торговавших сансправками, без которых нельзя было купить железнодорожный билет.
Главная трудность заключалась в том, что необходимо было предупредить возникновение болезней не только в городах и селах, среди оседлого, живущего в привычных условиях населения, а среди сотен тысяч людей, медленно двигавшихся на восток по железным и шоссейным дорогам. Случалось, что на иных этапах этого громадного переселения возникала необходимость остановки, ожидания транспорта, происходили скопления, заторы. Вот сюда-то и посылали меня, как посылали других солдат и офицеров противоэпидемической службы.
Я сказала: солдат и офицеров – и не оговорилась. Мы действительно составляли армию – огромную армию, действовавшую незаметно, непрерывно, днем и ночью, на дорогах и вокзалах, в колхозах и на заводах. У этой армии был свой штаб, своя разведка, свои тактика и стратегия – и, разумеется, свой фронт, о котором в сводках Главного командования не упоминалось ни словом. Боевые действия на этом фронте то охватывали обширные пространства, то происходили в тесноте походных лабораторий. Фронт был незримый, без свиста бомб и грохота снарядов.
Часть моих сотрудников осталась в Москве, а другая, значительно меньшая, состоявшая из Виктора и Кати Димант, оказалась в Ташкенте. Разумеется, нечего было и думать о научной работе, тем более что сама-то я в Ташкенте почти не жила, а только прилетала и улетала. Но все-таки мы затеяли кое-что, хотя у нас не было даже крыши над головой, не говоря уже о животных и аппаратуре.
Прошла неделя, другая, и нашлась крыша, подобралась аппаратура. Хуже было с мышами. Мышей не было, – конечно, белых, серые не годились для опытов, – и не было надежды, что удастся достать их, хотя в ту пору на ташкентском базаре, кроме небесных светил, можно было, кажется, достать все, что угодно.
И все-таки я отправилась на базар. Мне пришло в голову, что наше «кое-что» можно прекрасно испытать на морских свинках, тех самых, которые предсказывали судьбу по рублю за билетик.
Не стану подробно рассказывать о своих приключениях на ташкентском базаре: первая предсказательница, заподозрив во мне опасную соперницу, немедленно и решительно отвергла все предложения. Разговор со второй начался издалека: сперва я вытащила билетик, на котором было написано: «Ваше желание исполнится», потом еще один, на котором прочла: «Утешься! В твоих намерениях будет успех». Потом я дала понять, что предсказательница имеет дело с врачом. Поговорили о болезнях. Наконец узнав, что у предсказательницы проходят курс обучения еще десять свинок, я открыла карты и предложила продать всю партию за весьма солидную сумму. Если бы я предложила ей полет со мной на Луну, вероятно, это не вызвало бы большего изумления! Предсказательница ахнула, закусила губу и едва не трахнула меня ящиком, в котором находилось все ее несложное хозяйство.
Не все владельцы морских свинок встречали меня с таким острым чувством негодования. Один пожилой мужчина даже пригласил меня к себе и терпеливо выслушал мою страстную речь о том, что он может оказать человечеству неоценимую услугу. Но, выслушав, все-таки отказался, заявив, что человечество бог весть когда выиграет от моей затеи – да еще и выиграет ли? – а он уже и сейчас проиграет.
Наконец мне удалось купить двенадцать свинок. Но опыт поставить все-таки не удалось. Малышев вызвал меня в Москву и предложил заняться холерным бактериофагом, который, по сведениям, поступившим из оккупированных местностей, мог понадобиться в условиях нашего контрнаступления – и действительно понадобился, когда оно началось.
Но вот в летний воскресный день 1941 года скрылась из глаз, как за крутым поворотом, прежняя жизнь, и вдруг стало ясно, что я жила за лабораторным стеклом. Как красная ракета – сигнал к «наступлению», вылетела я из привычной обстановки, и одна, без сотрудников, без лаборатории, принялась за дело, о котором до войны не имела никакого понятия. Из Москвы в Термез, из Термеза в Ташкент, потом Красноводск, Астрахань, Саратов. Лабораторный работник, занимавшийся изучением лекарств, я стала эпидемиологом, санитарным врачом. Как тысячи моих товарищей, я читала лекции по гигиене, добывала дрова для бань, инвентарь для больниц. Я воевала с местными администраторами, не желавшими тратить свое драгоценное время на такую малость, как противоэпидемическая защита. Я преследовала, разумеется, с помощью милиции, спекулянтов, торговавших сансправками, без которых нельзя было купить железнодорожный билет.
Главная трудность заключалась в том, что необходимо было предупредить возникновение болезней не только в городах и селах, среди оседлого, живущего в привычных условиях населения, а среди сотен тысяч людей, медленно двигавшихся на восток по железным и шоссейным дорогам. Случалось, что на иных этапах этого громадного переселения возникала необходимость остановки, ожидания транспорта, происходили скопления, заторы. Вот сюда-то и посылали меня, как посылали других солдат и офицеров противоэпидемической службы.
Я сказала: солдат и офицеров – и не оговорилась. Мы действительно составляли армию – огромную армию, действовавшую незаметно, непрерывно, днем и ночью, на дорогах и вокзалах, в колхозах и на заводах. У этой армии был свой штаб, своя разведка, свои тактика и стратегия – и, разумеется, свой фронт, о котором в сводках Главного командования не упоминалось ни словом. Боевые действия на этом фронте то охватывали обширные пространства, то происходили в тесноте походных лабораторий. Фронт был незримый, без свиста бомб и грохота снарядов.
Часть моих сотрудников осталась в Москве, а другая, значительно меньшая, состоявшая из Виктора и Кати Димант, оказалась в Ташкенте. Разумеется, нечего было и думать о научной работе, тем более что сама-то я в Ташкенте почти не жила, а только прилетала и улетала. Но все-таки мы затеяли кое-что, хотя у нас не было даже крыши над головой, не говоря уже о животных и аппаратуре.
Прошла неделя, другая, и нашлась крыша, подобралась аппаратура. Хуже было с мышами. Мышей не было, – конечно, белых, серые не годились для опытов, – и не было надежды, что удастся достать их, хотя в ту пору на ташкентском базаре, кроме небесных светил, можно было, кажется, достать все, что угодно.
И все-таки я отправилась на базар. Мне пришло в голову, что наше «кое-что» можно прекрасно испытать на морских свинках, тех самых, которые предсказывали судьбу по рублю за билетик.
Не стану подробно рассказывать о своих приключениях на ташкентском базаре: первая предсказательница, заподозрив во мне опасную соперницу, немедленно и решительно отвергла все предложения. Разговор со второй начался издалека: сперва я вытащила билетик, на котором было написано: «Ваше желание исполнится», потом еще один, на котором прочла: «Утешься! В твоих намерениях будет успех». Потом я дала понять, что предсказательница имеет дело с врачом. Поговорили о болезнях. Наконец узнав, что у предсказательницы проходят курс обучения еще десять свинок, я открыла карты и предложила продать всю партию за весьма солидную сумму. Если бы я предложила ей полет со мной на Луну, вероятно, это не вызвало бы большего изумления! Предсказательница ахнула, закусила губу и едва не трахнула меня ящиком, в котором находилось все ее несложное хозяйство.
Не все владельцы морских свинок встречали меня с таким острым чувством негодования. Один пожилой мужчина даже пригласил меня к себе и терпеливо выслушал мою страстную речь о том, что он может оказать человечеству неоценимую услугу. Но, выслушав, все-таки отказался, заявив, что человечество бог весть когда выиграет от моей затеи – да еще и выиграет ли? – а он уже и сейчас проиграет.
Наконец мне удалось купить двенадцать свинок. Но опыт поставить все-таки не удалось. Малышев вызвал меня в Москву и предложил заняться холерным бактериофагом, который, по сведениям, поступившим из оккупированных местностей, мог понадобиться в условиях нашего контрнаступления – и действительно понадобился, когда оно началось.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вся наша семейная жизнь состояла, в сущности, из одних только разлук и свиданий. Десятки раз мы подолгу жили далеко друг от друга, и можно было, кажется, привыкнуть к этим расставаниям, беспрестанно сменявшим друг друга. Но к этой разлуке было невозможно привыкнуть. Мне было бы легче, если бы война настигла нас одновременно и мы рука об руку вступили бы в эту новую, неизвестную жизнь. Но война началась, когда наша группа была в Термезе, и как я ни успокаивала себя, думая о том, что все близкие – если это правда – здоровы, что бабушка с Павликом и без меня прекрасно устроились в Лопахине, а Андрею удалось наладить свою холостую жизнь, все-таки время от времени становилось страшно, что все это произошло и продолжает происходить без меня. Теперь – наконец-то! – все мое стало моим: и то, что Павлику (об этом сказал мне Андрей на вокзале) можно отправить посылку со знакомым проводником вагона, и то, что Андрей не знал, хорошо ли он сделал, купив на рынке кило масла за 920 рублей, и то, что концентраты, которые выдали ему на работе, он положил в столовую, где температура редко поднималась выше нуля, и то, что в Институте профилактики половину сотрудников, по чести говоря, нужно уволить, а другую учить с азов, и т. д. и т. д.
…Неразобранные книги в связках лежат по углам, под диваном, на окнах. Паровое отопление не действует, и в самой маленькой из комнат (прежде в ней жила Агния Петровна) Андрей поставил железную печку, ту самую знаменитую «пчелку» или «буржуйку», о которой еще смутно помнили люди моего возраста, а кто помоложе, мог лишь прочитать в книгах о гражданской войне.
«Пчелка» топится давно, в комнате жарко. Все, что я привезла из Ташкента, стоит на столе. Это первый наш вечер в Москве. Мы обходим квартиру, которая без Павлика кажется мне не просто пустой, а пустынной, возвращаемся, садимся за стол и только теперь, наконец, рассматриваем друг друга – впервые в этом новом мире войны. Андрей побледнел, скулы торчат, на носу беленькие параллельные косточки, как всегда, когда он худеет, и мне смешно, что, расставаясь с ним, я всегда забываю, что он красивый и что, когда он смеется, видны все его широкие белые зубы.
– Вспомнила?
– Почти. А ты?
Письма Агнии Петровны лежат перед нами, и среди них – дневник Павлика, который он ведет с первых дней эвакуации и который тайно от автора бабушка прислала в Москву.
«На второй день езды у нас опять кончилась вода, и мы ее больше не пили. Обед мы брали в вагоне-ресторане, но бабушка боялась ходить, и мы не брали. Света не было. Отлично».
Последнее слово написано красным карандашом – видимо, бабушка позволила Павлику изложить свои впечатления вместо диктанта.
"Когда приехали, долго сидели на улице, а потом пошли на вокзал. Скамейки были заняты, и многие, подстелив какой-нибудь платок, лежали на полу. Бабушка села в какую-то сметану и ее пришлось вытирать… "
«Станция Лебедин, на которую мы приехали, называлась городом, но на самом деле это было большое село. Мы шли по пыльной дороге, уставали, маленькие плакали. Мы пришли поздно, легли спать на голый пол, потому что вещи были в поезде. На следующий день играли и бегали. Вторую ночь мы спали на сене. Так началась моя жизнь в Лебедине. Я радовался, когда приходили хорошие известия с фронта».
«Драка с Лелей. Однажды я вышел гулять в сад. Девочки кидались снежками с большим мальчиком Лелей. Он постепенно загнал нас в глубокий снег. Я провалился, а когда вылез, калоши на моем валенке не было. Старуха пряла пряжу. Только на другой день калоша нашлась буквально на метр в снегу».
Должно быть, старуха переехала в дневник со следующей страницы, на которой большими ужасными буквами были написаны грамматические упражнения.
Скоро год, как мы расстались с Павликом – как он, должно быть, изменился, как вырос! Хоть бы раз посмотреть на него. Осенью он пойдет в школу – я не буду с ним в этот важный для него, надолго памятный день. Вот он пишет: «буквально на метр в снегу», – в прошлом году он еще не знал этого слова.
…Неразобранные книги в связках лежат по углам, под диваном, на окнах. Паровое отопление не действует, и в самой маленькой из комнат (прежде в ней жила Агния Петровна) Андрей поставил железную печку, ту самую знаменитую «пчелку» или «буржуйку», о которой еще смутно помнили люди моего возраста, а кто помоложе, мог лишь прочитать в книгах о гражданской войне.
«Пчелка» топится давно, в комнате жарко. Все, что я привезла из Ташкента, стоит на столе. Это первый наш вечер в Москве. Мы обходим квартиру, которая без Павлика кажется мне не просто пустой, а пустынной, возвращаемся, садимся за стол и только теперь, наконец, рассматриваем друг друга – впервые в этом новом мире войны. Андрей побледнел, скулы торчат, на носу беленькие параллельные косточки, как всегда, когда он худеет, и мне смешно, что, расставаясь с ним, я всегда забываю, что он красивый и что, когда он смеется, видны все его широкие белые зубы.
– Вспомнила?
– Почти. А ты?
Письма Агнии Петровны лежат перед нами, и среди них – дневник Павлика, который он ведет с первых дней эвакуации и который тайно от автора бабушка прислала в Москву.
«На второй день езды у нас опять кончилась вода, и мы ее больше не пили. Обед мы брали в вагоне-ресторане, но бабушка боялась ходить, и мы не брали. Света не было. Отлично».
Последнее слово написано красным карандашом – видимо, бабушка позволила Павлику изложить свои впечатления вместо диктанта.
"Когда приехали, долго сидели на улице, а потом пошли на вокзал. Скамейки были заняты, и многие, подстелив какой-нибудь платок, лежали на полу. Бабушка села в какую-то сметану и ее пришлось вытирать… "
«Станция Лебедин, на которую мы приехали, называлась городом, но на самом деле это было большое село. Мы шли по пыльной дороге, уставали, маленькие плакали. Мы пришли поздно, легли спать на голый пол, потому что вещи были в поезде. На следующий день играли и бегали. Вторую ночь мы спали на сене. Так началась моя жизнь в Лебедине. Я радовался, когда приходили хорошие известия с фронта».
«Драка с Лелей. Однажды я вышел гулять в сад. Девочки кидались снежками с большим мальчиком Лелей. Он постепенно загнал нас в глубокий снег. Я провалился, а когда вылез, калоши на моем валенке не было. Старуха пряла пряжу. Только на другой день калоша нашлась буквально на метр в снегу».
Должно быть, старуха переехала в дневник со следующей страницы, на которой большими ужасными буквами были написаны грамматические упражнения.
Скоро год, как мы расстались с Павликом – как он, должно быть, изменился, как вырос! Хоть бы раз посмотреть на него. Осенью он пойдет в школу – я не буду с ним в этот важный для него, надолго памятный день. Вот он пишет: «буквально на метр в снегу», – в прошлом году он еще не знал этого слова.
