Страница:
Томас. Узнаю его нрав. Но вернись к привидению.
Ансельм. Случилось очень кстати, что к Полу завернул некий Фавн[278], священник, и из числа тех, которым мало прозываться латинским словом «уставные»[279], но непременно надо прибавить то же прозвание по-гречески. У него был приход где-то по соседству, и он считал себя изрядным знатоком во всяческих делах, особенно же в священных.
Томас. Понимаю: актер сыскался!
Ансельм. За обедом говорили насчет слухов о привидении. Когда Пол почуял, что Фавн не только о них знает, но и верит им, он принялся уговаривать ученого и благочестивого мужа, дабы тот поспешил на помощь жалкой, но тяжко страдающей душе. «А если ты в чем сомневаешься, — прибавил он, — исследуй сам: погуляй в десятом часу возле мостика — и услышишь вопли. Да, и возьми кого-либо с собою: вдвоем уже никак не ошибетесь».
Томас. И что же?
Ансельм. После обеда Пол, по своему обыкновению, отправился на охоту. Фавн, прогуливаясь в сумерках, когда разглядеть что бы то ни было отчетливо уже никто не мог, услыхал наконец жалобные стоны, которые с поразительным мастерством издавал Пол, спрятавшийся в терновнике: он кричал в пустой глиняный горшок, и голос, отраженный пустотою, звучал особенно мрачно.
Томас. Комедия, как я посмотрю, почище Менандровой «Фазмы»[280].
Ансельм. Погоди, то ли ты еще скажешь, когда узнаешь все до конца! Фавн вернулся домой, сгорая от нетерпения поведать о том, чему был свидетелем; Пол его опередил: он возвратился другою, кратчайшею дорогою. Тут Фавн рассказывает Полу, что произошло, да еще и от себя обильно присочиняет — чтобы было поудивительнее.
Томас. И Пол сумел удержаться от смеха?
Ансельм. Кто? Пол? Он своему лицу полный хозяин. Подвоха никто бы не почуял. В конце концов Фавн, уступая неотступным просьбам Пола, берется изгнать беса. Всю ночь он проводит без сна, раздумывая, как приняться за дело самым безопасным образом: он отчаянно боялся за собственную душу. Итак, сперва припомнил он наиболее испытанные и проверенные заклинания, к ним присовокупил несколько новых — внутренностями святой Девы Марии, костями святой Веренфриды. Потом выбрали место в поле, рядом с кустарником, где слышался голос, очертили широкий круг, внутри него начертили частые кресты и иные знаки, и всё — в сопровождении торжественных возгласов. Приготовили громадную чашу со святой водою. Фавн облачился в так называемую священную столу[281], навесив на нее начало Евангелия от Иоанна. В шкатулке у него была восковая облатка — из тех, что ежегодно освящает папа римский: «Агнец божий»[282] — так зовут их в просторечье. Этим оружием защищались от злых демонов в старину, когда еще не появился грозный для них францисканский капюшон. Все было запасено на тот случай, чтобы дух, если он окажется духом тьмы, не напал на заклинателя. И тем не менее Фавн не отваживался вступить в круг один: было решено призвать на помощь второго священника. Тогда Пол, опасаясь, как бы помощник не оказался слишком проницателен и тайна комедии не обнаружилась, присоединяет к Фавну настоятеля соседней церкви, открыв ему предварительно свой замысел. Этого требовал ход представления, а новый актер был совсем не прочь принять участие в игре. На другой день около десятого часа, исполнив с надлежащею торжественностью все, что требовалось исполнить наперед, Фавн с помощником входят в крут. Фавн приступает к заклинанию. Тем временем Пол, под покровом темноты, пробирается в ближайшее поместье и приводит оттуда еще одно действующее лицо: без многих актеров обойтись было нельзя.
Томас. И что они делают?
Ансельм. Садятся на вороных коней и везут с собою светильник, прикрывши пламя. Подскакав почти вплотную, они сорвали покров, рассчитывая, что огонь напугает Фавна и выгонит его из крута.
Томас. Сколько трудов ради обмана!
Ансельм. Такой уж он человек, этот Пол. Впрочем, дело едва не приняло оборот весьма плачевный для самих шутников.
Томас. Как так?
Ансельм. Внезапно сверкнувшее пламя до смерти перепугало лошадей, они понесли и чуть было не сбросили своих седоков.
Вот тебе первое действие комедии.
Когда все вернулись, Пол, словно ни о чем не зная, спрашивает, как все происходило. Тут Фавн рассказывает, что видел двух гнуснейших бесов на черных огнедышащих конях с огненными очами; они пытались переступить заветную черту, но слова молитвы отогнали их и отправили к нечистому! Это прибавило духу Фавну, и назавтра, после новых и самых тщательных приготовлений, он снова идет в круг. Долго произносил он заклинания, вызывая духа, пока, наконец, вдали не показались Пол с товарищем на вороных конях, грозно рыча и завывая, — словно бы готовясь ворваться в круг.
Томас. Огня на сей раз не было вовсе?
Ансельм. Не было: ведь выдумка с огнем не удалась. Но послушай, что они придумали взамен. Они тянули за собой длинный, но легкий канат, и когда ринулись прочь, точно бы в ужасе перед заклинаниями Фавна, оба священника вместе с сосудом, полным святой воды, повалились наземь.
Томас. Вот, значит, какую награду получил за свою игру второй священник?
Ансельм. Да, но он соглашался и на это, лишь бы не бросать начатого. Когда же все вернулись, Фавн объявляет Полу, какой опасности он подвергался и как храбро сокрушил обоих бесов своими молитвами. Теперь он был совершенно уверен, что ни один демон, даже самый наглый и самый зловредный, в круг вломиться не может.
Томас. Что ж, этот Фавн — круглый дурак?
Ансельм. Это все еще пустяки — слушай дальше! К этому месту комедии очень кстати подоспел зять Пола, муж его старшей дочери, человек молодой и, как ты знаешь, на диво веселого нрава.
Томас. Знаю. Навряд ли подобные забавы ему не по душе.
Ансельм. Не по душе? Ради того, чтобы полюбоваться такой комедией или самому в ней сыграть, он бросит любое дело! Тесть рассказывает ему обо всем и поручает роль грешной души. Тот охотно обряжается — обертывается простынью (как у нас принято обертывать трупы), кладет в черепок тлеющий уголь, который сквозь простыню может представиться пылающим огнем. К ночи все были на своих местах. Зазвучали дикие стоны. Фавн принялся читать все заклинания подряд. Наконец вдали, среди терновника, появилась душа; она горестно вздыхала и время от времени приоткрывала «пламя». Меж тем как Фавн заклинал душу поведать, кто она такая, из кустарника вдруг выскакивает Пол в обличий демона и притворным голосом рычит: «Нет у тебя права на эту душу! Она моя!» — и раз, другой, третий подлетает к кругу, как бы вот-вот набросится на заклинателя, но тут же, как бы остановленный могуществом заклинаний и силою святой воды, которою Фавн щедро его кропил, отступает. Наконец демон-педагог сгинул; между Фавном и душою завязывается разговор. На упорные расспросы священника душа отвечает, что она принадлежала христианину; на вопрос, как ее зовут, ответила: «Фавн». — «И меня так же зовут», — изумился заклинатель. То, что они тезки, задело его за живое, теперь он непременно желал, чтобы Фавн Фавна избавил от муки. Священник все спрашивал да спрашивал, и, боясь, как бы затянувшаяся беседа не выдала обмана, душа объявила, что дольше разговаривать ей нельзя, что время торопит и она должна удалиться, куда прикажут бесы, но обещала прийти снова на другой день, как только будет возможно. Опять все сходятся в доме Пола, хорега[283] этой комедии. Заклинатель пересказывает происходившее, а кое-что добавляет и от себя, твердо, впрочем, уверенный, что так именно все и было: до такой степени увлекся он своим делом. И не удивительно: ведь выяснилось, что это христианская душа и что демон немилосердно терзает ее зверскими пытками. Но в следующий раз случилась забавная история.
Томас. Какая?
Ансельм. Когда Фавн вызывал душу, Пол, игравший беса, подскочил так близко, точно сейчас перепрыгнет черту; Фавн отражал его натиск заклинаниями и не жалел святой воды, но бес кричал, что ему все это нипочем. «Ты спал с девчонкою! — кричал бес. — Теперь ты в моей власти!» Это было сказано в шутку и наобум, но оказалось, по-видимому, правдой: заклинатель тут же умолк, отступил на середину круга и что-то зашептал в ухо второму священнику. Увидя это, отступает и Пол, — чтобы не услыхать чего-либо неподобающего.
Томас. Какого, однако, робкого и благочестивого беса он играл!
Ансельм. Верно. А иначе представление можно было бы упрекнуть в том, что оно не считается с приличиями… Тем не менее до него донесся голос священника, который назначал Фавну епитимью.
Томас. И что же была за епитимья?
Ансельм. Велел трижды прочесть молитву господню. Из этого Пол заключил, что минувшей ночью Фавн согрешил трижды.
Томас. Так этот «уставной» блюдет свой устав?
Ансельм. Что же — они люди, и проступок человеческий.
Тома с. Пожалуйста, продолжай.
Ансельм. Фавн возвращается к черте смелее прежнего и сам зовет беса на битву. А тот, растеряв свою дерзость, убегает с такими словами: «Ты меня обманул. Если б я знал заранее, никогда бы тебе не напомнил». Многие убеждены, что, если в чем исповедуешься священнику, грех этот мигом исчезает у беса из памяти и попрекнуть тебя им он уж не может.
Томас. Да, история очень смешная.
Ансельм. Пора, однако, заканчивать комедию. Беседы с душою продолжались несколько дней и вот к чему привели. На вопрос священника, можно ли каким-нибудь способом положить предел ее муке, она отвечала, что можно — если деньги, нажитые ею обманом и оставшиеся в целости, вернуть прежним владельцам. Тогда Фавн: «А что, если достойные люди употребят их на дела благочестия?» — «Поможет и это», — ответило привидение. Заклинатель возвеселился и принялся узнавать, велики ли деньги. Душа назвала громадную сумму, что было радостной вестью для Фавна. Назвала и место, где зарыто сокровище, очень отдаленное место. Указала, на что именно употребить деньги.
Томас. На что?
Ансельм. Она пожелала, чтобы трое паломников отправились в путь: один, чтобы посетил жилище Петра[284], другой — приветствовал Иакова Компостелльского, третий — облобызал гребень Иисуса в Трире[285]. Затем — чтобы в нескольких монастырях по многу раз отчитали псалтирь и служили обедни. А если что останется, — чтобы Фавн распорядился по своему усмотрению. Фавн уже ни о чем, кроме этого сокровища, не думал, уже поглотил его в своих мечтах.
Томас. Это общая слабость, хотя особенно дурная слава тут за духовным сословием.
Ансельм. Когда денежные дела были оговорены вплоть до мельчайших подробностей, заклинатель, по внушению Пола, стал расспрашивать душу о сокровенных искусствах — об алхимии и магии. И на это душа ответила, насколько было возможно, и пообещала рассказать подробнее, едва лишь хлопотами и трудами Фавна избавится от бесовской опеки. Это, если ты не возражаешь, пусть будет у нас третьим действием комедии. В четвертом Фавн начинает повсюду трубить о чуде, только об этом и твердит в любом разговоре, за любым столом, монастырям сулит баснословные вклады, о скромности и смирении забыл совершенно. Он находит указанное место и приметы, но вырыть клад не смеет, потому что душа предупредила его, что это чревато грозной опасностью — если тронуть сокровища, не отслужив сперва назначенных ею обеден. Уже многие проницательные люди чуяли обман, ибо не было такого места, где бы он не раструбил о своей глупости. Его друзья, и в первую очередь его аббат, втихомолку напоминали ему, что он всегда считался человеком рассудительным — пусть же не выставляет себя на глаза целому свету примером обратного свойства! Но никакие речи не могли его разуверить в том, что все случившееся — истинная правда. Это до такой степени заполонило его душу, что ни о чем, кроме привидений и злых гениев, он уже и не говорил и даже во сне ничего иного не видел. Состояние духа отразилось и в лице, которое было таким бледным, исхудавшим и унылым, что Фавн и сам больше походил на загробную тень, чем на живого человека. Он был на волосок от настоящего безумия, но тут применили сильное и скорое средство.
Томас. И это будет последнее действие комедии.
Ансельм. Да, его-то я и хочу изложить. Пол с зятем придумали такую хитрость. Они сочинили письмо и написали его диковинными буквами, да еще не на обычной бумаге, а на той, которую золотых дел мастера подкладывают под листовое золото, — красновато-желтой. Вот содержание письма:
«Фавн, в прошлом пленник, а ныне свободный, шлет вечный привет Фавну, своему достойнейшему освободителю! Отныне, мой Фавн, тебе более незачем изнурять себя заботою обо мне. Бог призрел на благочестивую решимость твоей души и ее заслугами избавил меня от страданий. Ныне я блаженствую меж ангелами. Тебя ожидает место подле Августина, Августин же — в ближайшем соседстве с апостольским сонмом. Когда ты явишься к нам, я поблагодарю тебя лично. А пока живи счастливо. Писано на седьмом небе в сентябрьские иды года одна тысяча четыреста девяносто восьмого и припечатано моим перстнем».
Письмо тайком положили на алтарь, у которого должен был служить Фавн. После службы кто-то, нарочито подученный, указал ему на это послание, словно бы обнаруженное случайно. Теперь Фавн носится с ним повсюду и показывает как святыню; и ни во что не верит он крепче, как в то, что письмо принесено ангелом с небес.
Томас. Это значит не избавить человека от безумия, но лишь переменить род безумия.
Ансельм. Конечно. Новое безумие приятнее прежнего — вот и вся разница.
Томас. Я и раньше не очень прислушивался к ходячим россказням о привидениях, а вперед и вовсе не стану обращать на них внимания. Многое из того, что записано и выдается за истину людьми легковерными и схожими с Фавном, многое из этого, я подозреваю, было подстроено примерно так же. [286]
Ансельм. А я — так прямо уверен, что большая часть.
Алхимия
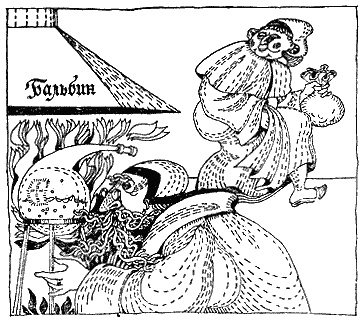
Лал. Да, и буду еще довольнее, если поделюсь своим удовольствием с тобою.
Филекой. Что же, говори скорее.
Лал. Ты знаешь Бальбина?
Филекой. Такой образованный старик и жизнь ведет примерную?
Лал. Совершенно правильно. Но нет смертного, который был бы разумен во всякий час или не имел своих слабостей. Ваг и у него среди многих замечательных достоинств есть один изъян: он уже давно помешан на том искусстве, которое называют алхимией.
Филекой. Это не изъян, а тяжелый недуг.
Лал. Как бы там ни было, а его уже много раз одурачивали алхимики, и все ж недавно он снова попался на удочку, и удивительным образом.
Филекой. Каким же?
Лал. Подходит к нему какой-то священник, почтительно его приветствует и начинает так: «Ученнейший Бальбин, ты, верно, удивишься, что тебе докучает незнакомец, и в особенности если этому незнакомцу известно, что ты постоянно погружен в самые возвышенные занятия». Бальбин кивнул: такой у него обычай, потому что он вообще до крайности скуп на слова.
Филекой. Это признак ума.
Лал. Но другой был еще умнее и продолжал так: «Впрочем, ты простишь мне мою дерзость, когда узнаешь, почему я к тебе обратился». — «Говори, — отвечал Бальбин, — только коротко, если можешь». — «Скажу в самых немногих словах, как только сумею. Ведомо тебе, ученнейший муж, что судьбы смертных неодинаковы, и я затрудняюсь, к кому себя приписать, — к счастливым или к несчастным. Когда взираю на свою судьбу с одной стороны, мне кажется, что я отменно счастлив, когда с другой — что нет меня несчастнее». Бальбин напомнил ему, чтобы он изъяснялся короче, а он: «Сейчас кончаю, ученнейший Бальбин. Это будет совсем просто: ведь я говорю с человеком, которому это дело знакомо, как никому в целом свете!»
Φилекой. Ритора ты мне описываешь, а не алхимика.
Лал. Сейчас услышишь алхимика: «Еще мальчишкою я сподобился счастья изучать самое драгоценное среди искусств и наук, мозг всей философии — алхимию». При слове «алхимия» Бальбин оживился, шевельнулся, но тут же невнятным мычанием велел рассказчику продолжать. «Но увы, — продолжал он, — я вступил не на тот путь, на который следовало вступить». Бальбин спросил, о каких путях он говорит, и священник отвечал: «Ты, Бальбин, человек всесторонне ученнейший, ты ничего не упустил и не пропустил и, конечно, знаешь, что в искусстве алхимии нам открываются два пути: один зовут „удлинновением“, другой — „укратчением“. Мне по какой-то недоброй случайности довелось встретиться с „удлинновением“. Бальбин осведомился, какое между путями различие. „Не такой уж я наглец, — возразил священник, — чтобы объяснять это Бальбину, которому все это знакомо, как никому в целом свете! Итак, я обращаюсь к тебе с мольбой: сжалься надо мною и удостой наставить на счастливейший путь укратчения. Чем более опытен ты в этом искусстве, тем легче можешь сообщить свой опыт мне. Не скрывай столь драгоценный дар божий от брата, угасающего во скорбях! Иисус Христос да осыплет тебя новыми, еще более щедрыми дарами!“
Этим заклинаниям не видно конца, и Бальбин вынужден признаться, что понятия не имеет ни об удлиновении, ни об укратчении; затем он просит священника растолковать смысл обоих слов. А тот в ответ: «Хоть я и не сомневаюсь, что ты знаешь лучше моего, однако раз ты велишь, я повинуюсь. Кто посвятил всю жизнь божественному этому искусству, изменяет обличие вещей двумя способами: один короче, но сопряжен с большими опасностями, другой дольше, но зато безопаснее. Я считаю себя несчастным оттого, что до сей поры бьюсь на пути, который мне не по душе; и до сей поры я не смог найти никого, кто согласился бы указать мне другой путь, который мне люб до безумия. Наконец бог внушил мне мысль обратиться к тебе, мужу столько ж благочестивому, сколько ученому. Ученость позволит тебе без труда наделить меня тем, о чем я прошу, а благочестие побудит прийти на помощь брату, чье спасение в твоих руках».
Не буду затягивать рассказа. Подобными речами хитрец отвел от себя всякое подозрение в обмане и внушил Бальбину уверенность, что другой путь отлично ему известен. Бальбин уже давно порывался его остановить и наконец не выдержал: «Бог с ним, с укратчением, — я о нем и не слыхивал-то никогда. Скажи мне по совести: удлинновением ты хорошо владеешь?» — «Ха! Как собственной пятернею! Долгота только не нравится». — «Какого срока он требует?» — спрашивает Бальбин. «Чересчур большого — почти целого года. Но дело верное, вернее не бывает». — «О сроке не тревожься, пусть и два года уйдут, лишь бы ты твердо полагался на свое искусство». Одним словом, уговорились тайно открыть работу в доме Бальбина, на том условии, что священник берет на себя труд, а Бальбин издержки, прибыль же разделят поровну; впрочем, непритязательный мошенник добровольно уступал весь будущий доход Бальбину. Оба клянутся молчать, как при посвящении в таинства. Тут же отсчитываются деньги на покупку глиняной и стеклянной посуды, углей и всего прочего, что потребно для оборудования мастерской, и наш алхимик с удовольствием проматывает эти денежки на продажных девок, на выпивку, за игрою в кости.
Филекой. Но это и значит изменять обличие вещей!
Лал. Бальбин, однако, требовал приступать к делу. «Разве ты не помнишь пословицу, — возражал ему алхимик, — насчет того, что доброе начало — половина успеха? Очень важно, чтобы хорошо заготовить материал». Наконец он принялся складывать печь. Тут снова открылась нужда в золоте — чтобы приманить будущее золото. Как рыба не ловится без наживки, так и золото алхимикам не дастся, если не примешать заранее частицу золота.
Тем временем Бальбин с головою ушел в расчеты: если унция принесет пятнадцать унций, прикидывал он, сколько ж прибытка ждать от двух тысяч унций? (Такую сумму решил он израсходовать.) Когда алхимик промотал и эти деньги и уже месяца два, как притворялся, будто усердно хлопочет над мехами и углем, Бальбин спрашивает, подвигается ли работа. Сперва тот отмалчивается, но Бальбин стоял на своем, и наконец слышит в ответ: «Ко всему прекрасному приступы и подходы трудны». Мошенник ссылался на оплошность, допущенную при покупке углей: он, дескать, купил дубовые, а надо было еловые или ореховые.
На ветер было брошено уже сто золотых, и тем не менее Бальбин снова пускается на риск. Снова отсчитываются денежки; куплены новые угли. Берутся за дело с еще большим рвением, чем вначале: так и на войне — после неудачи солдаты поправляют положение удвоенным мужеством. Несколько месяцев в мастерской все кипело и клокотало, и Бальбин ожидал золотой жатвы, но в колбах не было и намека «а золото: всё, как и прежде, прогулял алхимик. Отыскивается новое оправдание: колбы были не такие, как надо. Ведь не из всякого дерева можно резать Меркурия[288] — так и золото не из всякой колбы вынешь. И чем больше были затраты, тем больше не хотелось отступаться.
Филекой. Это в обычае и у игроков. Как будто не лучше потерять часть, нежели все.
Лал. Ты прав. Алхимик клялся и божился, что никогда не случалось у него такого просчета, но теперь ошибка обнаружена, вперед все будет ладно и гладко, а все убытки он возместит с лихвою.
Переменили колбы; мастерская обновилась во второй раз. Алхимик утверждал, что дело пойдет удачнее, если отправить в дар Богородице, которую, как ты знаешь, чтут в Паралиях[289], несколько золотых: ведь алхимия — священное искусство, и для успеха необходима благосклонность небес. Бальбину этот совет очень понравился: он человек богобоязненный и ни единого дня не пропустит, без того чтобы не побывать в храме за службою. Алхимик отправляется в благочестивое странствие, но, разумеется, — не далее соседнего городка, где и оставляет приношение святой Деве в кабаке. Вернувшись, об объявил, что полон самых лучших надежд и что все их замыслы непременно сбудутся, ибо святая Дева с явною, как ему показалось, благосклонностью приняла их дары.
Опять протекло немало времени в упорных трудах, и опять золота ни крупицы. Бальбин требует объяснений, алхимик заверяет, что еще никогда в жизни не случалось с ним ничего похожего (а ведь он столько раз испытывал свое искусство!) и в чем тут причина — ума не приложит! Долго оба думали и гадали, и вдруг Бальбину приходит мысль: а не пропустил ли алхимик в который-нибудь из дней обедни или главных молитв? Если это так — никакой удачи и быть не может. Тут обманщик восклицает: «Ты попал в самую точку! О, я злосчастный! Я согрешил по забывчивости, и не раз, а дважды, а еще, совсем недавно, после затянувшегося обеда, поторопился встать и забыл принести благодарность святой Деве». А Бальбин ему: «Не удивительно, почему наше дело нам не удается!» Вместо двух пропущенных обеден алхимик вызывается отстоять дюжину, вместо одной «Богородицы» — отчитать десяток.
Ансельм. Случилось очень кстати, что к Полу завернул некий Фавн[278], священник, и из числа тех, которым мало прозываться латинским словом «уставные»[279], но непременно надо прибавить то же прозвание по-гречески. У него был приход где-то по соседству, и он считал себя изрядным знатоком во всяческих делах, особенно же в священных.
Томас. Понимаю: актер сыскался!
Ансельм. За обедом говорили насчет слухов о привидении. Когда Пол почуял, что Фавн не только о них знает, но и верит им, он принялся уговаривать ученого и благочестивого мужа, дабы тот поспешил на помощь жалкой, но тяжко страдающей душе. «А если ты в чем сомневаешься, — прибавил он, — исследуй сам: погуляй в десятом часу возле мостика — и услышишь вопли. Да, и возьми кого-либо с собою: вдвоем уже никак не ошибетесь».
Томас. И что же?
Ансельм. После обеда Пол, по своему обыкновению, отправился на охоту. Фавн, прогуливаясь в сумерках, когда разглядеть что бы то ни было отчетливо уже никто не мог, услыхал наконец жалобные стоны, которые с поразительным мастерством издавал Пол, спрятавшийся в терновнике: он кричал в пустой глиняный горшок, и голос, отраженный пустотою, звучал особенно мрачно.
Томас. Комедия, как я посмотрю, почище Менандровой «Фазмы»[280].
Ансельм. Погоди, то ли ты еще скажешь, когда узнаешь все до конца! Фавн вернулся домой, сгорая от нетерпения поведать о том, чему был свидетелем; Пол его опередил: он возвратился другою, кратчайшею дорогою. Тут Фавн рассказывает Полу, что произошло, да еще и от себя обильно присочиняет — чтобы было поудивительнее.
Томас. И Пол сумел удержаться от смеха?
Ансельм. Кто? Пол? Он своему лицу полный хозяин. Подвоха никто бы не почуял. В конце концов Фавн, уступая неотступным просьбам Пола, берется изгнать беса. Всю ночь он проводит без сна, раздумывая, как приняться за дело самым безопасным образом: он отчаянно боялся за собственную душу. Итак, сперва припомнил он наиболее испытанные и проверенные заклинания, к ним присовокупил несколько новых — внутренностями святой Девы Марии, костями святой Веренфриды. Потом выбрали место в поле, рядом с кустарником, где слышался голос, очертили широкий круг, внутри него начертили частые кресты и иные знаки, и всё — в сопровождении торжественных возгласов. Приготовили громадную чашу со святой водою. Фавн облачился в так называемую священную столу[281], навесив на нее начало Евангелия от Иоанна. В шкатулке у него была восковая облатка — из тех, что ежегодно освящает папа римский: «Агнец божий»[282] — так зовут их в просторечье. Этим оружием защищались от злых демонов в старину, когда еще не появился грозный для них францисканский капюшон. Все было запасено на тот случай, чтобы дух, если он окажется духом тьмы, не напал на заклинателя. И тем не менее Фавн не отваживался вступить в круг один: было решено призвать на помощь второго священника. Тогда Пол, опасаясь, как бы помощник не оказался слишком проницателен и тайна комедии не обнаружилась, присоединяет к Фавну настоятеля соседней церкви, открыв ему предварительно свой замысел. Этого требовал ход представления, а новый актер был совсем не прочь принять участие в игре. На другой день около десятого часа, исполнив с надлежащею торжественностью все, что требовалось исполнить наперед, Фавн с помощником входят в крут. Фавн приступает к заклинанию. Тем временем Пол, под покровом темноты, пробирается в ближайшее поместье и приводит оттуда еще одно действующее лицо: без многих актеров обойтись было нельзя.
Томас. И что они делают?
Ансельм. Садятся на вороных коней и везут с собою светильник, прикрывши пламя. Подскакав почти вплотную, они сорвали покров, рассчитывая, что огонь напугает Фавна и выгонит его из крута.
Томас. Сколько трудов ради обмана!
Ансельм. Такой уж он человек, этот Пол. Впрочем, дело едва не приняло оборот весьма плачевный для самих шутников.
Томас. Как так?
Ансельм. Внезапно сверкнувшее пламя до смерти перепугало лошадей, они понесли и чуть было не сбросили своих седоков.
Вот тебе первое действие комедии.
Когда все вернулись, Пол, словно ни о чем не зная, спрашивает, как все происходило. Тут Фавн рассказывает, что видел двух гнуснейших бесов на черных огнедышащих конях с огненными очами; они пытались переступить заветную черту, но слова молитвы отогнали их и отправили к нечистому! Это прибавило духу Фавну, и назавтра, после новых и самых тщательных приготовлений, он снова идет в круг. Долго произносил он заклинания, вызывая духа, пока, наконец, вдали не показались Пол с товарищем на вороных конях, грозно рыча и завывая, — словно бы готовясь ворваться в круг.
Томас. Огня на сей раз не было вовсе?
Ансельм. Не было: ведь выдумка с огнем не удалась. Но послушай, что они придумали взамен. Они тянули за собой длинный, но легкий канат, и когда ринулись прочь, точно бы в ужасе перед заклинаниями Фавна, оба священника вместе с сосудом, полным святой воды, повалились наземь.
Томас. Вот, значит, какую награду получил за свою игру второй священник?
Ансельм. Да, но он соглашался и на это, лишь бы не бросать начатого. Когда же все вернулись, Фавн объявляет Полу, какой опасности он подвергался и как храбро сокрушил обоих бесов своими молитвами. Теперь он был совершенно уверен, что ни один демон, даже самый наглый и самый зловредный, в круг вломиться не может.
Томас. Что ж, этот Фавн — круглый дурак?
Ансельм. Это все еще пустяки — слушай дальше! К этому месту комедии очень кстати подоспел зять Пола, муж его старшей дочери, человек молодой и, как ты знаешь, на диво веселого нрава.
Томас. Знаю. Навряд ли подобные забавы ему не по душе.
Ансельм. Не по душе? Ради того, чтобы полюбоваться такой комедией или самому в ней сыграть, он бросит любое дело! Тесть рассказывает ему обо всем и поручает роль грешной души. Тот охотно обряжается — обертывается простынью (как у нас принято обертывать трупы), кладет в черепок тлеющий уголь, который сквозь простыню может представиться пылающим огнем. К ночи все были на своих местах. Зазвучали дикие стоны. Фавн принялся читать все заклинания подряд. Наконец вдали, среди терновника, появилась душа; она горестно вздыхала и время от времени приоткрывала «пламя». Меж тем как Фавн заклинал душу поведать, кто она такая, из кустарника вдруг выскакивает Пол в обличий демона и притворным голосом рычит: «Нет у тебя права на эту душу! Она моя!» — и раз, другой, третий подлетает к кругу, как бы вот-вот набросится на заклинателя, но тут же, как бы остановленный могуществом заклинаний и силою святой воды, которою Фавн щедро его кропил, отступает. Наконец демон-педагог сгинул; между Фавном и душою завязывается разговор. На упорные расспросы священника душа отвечает, что она принадлежала христианину; на вопрос, как ее зовут, ответила: «Фавн». — «И меня так же зовут», — изумился заклинатель. То, что они тезки, задело его за живое, теперь он непременно желал, чтобы Фавн Фавна избавил от муки. Священник все спрашивал да спрашивал, и, боясь, как бы затянувшаяся беседа не выдала обмана, душа объявила, что дольше разговаривать ей нельзя, что время торопит и она должна удалиться, куда прикажут бесы, но обещала прийти снова на другой день, как только будет возможно. Опять все сходятся в доме Пола, хорега[283] этой комедии. Заклинатель пересказывает происходившее, а кое-что добавляет и от себя, твердо, впрочем, уверенный, что так именно все и было: до такой степени увлекся он своим делом. И не удивительно: ведь выяснилось, что это христианская душа и что демон немилосердно терзает ее зверскими пытками. Но в следующий раз случилась забавная история.
Томас. Какая?
Ансельм. Когда Фавн вызывал душу, Пол, игравший беса, подскочил так близко, точно сейчас перепрыгнет черту; Фавн отражал его натиск заклинаниями и не жалел святой воды, но бес кричал, что ему все это нипочем. «Ты спал с девчонкою! — кричал бес. — Теперь ты в моей власти!» Это было сказано в шутку и наобум, но оказалось, по-видимому, правдой: заклинатель тут же умолк, отступил на середину круга и что-то зашептал в ухо второму священнику. Увидя это, отступает и Пол, — чтобы не услыхать чего-либо неподобающего.
Томас. Какого, однако, робкого и благочестивого беса он играл!
Ансельм. Верно. А иначе представление можно было бы упрекнуть в том, что оно не считается с приличиями… Тем не менее до него донесся голос священника, который назначал Фавну епитимью.
Томас. И что же была за епитимья?
Ансельм. Велел трижды прочесть молитву господню. Из этого Пол заключил, что минувшей ночью Фавн согрешил трижды.
Томас. Так этот «уставной» блюдет свой устав?
Ансельм. Что же — они люди, и проступок человеческий.
Тома с. Пожалуйста, продолжай.
Ансельм. Фавн возвращается к черте смелее прежнего и сам зовет беса на битву. А тот, растеряв свою дерзость, убегает с такими словами: «Ты меня обманул. Если б я знал заранее, никогда бы тебе не напомнил». Многие убеждены, что, если в чем исповедуешься священнику, грех этот мигом исчезает у беса из памяти и попрекнуть тебя им он уж не может.
Томас. Да, история очень смешная.
Ансельм. Пора, однако, заканчивать комедию. Беседы с душою продолжались несколько дней и вот к чему привели. На вопрос священника, можно ли каким-нибудь способом положить предел ее муке, она отвечала, что можно — если деньги, нажитые ею обманом и оставшиеся в целости, вернуть прежним владельцам. Тогда Фавн: «А что, если достойные люди употребят их на дела благочестия?» — «Поможет и это», — ответило привидение. Заклинатель возвеселился и принялся узнавать, велики ли деньги. Душа назвала громадную сумму, что было радостной вестью для Фавна. Назвала и место, где зарыто сокровище, очень отдаленное место. Указала, на что именно употребить деньги.
Томас. На что?
Ансельм. Она пожелала, чтобы трое паломников отправились в путь: один, чтобы посетил жилище Петра[284], другой — приветствовал Иакова Компостелльского, третий — облобызал гребень Иисуса в Трире[285]. Затем — чтобы в нескольких монастырях по многу раз отчитали псалтирь и служили обедни. А если что останется, — чтобы Фавн распорядился по своему усмотрению. Фавн уже ни о чем, кроме этого сокровища, не думал, уже поглотил его в своих мечтах.
Томас. Это общая слабость, хотя особенно дурная слава тут за духовным сословием.
Ансельм. Когда денежные дела были оговорены вплоть до мельчайших подробностей, заклинатель, по внушению Пола, стал расспрашивать душу о сокровенных искусствах — об алхимии и магии. И на это душа ответила, насколько было возможно, и пообещала рассказать подробнее, едва лишь хлопотами и трудами Фавна избавится от бесовской опеки. Это, если ты не возражаешь, пусть будет у нас третьим действием комедии. В четвертом Фавн начинает повсюду трубить о чуде, только об этом и твердит в любом разговоре, за любым столом, монастырям сулит баснословные вклады, о скромности и смирении забыл совершенно. Он находит указанное место и приметы, но вырыть клад не смеет, потому что душа предупредила его, что это чревато грозной опасностью — если тронуть сокровища, не отслужив сперва назначенных ею обеден. Уже многие проницательные люди чуяли обман, ибо не было такого места, где бы он не раструбил о своей глупости. Его друзья, и в первую очередь его аббат, втихомолку напоминали ему, что он всегда считался человеком рассудительным — пусть же не выставляет себя на глаза целому свету примером обратного свойства! Но никакие речи не могли его разуверить в том, что все случившееся — истинная правда. Это до такой степени заполонило его душу, что ни о чем, кроме привидений и злых гениев, он уже и не говорил и даже во сне ничего иного не видел. Состояние духа отразилось и в лице, которое было таким бледным, исхудавшим и унылым, что Фавн и сам больше походил на загробную тень, чем на живого человека. Он был на волосок от настоящего безумия, но тут применили сильное и скорое средство.
Томас. И это будет последнее действие комедии.
Ансельм. Да, его-то я и хочу изложить. Пол с зятем придумали такую хитрость. Они сочинили письмо и написали его диковинными буквами, да еще не на обычной бумаге, а на той, которую золотых дел мастера подкладывают под листовое золото, — красновато-желтой. Вот содержание письма:
«Фавн, в прошлом пленник, а ныне свободный, шлет вечный привет Фавну, своему достойнейшему освободителю! Отныне, мой Фавн, тебе более незачем изнурять себя заботою обо мне. Бог призрел на благочестивую решимость твоей души и ее заслугами избавил меня от страданий. Ныне я блаженствую меж ангелами. Тебя ожидает место подле Августина, Августин же — в ближайшем соседстве с апостольским сонмом. Когда ты явишься к нам, я поблагодарю тебя лично. А пока живи счастливо. Писано на седьмом небе в сентябрьские иды года одна тысяча четыреста девяносто восьмого и припечатано моим перстнем».
Письмо тайком положили на алтарь, у которого должен был служить Фавн. После службы кто-то, нарочито подученный, указал ему на это послание, словно бы обнаруженное случайно. Теперь Фавн носится с ним повсюду и показывает как святыню; и ни во что не верит он крепче, как в то, что письмо принесено ангелом с небес.
Томас. Это значит не избавить человека от безумия, но лишь переменить род безумия.
Ансельм. Конечно. Новое безумие приятнее прежнего — вот и вся разница.
Томас. Я и раньше не очень прислушивался к ходячим россказням о привидениях, а вперед и вовсе не стану обращать на них внимания. Многое из того, что записано и выдается за истину людьми легковерными и схожими с Фавном, многое из этого, я подозреваю, было подстроено примерно так же. [286]
Ансельм. А я — так прямо уверен, что большая часть.
Алхимия
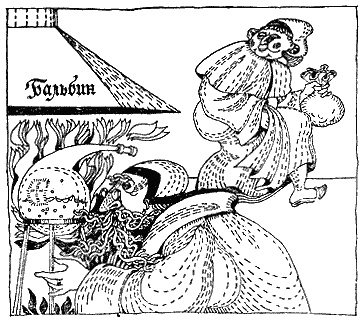
Филекой. Лал [287]
Филекой. Что это случилось с Лалом? Он все улыбается, едва удерживается от хохота, и все крестится. Сейчас спрошу самого. Здравствуй, мой дорогой Лал! Мне кажется, ты очень доволен сегодня.Лал. Да, и буду еще довольнее, если поделюсь своим удовольствием с тобою.
Филекой. Что же, говори скорее.
Лал. Ты знаешь Бальбина?
Филекой. Такой образованный старик и жизнь ведет примерную?
Лал. Совершенно правильно. Но нет смертного, который был бы разумен во всякий час или не имел своих слабостей. Ваг и у него среди многих замечательных достоинств есть один изъян: он уже давно помешан на том искусстве, которое называют алхимией.
Филекой. Это не изъян, а тяжелый недуг.
Лал. Как бы там ни было, а его уже много раз одурачивали алхимики, и все ж недавно он снова попался на удочку, и удивительным образом.
Филекой. Каким же?
Лал. Подходит к нему какой-то священник, почтительно его приветствует и начинает так: «Ученнейший Бальбин, ты, верно, удивишься, что тебе докучает незнакомец, и в особенности если этому незнакомцу известно, что ты постоянно погружен в самые возвышенные занятия». Бальбин кивнул: такой у него обычай, потому что он вообще до крайности скуп на слова.
Филекой. Это признак ума.
Лал. Но другой был еще умнее и продолжал так: «Впрочем, ты простишь мне мою дерзость, когда узнаешь, почему я к тебе обратился». — «Говори, — отвечал Бальбин, — только коротко, если можешь». — «Скажу в самых немногих словах, как только сумею. Ведомо тебе, ученнейший муж, что судьбы смертных неодинаковы, и я затрудняюсь, к кому себя приписать, — к счастливым или к несчастным. Когда взираю на свою судьбу с одной стороны, мне кажется, что я отменно счастлив, когда с другой — что нет меня несчастнее». Бальбин напомнил ему, чтобы он изъяснялся короче, а он: «Сейчас кончаю, ученнейший Бальбин. Это будет совсем просто: ведь я говорю с человеком, которому это дело знакомо, как никому в целом свете!»
Φилекой. Ритора ты мне описываешь, а не алхимика.
Лал. Сейчас услышишь алхимика: «Еще мальчишкою я сподобился счастья изучать самое драгоценное среди искусств и наук, мозг всей философии — алхимию». При слове «алхимия» Бальбин оживился, шевельнулся, но тут же невнятным мычанием велел рассказчику продолжать. «Но увы, — продолжал он, — я вступил не на тот путь, на который следовало вступить». Бальбин спросил, о каких путях он говорит, и священник отвечал: «Ты, Бальбин, человек всесторонне ученнейший, ты ничего не упустил и не пропустил и, конечно, знаешь, что в искусстве алхимии нам открываются два пути: один зовут „удлинновением“, другой — „укратчением“. Мне по какой-то недоброй случайности довелось встретиться с „удлинновением“. Бальбин осведомился, какое между путями различие. „Не такой уж я наглец, — возразил священник, — чтобы объяснять это Бальбину, которому все это знакомо, как никому в целом свете! Итак, я обращаюсь к тебе с мольбой: сжалься надо мною и удостой наставить на счастливейший путь укратчения. Чем более опытен ты в этом искусстве, тем легче можешь сообщить свой опыт мне. Не скрывай столь драгоценный дар божий от брата, угасающего во скорбях! Иисус Христос да осыплет тебя новыми, еще более щедрыми дарами!“
Этим заклинаниям не видно конца, и Бальбин вынужден признаться, что понятия не имеет ни об удлиновении, ни об укратчении; затем он просит священника растолковать смысл обоих слов. А тот в ответ: «Хоть я и не сомневаюсь, что ты знаешь лучше моего, однако раз ты велишь, я повинуюсь. Кто посвятил всю жизнь божественному этому искусству, изменяет обличие вещей двумя способами: один короче, но сопряжен с большими опасностями, другой дольше, но зато безопаснее. Я считаю себя несчастным оттого, что до сей поры бьюсь на пути, который мне не по душе; и до сей поры я не смог найти никого, кто согласился бы указать мне другой путь, который мне люб до безумия. Наконец бог внушил мне мысль обратиться к тебе, мужу столько ж благочестивому, сколько ученому. Ученость позволит тебе без труда наделить меня тем, о чем я прошу, а благочестие побудит прийти на помощь брату, чье спасение в твоих руках».
Не буду затягивать рассказа. Подобными речами хитрец отвел от себя всякое подозрение в обмане и внушил Бальбину уверенность, что другой путь отлично ему известен. Бальбин уже давно порывался его остановить и наконец не выдержал: «Бог с ним, с укратчением, — я о нем и не слыхивал-то никогда. Скажи мне по совести: удлинновением ты хорошо владеешь?» — «Ха! Как собственной пятернею! Долгота только не нравится». — «Какого срока он требует?» — спрашивает Бальбин. «Чересчур большого — почти целого года. Но дело верное, вернее не бывает». — «О сроке не тревожься, пусть и два года уйдут, лишь бы ты твердо полагался на свое искусство». Одним словом, уговорились тайно открыть работу в доме Бальбина, на том условии, что священник берет на себя труд, а Бальбин издержки, прибыль же разделят поровну; впрочем, непритязательный мошенник добровольно уступал весь будущий доход Бальбину. Оба клянутся молчать, как при посвящении в таинства. Тут же отсчитываются деньги на покупку глиняной и стеклянной посуды, углей и всего прочего, что потребно для оборудования мастерской, и наш алхимик с удовольствием проматывает эти денежки на продажных девок, на выпивку, за игрою в кости.
Филекой. Но это и значит изменять обличие вещей!
Лал. Бальбин, однако, требовал приступать к делу. «Разве ты не помнишь пословицу, — возражал ему алхимик, — насчет того, что доброе начало — половина успеха? Очень важно, чтобы хорошо заготовить материал». Наконец он принялся складывать печь. Тут снова открылась нужда в золоте — чтобы приманить будущее золото. Как рыба не ловится без наживки, так и золото алхимикам не дастся, если не примешать заранее частицу золота.
Тем временем Бальбин с головою ушел в расчеты: если унция принесет пятнадцать унций, прикидывал он, сколько ж прибытка ждать от двух тысяч унций? (Такую сумму решил он израсходовать.) Когда алхимик промотал и эти деньги и уже месяца два, как притворялся, будто усердно хлопочет над мехами и углем, Бальбин спрашивает, подвигается ли работа. Сперва тот отмалчивается, но Бальбин стоял на своем, и наконец слышит в ответ: «Ко всему прекрасному приступы и подходы трудны». Мошенник ссылался на оплошность, допущенную при покупке углей: он, дескать, купил дубовые, а надо было еловые или ореховые.
На ветер было брошено уже сто золотых, и тем не менее Бальбин снова пускается на риск. Снова отсчитываются денежки; куплены новые угли. Берутся за дело с еще большим рвением, чем вначале: так и на войне — после неудачи солдаты поправляют положение удвоенным мужеством. Несколько месяцев в мастерской все кипело и клокотало, и Бальбин ожидал золотой жатвы, но в колбах не было и намека «а золото: всё, как и прежде, прогулял алхимик. Отыскивается новое оправдание: колбы были не такие, как надо. Ведь не из всякого дерева можно резать Меркурия[288] — так и золото не из всякой колбы вынешь. И чем больше были затраты, тем больше не хотелось отступаться.
Филекой. Это в обычае и у игроков. Как будто не лучше потерять часть, нежели все.
Лал. Ты прав. Алхимик клялся и божился, что никогда не случалось у него такого просчета, но теперь ошибка обнаружена, вперед все будет ладно и гладко, а все убытки он возместит с лихвою.
Переменили колбы; мастерская обновилась во второй раз. Алхимик утверждал, что дело пойдет удачнее, если отправить в дар Богородице, которую, как ты знаешь, чтут в Паралиях[289], несколько золотых: ведь алхимия — священное искусство, и для успеха необходима благосклонность небес. Бальбину этот совет очень понравился: он человек богобоязненный и ни единого дня не пропустит, без того чтобы не побывать в храме за службою. Алхимик отправляется в благочестивое странствие, но, разумеется, — не далее соседнего городка, где и оставляет приношение святой Деве в кабаке. Вернувшись, об объявил, что полон самых лучших надежд и что все их замыслы непременно сбудутся, ибо святая Дева с явною, как ему показалось, благосклонностью приняла их дары.
Опять протекло немало времени в упорных трудах, и опять золота ни крупицы. Бальбин требует объяснений, алхимик заверяет, что еще никогда в жизни не случалось с ним ничего похожего (а ведь он столько раз испытывал свое искусство!) и в чем тут причина — ума не приложит! Долго оба думали и гадали, и вдруг Бальбину приходит мысль: а не пропустил ли алхимик в который-нибудь из дней обедни или главных молитв? Если это так — никакой удачи и быть не может. Тут обманщик восклицает: «Ты попал в самую точку! О, я злосчастный! Я согрешил по забывчивости, и не раз, а дважды, а еще, совсем недавно, после затянувшегося обеда, поторопился встать и забыл принести благодарность святой Деве». А Бальбин ему: «Не удивительно, почему наше дело нам не удается!» Вместо двух пропущенных обеден алхимик вызывается отстоять дюжину, вместо одной «Богородицы» — отчитать десяток.
