Страница:
Альберт. А теперь нет такого счастья, чтобы оно кого-нибудь испугало завистью небес, но всякий, кому выпадает успех, хвастается так, словно Немезида умерла или оглохла… Если эта трапеза пришлась вам по вкусу, мой садик, который вы освятили разговором, настолько же приятным, насколько полезным, предложит ее снова, когда ни пожелаете.
Бартолин. Далее Апиций не смог бы угостить вкуснее! А потому жди нас к себе часто — лишь бы только ты остался доволен нашею складчиной. Пожалуй, она и недостойна твоего слуха, но каждый выложил первое, что пришло в голову. Когда подумаем заранее, принесем кой-чего получше.
Альберт. Тем более меня обяжете.
Искусство запоминания

Эразмий. Кажется, Музы не очень ко мне благосклонны. Но дело пошло бы удачнее, если бы я мог кое-что от тебя получить.
Дезидерий. Отказа ни в чем не встретишь — только бы это было тебе на пользу. Итак, говори.
Эразмий. Не сомневаюсь, что нет ни единого из тайных искусств, которого бы ты не знал.
Дезидерий. Если бы так!
Эразмий. Говорят, существует некое искусство запоминания, которое позволяет почти без хлопот выучить все свободные науки.
Дезидерий. Что я слышу? И ты сам видел книгу?
Эразмий. Видел. Но именно что видел: учителя не нашлось.
Дезидерий. А в книге что?
Эразмий. Изображения разных животных — драконов, львов, леопардов, разные круги, а в них слова — и греческие, и латинские, и еврейские, и даже из варварских языков.
Дезидерий. А в названии указывалось, за сколько дней можно постигнуть науки?
Эразмий. Да, за четырнадцать.
Дезидерий. Щедрое обещание, ничего не скажешь. Но знаешь ли ты хоть одного человека, которого бы это искусство запоминания сделало ученым?
Эразмий. Нет, ни одного.
Дезидерий. И никто иной такого человека не видел и не увидит, разве что сперва мы увидим счастливца, которого алхимия сделала богатым.
Эразмий. А мне бы так хотелось, чтобы это было правдой!
Дезидерий. Наверно, потому, что досадно покупать знания ценою стольких трудов.
Эразмий. Конечно.
Дезидерий. Но так судили вышние боги. Обыкновенные богатства — золото, самоцветы, серебро, дворцы, Царства — они иной раз дарят и ленивым и недостойным; но истинные богатства, которые доподлинно составляют нашу собственность, нельзя приобрести иначе, как трудом. И нам не должен быть в тягость труд, которым приобретается такая ценность, когда мы наблюдаем, как очень многие сквозь ужасающие опасности и неисчислимые преграды рвутся к благам преходящим и, по сравнению с ученостью, право же, ничтожным, да еще и не всегда достигают цели. А кроме того, к трудам учения примешана и немалая сладость, если подвигаться вперед постепенно. И наконец, ты сам способен утишить и скуку и досаду — в значительной степени это зависит от тебя.
Эразмий. Как так?
Дезидерий. Убеди себя, во-первых, полюбить занятия. А во-вторых — восхищайся ими.
Эразмий. А какие к этому средства?
Дезидерий. Задумайся над тем, скольких людей обогатили науки, скольких возвели на вершину почета и власти. И еще задумайся, как велико различие меж человеком и скотом.
Эразмий. Добрый совет.
Дезидерий. Далее, нужно приучить ум к сосредоточенности; он должен находить удовольствие прежде всего в полезном, а не в приятном. То, что само по себе и достойно и славно, поначалу иной раз бывает сопряжено с некоторою тягостью, которая, однако же, рассеивается привычкою. Тогда ты и учителя будешь меньше утомлять, и сам усваивать будешь легче — в согласии со словами Исократа[611], которые следует начертать золотыми буквами на титульном листе твоей книги: Εαν ης φιλομαθής, εση πολυμανης[612].
Эразмий. Усваиваю-то я довольно быстро, но все мигом утекает!
Дезидерий. Как из дырявой бочки?
Эразмий. Да, именно. А помочь ничем не могу.
Дезидерий. Отчего же, надо заделать щели и остановить течь.
Эразмий. Чем заделать?
Дезидерий. Не мхом и не гипсом, а усердием. Кто вытверживает слова, не поняв смысла, скоро их забывает, ибо слова, как говорит Гомер, πτεροεντα[613] и легко улетают, если их не удерживает груз смысла. А стало быть, в первую очередь, старайся понять существо дела, потом обдумай еще и еще раз. И надо, как я уже сказал, приучить ум к тому, чтобы он мыслил сосредоточенно всякий раз, когда потребуется. А если у кого ум до того дикий, что к этому привыкнуть не способен, он для науки решительно не годится.
Эразмий. Я слишком понимаю, как это трудно.
Дезидерий. А у кого ум до того верткий, что не может задержаться ни на какой мысли, тот ни слушать долго не может, ни закрепить в памяти то, что узнал. Надежно оттиснуть что бы то ни было можно на свинце; на воде или ртути, которые всегда струятся и растекаются, нельзя оттиснуть ничего… Если бы тебе удалось приучить к этому свой разум, ты с наименьшими трудами запомнишь очень многое, — ведь ты постоянно находишься среди ученых[614], чьи беседы каждый день приносят столько достопамятного.
Эразмий. Да, конечно.
Дезидерий. Ведь, помимо речей за столом, помимо повседневных разговоров, ты сразу после завтрака выслушиваешь восемь изящных, остро отточенных изречений, выбранных из лучших авторов, и после обеда столько же. Подсчитай-ка, сколько наберется за месяц и за год.
Эразмий. Целая гора, если бы все упомнить.
Дезидерий. А раз вокруг говорят только по-латыни, и говорят хорошо, что мешает тебе в течение немногих месяцев выучиться этому языку, когда неграмотные мальчишки за короткий срок выучиваются по-французски или по-испански?
Эразмий. Последую твоему совету и испытаю свой ум — способен ли он привыкнуть к ярму Муз.
Дезидерий. Иного искусства запоминания, кроме старательности, любви и усердия, я не знаю.
Проповедь, или Дермард
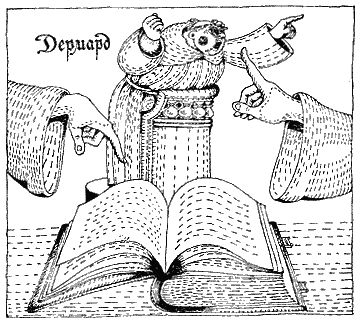
Левин. Что это Гиларий бормочет себе под нос? Наверно, стишки сочиняет.
Гиларий. С каким удовольствием заткнул бы я грязную пасть этому болтуну дермом!
Левин. Окликну его. Что с тобою, Гиларий? Отчего такой невеселый, вопреки своему имени[616]?
Гиларий. Ах, как хорошо, что ты повстречался мне, Левин! Сейчас выплесну в тебя всю горечь, которая накопилась в этой груди!
Левин. Чем в нас, так уж лучше в таз. Но что такое приключилось? Откуда ты идешь?
Гиларий. От святой проповеди.
Левин. Что поэту до святых проповедей?
Гиларий. Я святого не чуждаюсь, но тут напал на святость в том смысле, в каком Вергилий называет «святою» жажду золота, — на гнусную святость. Вот из-за таких пустобрехов я и не хожу к проповеди.
Левин. А где было дело?
Гиларий. В соборе.
Левин. После обеда? Об эту пору люди обыкновенно спят.
Гиларий. Хоть бы все люди спали для этого болтуна, едва ли достойного проповедовать даже перед гусями!
Левин. Гусь существо шумливое. Говорят, правда, что патриарх Франциск проповедовал как-то перед сестрами-птичками, и те слушали в глубоком молчании. Но разве по субботам тоже бывает проповедь?
Гиларий. Бывает, в честь святой Девы. По воскресеньям проповедуют Христа, а Матери подобает первенство.
Левин. О чем проповедник говорил?
Гиларий. Изъяснял Песнь Богородицы[617].
Левин. Избитая тема.
Гиларий. Но как раз под стать проповеднику. Я подозреваю, что ничего иного он и не знает. Так же, как, говорят, молено встретить священников, которые не знают ни одной службы, кроме заупокойной.
Левин. Итак, назовем его «Проповедником от „Величит“, или „Величительным проповедником“. Но что была за птица, в какие перья одета?
Гиларий. Очень схожа с коршуном.
Левин. А из какого птичника?
Гиларий. Из францисканского.
Левин. Что ты говоришь! Из святейшего братства? Может, из выродившейся породы, из тех, что зовутся «радующимися»[618] и ходят в темной рясе и в башмаках, подпоясываются белым поясом и не боятся — страшно вымолвить! — не боятся трогать деньги голыми руками?
Гиларий. Нет, из отборнейшего стада, из тех, что с наслаждением именуют себя «наблюдающими устав», носят рясу цвета золы, веревочный пояс и сандалии и скорее человека убьют, чем прикоснутся к деньгам.
Левин. Нет ничего удивительного, если между розами вырастет репейник. Но кто выпустил этого шута на такой проскений[619]?
Гиларий. Ты назвал бы его шутом еще с большею уверенностью, если бы увидал своими глазами. Высокий, дородный, щеки красные, брюхо торчком, плечи как у гладиатора — прямо атлет какой-то! И, насколько можно догадываться, за обедом выпил не одну кружку вина.
Левин. Откуда столько вина у того, кто не притрагивается к деньгам?
Гиларий. От короля Фердинанда[620]: наш гладиатор получал по четыре кружки на день из королевского погреба.
Левин. Худая щедрость! Но, может, он ученый?
Гиларий. Нет у него за душою ничего, кроме бесстыдства, негодяйства да разнузданного языка.
Левин. Что же ввело Фердинанда в заблуждение — почему бык очутился в палестре?
Гиларий. Собственно говоря, благочестие и королевская доброта: кто-то хорошо о нем отозвался, и король склонил голову к правому плечу.
Левин. Как Христос на кресте… А слушателей собралось много?
Гиларий. Как могло быть иначе — в прославленном храме, в Аугсбурге, во время сейма[621], на который император Карл созвал столько монархов со всей Германии, из Италии, из Испании, из Англии? Даже ученые пришли в немалом числе, особенно те, что состоят при разных дворах.
Левин. Едва ли этот хряк мог произнести хоть что-нибудь достойное такого собрания.
Гиларий. Зато произнес многое, что было достойно его самого.
Левин. Что же? Расскажи, наконец! Но сперва, пожалуйста, открой мне его имя.
Гиларий. Это ни к чему.
Левин. Отчего, Гиларий?
Гиларий. Мне неприятно делать одолжение таким скотам.
Левин. Как? Выставлять на позор — это значит одалживать?
Гиларий. Они почитают за величайшее благодеяние, если их выводят из безвестности каким бы то ни было способом.
Левин. Но все-таки назови мне имя. Я буду молчать.
Гиларий. Его зовут Дермардом[622].
Левин. Прекрасно его знаю! Это ведь он, Дермард, недавно в каком-то застолье обозвал нашего Эразма «диаволом»?
Гиларий. Он самый. Тогдашние его слова, правда, не сошли ему безнаказанно, но все же люди учтивые и доброжелательные приписывали их хмелю, опьянению.
Левин. А как он оправдывался в ответ на все укоры?
Гиларий. В сердцах, дескать, сказал.
Левин. «В сердцах»? Ведь у него ни сердца нет, ни души!
Гиларий. Но когда Дермард излил свое гнойное дермо всенародно, да еще в таком месте, да еще перед такими слушателями, при таком блестящем стечении монархов, наконец — это уже показалось непереносимым и мне, и всем образованным людям!
Левин. Рассказывай! Не томи!
Гиларий. Он долго, до крайности тупо и до крайности злобно нападал на нашего Эразма. «Появился в последнее время, — так он орал, — какой-то новый доктор Эразм. Виноват, оговорился: не Эразм, а осел!» И тут же объяснил народу, как «осел» по-немецки. Левин. Очень забавно!
Гиларий. Так ли уж забавно? Скорее глупо! Левин. Разве, по-твоему, не забавно, что такой осел зовет «ослом» кого бы то ни было (не говоря уже об Эразме)? Одно я знаю точно: будь среди вас сам Эразм, он бы от смеха не удержался.
Гиларий. Да, бестолковостью он напоминал осла не меньше, чем цветом платья.
Левин. Я полагаю, во всей Аркадии[623] не сыскать осла, который был бы ослом до такой степени, чтобы жевать сено с большим на то правом, нежели у нашего Дермарда.
Гиларий. Ну, прямо-таки Апулей навыворот! Тот под ослиным обличием скрывал человека, этот под человеческим обличием скрывает осла.
Левин. Но этаких ослов мы нынче кормим пирогами да поим медвяными винами, — так что же удивляться, если они и кусают, кого вздумается, и копытами лягают?
Гиларий. «Этот, говорит, доктор-осел смеет поправлять „Величит“, хотя песнь изречена святым Духом через уста святейшей Девы!»
Левин. Узнаю παροιμιαν αδελφικην[624]. Гиларий. Он так надрывался и ужасался, словно совершилось чудовищное богохульство.
Левин. Сердце в пятки уходит! Что же он натворил, наш Эразм?
Гиларий. Церковь поет: «Ибо призрел господь смирение рабы своей», а Эразм, вместо этого, перевел: «Ибо призрел ничтожество рабы своей». Это слово по-немецки звучит унизительнее, чем по-латыни.
Левин. Кто ж не согласится, что это мерзостное богохульство — святейшую Матерь Христову, которая превыше всех серафимов и херувимов, назвать ничтожной рабою?!
Гиларий. Ну, а что, если бы кто-нибудь назвал апостолов ничего не стоящими рабами?
Левин. Я бы сложил костер богохульнику.
Гиларий. А что, если бы несравненно Павла-апостола кто-нибудь назвал недостойным апостольского имени?
Левин. Я закричал бы: «Огня!»
Гиларий. Но именно так научил говорить своих апостолов единственный неопровержимый учитель — Христос[625]: «Когда исполните все, повеленное вам, говорите: „Мы рабы, ничего не стоящие“. И, помня об этом наставлении, Павел объявляет о себе: „Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом“[626].
Левин. Да, так объявляют о себе люди благочестивые, ибо скромность — добродетель, которая богу всего милее; но если то же объявит о них кто-либо другой, и особенно когда они причислены к лику святых, — это тяжкое богохульство.
Гиларий. Отлично распустил узел! Но тогда, если бы Эразм сказал про почитаемую Деву, что она ничтожная раба господа, всякий согласился бы, что это нечестие. Однако ж это она сама говорит о себе таким образом — умножая свою славу, а нам подавая пример спасительной скромности, чтобы каждый, чем выше он поднялся, тем тише бы держался, потому что чем бы мы ни были, все это лишь по щедрости божией.
Левин. Тут я с тобою согласен. Но когда те люди говорят «поправить», они имеют в виду «испортить» или «исказить». Значит, надо проверить, отвечает ли слово «ничтожество» греческому слову, которое употребил Лука.
Гиларий. Как раз поэтому сразу же после проповеди я схватился за книгу.
Левин. И что выискал?
Гиларий. Слова, которые Лука, в наитии свыше, начертал святейшими своими перстами, таковы: οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν της δούλης αυτού. Наш Эразм перевел так: «Ибо призрел на смирение рабы своей». Против прежнего[627] он прибавил только предлог, который есть и у Луки; этот предлог и изящества римской речи не оскорбляет, и для смысла он не лишний. Так же выразился и Терениий в «Формионе»[628]. Но в «Примечаниях» Эразм говорит, что Лука имеет в виду скорее не «призирать», а «взирать».
Левин. Значит, это не одно и то же?
Гиларий. Не совсем. Различие есть, хотя и не большое. Призирает тот, кто взирает, повернув голову, — когда предмет находится позади него. Взирает тот, кто просто глядит. Далее, о человеке, который, занявшись иными делами, не заботится о своих детях, говорят, что он оставил детей без призрения; если же отбросив все прочие заботы, он обращает свои помыслы к семье, говорят, что он призрел своих детей, и выражение это изысканное. Бог единым взглядом охватывает вселенную в ее настоящем, прошедшем и будущем; однако с нами в Писании он изъясняется на человеческий лад. О тех, кого бог осуждает, говорится, что они отвергнуты, о тех, кого он словно бы не замечал какое-то время, а после удостаивает своей благосклонности, — что бог на них призрел. Лука выразил бы это точнее, если бы казал: απεβλεψεν. Однако мы читаем: επεβλεψεν. Впрочем, смысл почти не меняется.
Левин. И все-таки повторять предлог, по-моему, ни к чему.
Гиларий. Но ведь и по-латыни так же: отослал от себя, навел на мысль. Мне предлог не кажется здесь лишним. «Призреть» может и тот, кто обернулся случайно, не направляя взгляда на определенный предмет. «Призрел на меня» обозначает особую благосклонность, если кто желает оказать помощь тому или иному. Взираем мы иногда мимоходом, на вещи, которые нисколько нас не занимают, а иной раз — даже и нехотя. Но если мы взираем на кого-либо, мы обнаруживаем особое внимание к тому, на кого смотрим. И святой Дух, желая, чтобы мы убедились в необычайной его благосклонности к святейшей Деве, так глаголит ее устами: «Ибо призрел на смирение рабы своей». Отвратил взор от надменных, которые считали себя великими, и обратил к той, кто в собственных глазах была всех меньше и ниже. Нет сомнения, что много было ученых, сильных, богатых, знатных, которые надеялись, что мессия[629] выйдет из их рода, но их господь презрел и милосерднейший взор свой направил на деву, никому не ведомую, бедную, супругу плотника, даже обилием потомства не взысканную.
Левин. Но я еще ничего не слышал о «ничтожестве».
Гиларий. Это слово принадлежит доносчику, а не Эразму.
Левин. Но, может быть, в примечании упомянуто насчет «ничтожества».
Гиларий. Ничего подобного. По поводу ταπεινωσιν он самым осторожным образом замечает только одно: «Имеется в виду незначительность положения, а не достоинство души. Смысл: хоть я и самая последняя рабыня, не отвергнул меня господь».
Левин. Если объяснение верно и вполне благочестиво, что же они разревелись, дикие ослы?
Гиларий. Они не знают латыни — отсюда и все возмущение. У древних, когда они говорят, точно употребляя слова, «смирение» обозначает не достоинство души, которое противоположно пороку высокомерия и зовется «скромностью», а низкое положение; в этом смысле мы называем «смиренными» незнатных, бедных, невежественных, не стоящих внимания, — они словно бы низко пригнулись к земле. Подобно тому как, обращаясь к важным особам, мы говорим: «Прошу твое высочество оказать покровительство нам в этом деле», — так же точно, желая принизить себя, говорим: «Пожалуйста, поддержи наше смирение своею добротою». Если ж мы упираем на личные местоимения, в этом есть что-то вызывающее; например: «Я говорю», «Я сделаю». И скромнейшая девушка одновременно и умалила свое положение, и возвеличила щедрую милость божества, сказав о себе не просто «раба», но «смиренная раба», то есть самого низкого положения. Пословица гласит, что раб рабу рознь; и между служанками одна выше другой — по достоинству своего занятия. Горничной больше почета, чем прачке.
Левин. Удивительно, что Дермард не узнал этого оборота речи. Ведь я сколько раз собственными ушами слышал, как францисканцы изъяснялись следующим образом: «Моя малость благодарит тебя за пышное угощеванье».
Гиларий. Иные были бы недалеки от истины, если бы сказали: «Моя пакость»… Греческое слово ταπεινοφροσύνη имеет, по-видимому, значение несколько более широкое, чем «скромность», и потому христиане предпочли перевести не «скромность», но «смирение», иначе говоря, ясность предпочли изяществу. «Скромным» зовется человек, который судит о себе разумно и умеренно и не требует ничего сверх заслуженного. Но слава ταπεινοφροσύνης приличествует лишь такому человеку, который приписывает себе менее того, что имеет.
Левин. Но есть опасность, как бы, ища скромности, мы не впали в суесловие.
Гиларий. Отчего?
Левин. Оттого что, если верно сказал Павел: «Я недостоин называться апостолом» и если верно назвала себя Мария «смиренной рабою», то есть служанкою самого низшего положения, тогда люди, которые превозносят их обоих столь громкими похвалами, могут оказаться повинны во лжи.
Гиларий. Опасности ни малейшей, мой милый! Восхваляя благочестивых, мы прославляем в них милость божию, а когда они сами унижают себя, то имеют в виду, что и силы их, и заслуги были бы тщетны, если бы не благосклонность божества. И это не обязательно ложь, если кто не заявляет притязаний на свою собственность; если только он не кривит душою, заблуждением это еще, пожалуй, можно назвать, ложью — никогда. Но как раз такое заблуждение любит в нас бог.
Левин. Но Павел, утверждающий, что недостоин имени апостола, в другом месте вещает о себе цветисто и выспренне[630], припоминая свои деяния. «Я, — говорит он, — более всех потрудился». И еще: «Знаменитые не возложили на меня ничего более». Меж тем из уст святейшей Девы мы ничего подобного не услышим.
Гиларий. Но деяния эти Павел зовет[631] своими немощами, которыми было прославлено божие могущество; а упоминание о них зовет неразумием, к которому его привело бесстыдство лжеапостолов. Из-за лжеапостолов пришлося ему отстаивать свою апостольскую власть — не ради того, чтобы наслаждаться человеческой славою, но ради Евангелия, о котором ему было доверено печься. Приснодева же об этом не помышляла, ибо задача провозглашения Евангелия ей поручена не была. Далее, и полу ее, и девству, и, наконец, святейшему материнству подобала великая застенчивость и великая скромность.
Теперь перехожу к корню ошибки. Кто не знает по-латыни, думают, будто «смирение» не выражает ничего иного, кроме особой скромности; на самом же деле слово это иногда относится не к достоинству души, но к состоянию или положению, а иногда, относясь к душе, обозначает и порок.
Левин. Как? И в Святом писании?
Гиларий. Разумеется. Вот тебе место у Павла, из «Послания к Колоссянам», глава вторая: «Никто да не обольщает вас самовольным смирением и служением ангелов». Правда, здесь не εν ταπεινώσει, как в Песни Богородицы, а εν ταπεινοφροσύνη. Я готов признать, что место не вполне ясное, но мне представляется, что ученые открывают подлинный смысл, приводя следующее толкование: «Не будьте так смиренны и унылы духом, чтобы, однажды посвятив себя Христу, единственному источнику спасения, затем поверить, будто спасения должно ожидать от ангелов, которые якобы являлись некоторым. Будьте возвышенны духом, дабы если и поистине сойдет с небес ангел и возвестит вам иное Евангелие, нежели Христово, вы бы прокляли его как ангела нечестия, как врага Христова. И уже вовсе не подобает вам такая приниженность духа, при коей вымышленные явления ангелов способны отторгнуть вас от Христа. Ждать спасения от одного Христа — это вера, от ангелов или же святых — суеверие». Павел, стало быть, хочет сказать, что смирение и унылость духа — путь к отпадению от величия Христова ради ложных явлений ангелов, ибо душевной приниженности свойственно доверяться любому внушению. Ты видишь, что здесь ταπεινοφροσύνη употреблено в дурном смысле?
Бартолин. Далее Апиций не смог бы угостить вкуснее! А потому жди нас к себе часто — лишь бы только ты остался доволен нашею складчиной. Пожалуй, она и недостойна твоего слуха, но каждый выложил первое, что пришло в голову. Когда подумаем заранее, принесем кой-чего получше.
Альберт. Тем более меня обяжете.
Искусство запоминания

Дезидерий. Эразмий [610]
Дезидерий. Как подвигаются твои занятия, Эразмий?Эразмий. Кажется, Музы не очень ко мне благосклонны. Но дело пошло бы удачнее, если бы я мог кое-что от тебя получить.
Дезидерий. Отказа ни в чем не встретишь — только бы это было тебе на пользу. Итак, говори.
Эразмий. Не сомневаюсь, что нет ни единого из тайных искусств, которого бы ты не знал.
Дезидерий. Если бы так!
Эразмий. Говорят, существует некое искусство запоминания, которое позволяет почти без хлопот выучить все свободные науки.
Дезидерий. Что я слышу? И ты сам видел книгу?
Эразмий. Видел. Но именно что видел: учителя не нашлось.
Дезидерий. А в книге что?
Эразмий. Изображения разных животных — драконов, львов, леопардов, разные круги, а в них слова — и греческие, и латинские, и еврейские, и даже из варварских языков.
Дезидерий. А в названии указывалось, за сколько дней можно постигнуть науки?
Эразмий. Да, за четырнадцать.
Дезидерий. Щедрое обещание, ничего не скажешь. Но знаешь ли ты хоть одного человека, которого бы это искусство запоминания сделало ученым?
Эразмий. Нет, ни одного.
Дезидерий. И никто иной такого человека не видел и не увидит, разве что сперва мы увидим счастливца, которого алхимия сделала богатым.
Эразмий. А мне бы так хотелось, чтобы это было правдой!
Дезидерий. Наверно, потому, что досадно покупать знания ценою стольких трудов.
Эразмий. Конечно.
Дезидерий. Но так судили вышние боги. Обыкновенные богатства — золото, самоцветы, серебро, дворцы, Царства — они иной раз дарят и ленивым и недостойным; но истинные богатства, которые доподлинно составляют нашу собственность, нельзя приобрести иначе, как трудом. И нам не должен быть в тягость труд, которым приобретается такая ценность, когда мы наблюдаем, как очень многие сквозь ужасающие опасности и неисчислимые преграды рвутся к благам преходящим и, по сравнению с ученостью, право же, ничтожным, да еще и не всегда достигают цели. А кроме того, к трудам учения примешана и немалая сладость, если подвигаться вперед постепенно. И наконец, ты сам способен утишить и скуку и досаду — в значительной степени это зависит от тебя.
Эразмий. Как так?
Дезидерий. Убеди себя, во-первых, полюбить занятия. А во-вторых — восхищайся ими.
Эразмий. А какие к этому средства?
Дезидерий. Задумайся над тем, скольких людей обогатили науки, скольких возвели на вершину почета и власти. И еще задумайся, как велико различие меж человеком и скотом.
Эразмий. Добрый совет.
Дезидерий. Далее, нужно приучить ум к сосредоточенности; он должен находить удовольствие прежде всего в полезном, а не в приятном. То, что само по себе и достойно и славно, поначалу иной раз бывает сопряжено с некоторою тягостью, которая, однако же, рассеивается привычкою. Тогда ты и учителя будешь меньше утомлять, и сам усваивать будешь легче — в согласии со словами Исократа[611], которые следует начертать золотыми буквами на титульном листе твоей книги: Εαν ης φιλομαθής, εση πολυμανης[612].
Эразмий. Усваиваю-то я довольно быстро, но все мигом утекает!
Дезидерий. Как из дырявой бочки?
Эразмий. Да, именно. А помочь ничем не могу.
Дезидерий. Отчего же, надо заделать щели и остановить течь.
Эразмий. Чем заделать?
Дезидерий. Не мхом и не гипсом, а усердием. Кто вытверживает слова, не поняв смысла, скоро их забывает, ибо слова, как говорит Гомер, πτεροεντα[613] и легко улетают, если их не удерживает груз смысла. А стало быть, в первую очередь, старайся понять существо дела, потом обдумай еще и еще раз. И надо, как я уже сказал, приучить ум к тому, чтобы он мыслил сосредоточенно всякий раз, когда потребуется. А если у кого ум до того дикий, что к этому привыкнуть не способен, он для науки решительно не годится.
Эразмий. Я слишком понимаю, как это трудно.
Дезидерий. А у кого ум до того верткий, что не может задержаться ни на какой мысли, тот ни слушать долго не может, ни закрепить в памяти то, что узнал. Надежно оттиснуть что бы то ни было можно на свинце; на воде или ртути, которые всегда струятся и растекаются, нельзя оттиснуть ничего… Если бы тебе удалось приучить к этому свой разум, ты с наименьшими трудами запомнишь очень многое, — ведь ты постоянно находишься среди ученых[614], чьи беседы каждый день приносят столько достопамятного.
Эразмий. Да, конечно.
Дезидерий. Ведь, помимо речей за столом, помимо повседневных разговоров, ты сразу после завтрака выслушиваешь восемь изящных, остро отточенных изречений, выбранных из лучших авторов, и после обеда столько же. Подсчитай-ка, сколько наберется за месяц и за год.
Эразмий. Целая гора, если бы все упомнить.
Дезидерий. А раз вокруг говорят только по-латыни, и говорят хорошо, что мешает тебе в течение немногих месяцев выучиться этому языку, когда неграмотные мальчишки за короткий срок выучиваются по-французски или по-испански?
Эразмий. Последую твоему совету и испытаю свой ум — способен ли он привыкнуть к ярму Муз.
Дезидерий. Иного искусства запоминания, кроме старательности, любви и усердия, я не знаю.
Проповедь, или Дермард
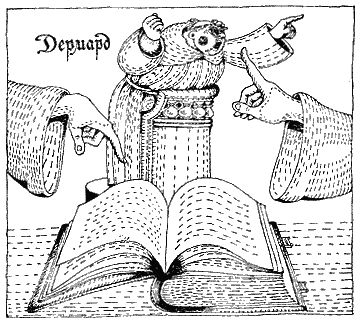
Гиларий. Левин
Гиларий. Боже бессмертный! Каких только чудищ не рождает и не питает земля! До такой степени забыть всякий стыд! А еще «серафические мужи»[615]! Наверно, воображают, будто перед пнями дубовыми держат речь, а не перед людьми!Левин. Что это Гиларий бормочет себе под нос? Наверно, стишки сочиняет.
Гиларий. С каким удовольствием заткнул бы я грязную пасть этому болтуну дермом!
Левин. Окликну его. Что с тобою, Гиларий? Отчего такой невеселый, вопреки своему имени[616]?
Гиларий. Ах, как хорошо, что ты повстречался мне, Левин! Сейчас выплесну в тебя всю горечь, которая накопилась в этой груди!
Левин. Чем в нас, так уж лучше в таз. Но что такое приключилось? Откуда ты идешь?
Гиларий. От святой проповеди.
Левин. Что поэту до святых проповедей?
Гиларий. Я святого не чуждаюсь, но тут напал на святость в том смысле, в каком Вергилий называет «святою» жажду золота, — на гнусную святость. Вот из-за таких пустобрехов я и не хожу к проповеди.
Левин. А где было дело?
Гиларий. В соборе.
Левин. После обеда? Об эту пору люди обыкновенно спят.
Гиларий. Хоть бы все люди спали для этого болтуна, едва ли достойного проповедовать даже перед гусями!
Левин. Гусь существо шумливое. Говорят, правда, что патриарх Франциск проповедовал как-то перед сестрами-птичками, и те слушали в глубоком молчании. Но разве по субботам тоже бывает проповедь?
Гиларий. Бывает, в честь святой Девы. По воскресеньям проповедуют Христа, а Матери подобает первенство.
Левин. О чем проповедник говорил?
Гиларий. Изъяснял Песнь Богородицы[617].
Левин. Избитая тема.
Гиларий. Но как раз под стать проповеднику. Я подозреваю, что ничего иного он и не знает. Так же, как, говорят, молено встретить священников, которые не знают ни одной службы, кроме заупокойной.
Левин. Итак, назовем его «Проповедником от „Величит“, или „Величительным проповедником“. Но что была за птица, в какие перья одета?
Гиларий. Очень схожа с коршуном.
Левин. А из какого птичника?
Гиларий. Из францисканского.
Левин. Что ты говоришь! Из святейшего братства? Может, из выродившейся породы, из тех, что зовутся «радующимися»[618] и ходят в темной рясе и в башмаках, подпоясываются белым поясом и не боятся — страшно вымолвить! — не боятся трогать деньги голыми руками?
Гиларий. Нет, из отборнейшего стада, из тех, что с наслаждением именуют себя «наблюдающими устав», носят рясу цвета золы, веревочный пояс и сандалии и скорее человека убьют, чем прикоснутся к деньгам.
Левин. Нет ничего удивительного, если между розами вырастет репейник. Но кто выпустил этого шута на такой проскений[619]?
Гиларий. Ты назвал бы его шутом еще с большею уверенностью, если бы увидал своими глазами. Высокий, дородный, щеки красные, брюхо торчком, плечи как у гладиатора — прямо атлет какой-то! И, насколько можно догадываться, за обедом выпил не одну кружку вина.
Левин. Откуда столько вина у того, кто не притрагивается к деньгам?
Гиларий. От короля Фердинанда[620]: наш гладиатор получал по четыре кружки на день из королевского погреба.
Левин. Худая щедрость! Но, может, он ученый?
Гиларий. Нет у него за душою ничего, кроме бесстыдства, негодяйства да разнузданного языка.
Левин. Что же ввело Фердинанда в заблуждение — почему бык очутился в палестре?
Гиларий. Собственно говоря, благочестие и королевская доброта: кто-то хорошо о нем отозвался, и король склонил голову к правому плечу.
Левин. Как Христос на кресте… А слушателей собралось много?
Гиларий. Как могло быть иначе — в прославленном храме, в Аугсбурге, во время сейма[621], на который император Карл созвал столько монархов со всей Германии, из Италии, из Испании, из Англии? Даже ученые пришли в немалом числе, особенно те, что состоят при разных дворах.
Левин. Едва ли этот хряк мог произнести хоть что-нибудь достойное такого собрания.
Гиларий. Зато произнес многое, что было достойно его самого.
Левин. Что же? Расскажи, наконец! Но сперва, пожалуйста, открой мне его имя.
Гиларий. Это ни к чему.
Левин. Отчего, Гиларий?
Гиларий. Мне неприятно делать одолжение таким скотам.
Левин. Как? Выставлять на позор — это значит одалживать?
Гиларий. Они почитают за величайшее благодеяние, если их выводят из безвестности каким бы то ни было способом.
Левин. Но все-таки назови мне имя. Я буду молчать.
Гиларий. Его зовут Дермардом[622].
Левин. Прекрасно его знаю! Это ведь он, Дермард, недавно в каком-то застолье обозвал нашего Эразма «диаволом»?
Гиларий. Он самый. Тогдашние его слова, правда, не сошли ему безнаказанно, но все же люди учтивые и доброжелательные приписывали их хмелю, опьянению.
Левин. А как он оправдывался в ответ на все укоры?
Гиларий. В сердцах, дескать, сказал.
Левин. «В сердцах»? Ведь у него ни сердца нет, ни души!
Гиларий. Но когда Дермард излил свое гнойное дермо всенародно, да еще в таком месте, да еще перед такими слушателями, при таком блестящем стечении монархов, наконец — это уже показалось непереносимым и мне, и всем образованным людям!
Левин. Рассказывай! Не томи!
Гиларий. Он долго, до крайности тупо и до крайности злобно нападал на нашего Эразма. «Появился в последнее время, — так он орал, — какой-то новый доктор Эразм. Виноват, оговорился: не Эразм, а осел!» И тут же объяснил народу, как «осел» по-немецки. Левин. Очень забавно!
Гиларий. Так ли уж забавно? Скорее глупо! Левин. Разве, по-твоему, не забавно, что такой осел зовет «ослом» кого бы то ни было (не говоря уже об Эразме)? Одно я знаю точно: будь среди вас сам Эразм, он бы от смеха не удержался.
Гиларий. Да, бестолковостью он напоминал осла не меньше, чем цветом платья.
Левин. Я полагаю, во всей Аркадии[623] не сыскать осла, который был бы ослом до такой степени, чтобы жевать сено с большим на то правом, нежели у нашего Дермарда.
Гиларий. Ну, прямо-таки Апулей навыворот! Тот под ослиным обличием скрывал человека, этот под человеческим обличием скрывает осла.
Левин. Но этаких ослов мы нынче кормим пирогами да поим медвяными винами, — так что же удивляться, если они и кусают, кого вздумается, и копытами лягают?
Гиларий. «Этот, говорит, доктор-осел смеет поправлять „Величит“, хотя песнь изречена святым Духом через уста святейшей Девы!»
Левин. Узнаю παροιμιαν αδελφικην[624]. Гиларий. Он так надрывался и ужасался, словно совершилось чудовищное богохульство.
Левин. Сердце в пятки уходит! Что же он натворил, наш Эразм?
Гиларий. Церковь поет: «Ибо призрел господь смирение рабы своей», а Эразм, вместо этого, перевел: «Ибо призрел ничтожество рабы своей». Это слово по-немецки звучит унизительнее, чем по-латыни.
Левин. Кто ж не согласится, что это мерзостное богохульство — святейшую Матерь Христову, которая превыше всех серафимов и херувимов, назвать ничтожной рабою?!
Гиларий. Ну, а что, если бы кто-нибудь назвал апостолов ничего не стоящими рабами?
Левин. Я бы сложил костер богохульнику.
Гиларий. А что, если бы несравненно Павла-апостола кто-нибудь назвал недостойным апостольского имени?
Левин. Я закричал бы: «Огня!»
Гиларий. Но именно так научил говорить своих апостолов единственный неопровержимый учитель — Христос[625]: «Когда исполните все, повеленное вам, говорите: „Мы рабы, ничего не стоящие“. И, помня об этом наставлении, Павел объявляет о себе: „Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом“[626].
Левин. Да, так объявляют о себе люди благочестивые, ибо скромность — добродетель, которая богу всего милее; но если то же объявит о них кто-либо другой, и особенно когда они причислены к лику святых, — это тяжкое богохульство.
Гиларий. Отлично распустил узел! Но тогда, если бы Эразм сказал про почитаемую Деву, что она ничтожная раба господа, всякий согласился бы, что это нечестие. Однако ж это она сама говорит о себе таким образом — умножая свою славу, а нам подавая пример спасительной скромности, чтобы каждый, чем выше он поднялся, тем тише бы держался, потому что чем бы мы ни были, все это лишь по щедрости божией.
Левин. Тут я с тобою согласен. Но когда те люди говорят «поправить», они имеют в виду «испортить» или «исказить». Значит, надо проверить, отвечает ли слово «ничтожество» греческому слову, которое употребил Лука.
Гиларий. Как раз поэтому сразу же после проповеди я схватился за книгу.
Левин. И что выискал?
Гиларий. Слова, которые Лука, в наитии свыше, начертал святейшими своими перстами, таковы: οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν της δούλης αυτού. Наш Эразм перевел так: «Ибо призрел на смирение рабы своей». Против прежнего[627] он прибавил только предлог, который есть и у Луки; этот предлог и изящества римской речи не оскорбляет, и для смысла он не лишний. Так же выразился и Терениий в «Формионе»[628]. Но в «Примечаниях» Эразм говорит, что Лука имеет в виду скорее не «призирать», а «взирать».
Левин. Значит, это не одно и то же?
Гиларий. Не совсем. Различие есть, хотя и не большое. Призирает тот, кто взирает, повернув голову, — когда предмет находится позади него. Взирает тот, кто просто глядит. Далее, о человеке, который, занявшись иными делами, не заботится о своих детях, говорят, что он оставил детей без призрения; если же отбросив все прочие заботы, он обращает свои помыслы к семье, говорят, что он призрел своих детей, и выражение это изысканное. Бог единым взглядом охватывает вселенную в ее настоящем, прошедшем и будущем; однако с нами в Писании он изъясняется на человеческий лад. О тех, кого бог осуждает, говорится, что они отвергнуты, о тех, кого он словно бы не замечал какое-то время, а после удостаивает своей благосклонности, — что бог на них призрел. Лука выразил бы это точнее, если бы казал: απεβλεψεν. Однако мы читаем: επεβλεψεν. Впрочем, смысл почти не меняется.
Левин. И все-таки повторять предлог, по-моему, ни к чему.
Гиларий. Но ведь и по-латыни так же: отослал от себя, навел на мысль. Мне предлог не кажется здесь лишним. «Призреть» может и тот, кто обернулся случайно, не направляя взгляда на определенный предмет. «Призрел на меня» обозначает особую благосклонность, если кто желает оказать помощь тому или иному. Взираем мы иногда мимоходом, на вещи, которые нисколько нас не занимают, а иной раз — даже и нехотя. Но если мы взираем на кого-либо, мы обнаруживаем особое внимание к тому, на кого смотрим. И святой Дух, желая, чтобы мы убедились в необычайной его благосклонности к святейшей Деве, так глаголит ее устами: «Ибо призрел на смирение рабы своей». Отвратил взор от надменных, которые считали себя великими, и обратил к той, кто в собственных глазах была всех меньше и ниже. Нет сомнения, что много было ученых, сильных, богатых, знатных, которые надеялись, что мессия[629] выйдет из их рода, но их господь презрел и милосерднейший взор свой направил на деву, никому не ведомую, бедную, супругу плотника, даже обилием потомства не взысканную.
Левин. Но я еще ничего не слышал о «ничтожестве».
Гиларий. Это слово принадлежит доносчику, а не Эразму.
Левин. Но, может быть, в примечании упомянуто насчет «ничтожества».
Гиларий. Ничего подобного. По поводу ταπεινωσιν он самым осторожным образом замечает только одно: «Имеется в виду незначительность положения, а не достоинство души. Смысл: хоть я и самая последняя рабыня, не отвергнул меня господь».
Левин. Если объяснение верно и вполне благочестиво, что же они разревелись, дикие ослы?
Гиларий. Они не знают латыни — отсюда и все возмущение. У древних, когда они говорят, точно употребляя слова, «смирение» обозначает не достоинство души, которое противоположно пороку высокомерия и зовется «скромностью», а низкое положение; в этом смысле мы называем «смиренными» незнатных, бедных, невежественных, не стоящих внимания, — они словно бы низко пригнулись к земле. Подобно тому как, обращаясь к важным особам, мы говорим: «Прошу твое высочество оказать покровительство нам в этом деле», — так же точно, желая принизить себя, говорим: «Пожалуйста, поддержи наше смирение своею добротою». Если ж мы упираем на личные местоимения, в этом есть что-то вызывающее; например: «Я говорю», «Я сделаю». И скромнейшая девушка одновременно и умалила свое положение, и возвеличила щедрую милость божества, сказав о себе не просто «раба», но «смиренная раба», то есть самого низкого положения. Пословица гласит, что раб рабу рознь; и между служанками одна выше другой — по достоинству своего занятия. Горничной больше почета, чем прачке.
Левин. Удивительно, что Дермард не узнал этого оборота речи. Ведь я сколько раз собственными ушами слышал, как францисканцы изъяснялись следующим образом: «Моя малость благодарит тебя за пышное угощеванье».
Гиларий. Иные были бы недалеки от истины, если бы сказали: «Моя пакость»… Греческое слово ταπεινοφροσύνη имеет, по-видимому, значение несколько более широкое, чем «скромность», и потому христиане предпочли перевести не «скромность», но «смирение», иначе говоря, ясность предпочли изяществу. «Скромным» зовется человек, который судит о себе разумно и умеренно и не требует ничего сверх заслуженного. Но слава ταπεινοφροσύνης приличествует лишь такому человеку, который приписывает себе менее того, что имеет.
Левин. Но есть опасность, как бы, ища скромности, мы не впали в суесловие.
Гиларий. Отчего?
Левин. Оттого что, если верно сказал Павел: «Я недостоин называться апостолом» и если верно назвала себя Мария «смиренной рабою», то есть служанкою самого низшего положения, тогда люди, которые превозносят их обоих столь громкими похвалами, могут оказаться повинны во лжи.
Гиларий. Опасности ни малейшей, мой милый! Восхваляя благочестивых, мы прославляем в них милость божию, а когда они сами унижают себя, то имеют в виду, что и силы их, и заслуги были бы тщетны, если бы не благосклонность божества. И это не обязательно ложь, если кто не заявляет притязаний на свою собственность; если только он не кривит душою, заблуждением это еще, пожалуй, можно назвать, ложью — никогда. Но как раз такое заблуждение любит в нас бог.
Левин. Но Павел, утверждающий, что недостоин имени апостола, в другом месте вещает о себе цветисто и выспренне[630], припоминая свои деяния. «Я, — говорит он, — более всех потрудился». И еще: «Знаменитые не возложили на меня ничего более». Меж тем из уст святейшей Девы мы ничего подобного не услышим.
Гиларий. Но деяния эти Павел зовет[631] своими немощами, которыми было прославлено божие могущество; а упоминание о них зовет неразумием, к которому его привело бесстыдство лжеапостолов. Из-за лжеапостолов пришлося ему отстаивать свою апостольскую власть — не ради того, чтобы наслаждаться человеческой славою, но ради Евангелия, о котором ему было доверено печься. Приснодева же об этом не помышляла, ибо задача провозглашения Евангелия ей поручена не была. Далее, и полу ее, и девству, и, наконец, святейшему материнству подобала великая застенчивость и великая скромность.
Теперь перехожу к корню ошибки. Кто не знает по-латыни, думают, будто «смирение» не выражает ничего иного, кроме особой скромности; на самом же деле слово это иногда относится не к достоинству души, но к состоянию или положению, а иногда, относясь к душе, обозначает и порок.
Левин. Как? И в Святом писании?
Гиларий. Разумеется. Вот тебе место у Павла, из «Послания к Колоссянам», глава вторая: «Никто да не обольщает вас самовольным смирением и служением ангелов». Правда, здесь не εν ταπεινώσει, как в Песни Богородицы, а εν ταπεινοφροσύνη. Я готов признать, что место не вполне ясное, но мне представляется, что ученые открывают подлинный смысл, приводя следующее толкование: «Не будьте так смиренны и унылы духом, чтобы, однажды посвятив себя Христу, единственному источнику спасения, затем поверить, будто спасения должно ожидать от ангелов, которые якобы являлись некоторым. Будьте возвышенны духом, дабы если и поистине сойдет с небес ангел и возвестит вам иное Евангелие, нежели Христово, вы бы прокляли его как ангела нечестия, как врага Христова. И уже вовсе не подобает вам такая приниженность духа, при коей вымышленные явления ангелов способны отторгнуть вас от Христа. Ждать спасения от одного Христа — это вера, от ангелов или же святых — суеверие». Павел, стало быть, хочет сказать, что смирение и унылость духа — путь к отпадению от величия Христова ради ложных явлений ангелов, ибо душевной приниженности свойственно доверяться любому внушению. Ты видишь, что здесь ταπεινοφροσύνη употреблено в дурном смысле?
