Страница:
Винцентий. А я расставлю силки на кузнечиков. Ополчусь на сверчков.
Лаврентий. Я буду ловить лягушек.
Бартол. А я — бабочек.
Лаврентий. За летучими тварями охотиться трудно.
Бартол. Да, трудно, зато прекрасно. Или, может, по-твоему, прекраснее охотиться за червями и улитками, раз у них нет крыльев?
Лаврентий. Я предпочитаю удить рыбу. У меня отменный крючок.
Бартол. А наживку откуда возьмешь?
Лаврентий. Червей повсюду тьма!
Бартол. Конечно, да только захотят ли они выползти к тебе из земли?
Лаврентий. Ну, я живо устрою так, что они тысячами будут выскакивать!
Бартол. Каким образом? Колдовством?
Лаврентий. Сейчас сам увидишь. Налей в этот ковш воды. Теперь насыпь зеленой скорлупы грецких орехов, только сперва истолки ее помельче. Теперь полей землю этой водою. Видишь, как полезли?
Бартол. Поразительно! Так, должно быть, когда-то поднимались воины[60] из посеянных в землю змеиных зубов! Но рыбы большею частью слишком разборчивы да привередливы, чтобы ловиться на такую грубую наживку.
Лаврентий. Я знаю одну породу насекомых, на которую идут и привереды.
Бартол. Ну, что ж, ты проверь, сумеешь ли надуть рыб, а я растревожу лягушачье царство.
Лаврентий. Чем? Сетями?
Бартол. Нет. Луком.
Лаврентий. Не слыханный прежде способ!
Бартол. Зато какой веселый! Вот увидишь, ты согласишься со мною.
Винцентий. А что, если нам вдвоем пока сыграть в пальцы[61]?
Павел. Это игра вялая и тупая. Такая забава годится, когда бездельничаешь подле очага, а не когда выйдешь за город.
Винцентий. Тогда, пожалуй, сразимся в орехи?
Павел. Орехи оставим малым ребятам, а мы уж подростки.
Винцентий. А все ж мальчишки, и ничего больше!
Павел. Ну, кому прилично играть в орехи, тому и верхом на палочке скакать прилично.
Винцентий. Тогда выбирай игру ты; что ты ни предложишь — я заранее согласен.
Павел. И я больше спорить с тобою не стану.
Перед школою
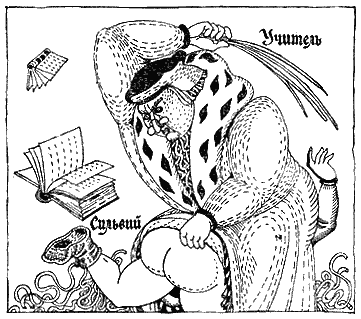
Иоганн. Шкуру свою спасаю, как говорится.
Сильвий. При чем здесь шкура?
Иоганн. А при том, что если я не поспею вовремя, — пока еще не прочли список, — с меня не одну а семь шкур спустят.
Сильвий. Ну, тогда тебе не о чем тревожиться. Пятый час едва миновал. Взгляни на часы: стрелки еще не коснулись отметки между пятым и шестым.
Иоганн. Не очень-то я верю часам — врут они постоянно.
Сильвий. Хорошо, поверь мне: я слышал голос колокола.
Иоганн. И что же он говорил?
Сильвий. Пробил пять.
Иоганн. Но есть и еще причина для страха. Надо прочитать на память вчерашний урок, очень длинный, а я едва ли сумею.
Сильвий. Эта опасность не твоя, а общая. Я тоже помню по урок неважно.
Иоганн. А ведь ты знаешь, какой свирепый у нас Учитель. Он бы каждую провинность карал смертью. Так отхлещет, словно бы зады наши обтянуты бычьею кожей.
Сильвий. Но его не будет в школе.
Иоганн. А кого он оставил вместо себя?
Сильвий. Корнелия.
Иоганн. Этого косоглазого? Бедные наши ягодицы! Он до того драчлив, что и самого Орбилия[62] посрамит.
Сильвий. Да, правда, и я часто молюсь, чтоб у него рука отнялась.
Иоганн. Это нехорошо — проклинать учителя. Скорее самим надо остерегаться, чтобы не попасть в лапы к тирану.
Сильвий. Давай почитаем друг другу. Один будет говорить, другой — следить по книге.
Иоганн. Прекрасная мысль!
Сильвий. Успокойся, соберись с духом. Страх отшибает память.
Иоганн. Я бы легко стряхнул с себя робость, да ведь опасность какая! В этакой крайности кто сохранит присутствие духа?
Сильвий. Конечно. Но все же рискуем мы не головою, а как раз противоположною частью.
Андрей. Пожалуйста, очини мне это перо.
Корнелий. Ножа перочинного нет.
Андрей. Вот, возьми.
Корнелий. Да он совсем иступился.
Андрей. На тебе точильный камушек.
Корнелий. Как ты любишь писать — чтоб остриё потверже было или помягче?
Андрей. Примеряй по своей руке.
Корнелий. Мне нравится помягче.
Андрей. Пожалуйста, напиши мне все буквы по порядку.
Корнелий. Греческие или латинские?
Андрей. Сперва попробую списать латинские.
Корнелий. Ладно. Давай бумагу.
Андрей. Бери.
Корнелий. Но у меня чернила слишком жидкие, оттого что воду часто подливал.
Андрей. А мой листок совсем высох.
Корнелий. Ну, так высморкайся на него, а если хочешь — пописай.
Андрей. Нет, нет, я сейчас у кого-нибудь попрошу.
Корнелий. Лучше иметь дома свое, чем просить об одолжении.
Андрей. Что такое школьник без пера и чернил?
Корнелий. То же, что воин без меча и щита.
Андрей. Эх, были бы у меня пальцы такие же проворные!… А то я не поспеваю за учителем, когда он диктует.
Корнелий. Главное — это чтобы писать хорошо, а уж потом — чтобы скоро. Если достаточно хорошо, — значит, и достаточно быстро.
Андрей. Отлично сказано. Только песенку эту — насчет «хорошо» и «скоро» — ты спой учителю за диктовкою.
Благочестивое застолье
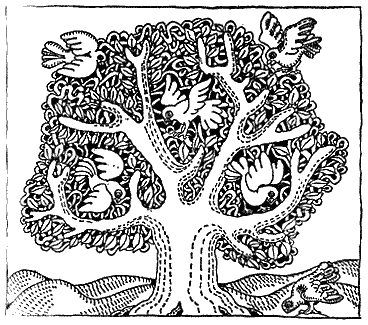
Тимофей. Не каждого увлекают цветы, зеленеющие луга, ключи, реки; а кое-кого и увлекают, да не целиком: остается место для других увлечений, более сильных. Вот удовольствие и вытесняется удовольствием — словно клин клином.
Евсевий. Ты, верно, толкуешь о ростовщиках или же о банкирах, которых не отличить от ростовщиков.
Тимофей. Да, но не только об них, мой дорогой, а еще и о несметном множестве иных, вплоть до священников и монахов, которые ради выгод и прибытков всему предпочитают города, и вдобавок самые многолюдные. Не Пифагорову они следуют учению, и не Платонову, а какого-то слепого попрошайки, который всегда радовался толпе и толчее и приговаривал: «Где народ, там и доход».
Евсевий. Бог с ними, со слепцами и с их доходами. Мы ведь философы!
Тимофей. И Сократ был философ, однако ж деревне предпочитал город, оттого что постоянно жаждал учиться, а эту жажду могли утолить только города. В деревне, объяснял он, есть сады и рощи, ключи и реки, — они услаждают взор, но они безмолвны и, стало быть, ничему не учат.
Евсевий. Если гулять одному — Сократ прав, но и то лишь отчасти. На мой взгляд, природа не нема. Наоборот, она многоречива и многому научает своего созерцателя, если человек попадется вдумчивый и толковый. О чем, например, возглашает столь прелестный лик весенней природы, как не о мудрости бога-творца, равной лишь его же, господа, благости? Впрочем, Сократ в сельской тиши и успешно наставляет своего Федра[64], и сам кое-что от него узнаёт.
Тимофей. Да, узнаёт. С такими собеседниками ничего не может быть приятнее деревенской жизни.
Евсевий. Тогда не угодно ли испытать подобную приятность? Есть у меня загородное именьице, небольшое, но отлично ухоженное. Завтра поутру пожалуйте все к завтраку.
Тимофей. Нас слишком много. Мы разорим тебя дотла.
Евсевий. Что ты! Ведь угощение вам будет предложено сплошь растительное, из непокупных припасов, как говорит Флакк[65]. Вина своего вдоволь; дыни, смоквы, груши, яблоки, орехи сами так и просятся в руки — словно на Островах Блаженных, если верить Лукиану[66]. Пожалуй, и курица будет — с птичьего двора.
Тимофей. В таком случае мы согласны.
Евсевий. И каждый пусть приходит с «тенью», приводите кого вздумается. Вас четверо, стало быть, в числе сравняемся с Музами.
Тимофей. Хорошо.
Евсевий. Об одном хочу вас предупредить — чтобы приправу каждый захватил с собою свою. Я подаю только еду.
Тимофей. Какую приправу? Перец или сахар?
Евсевий. Голод. Нынче вы запасетесь им через скудный обед, а утром навострите прогулкою: моя деревушка одолжит вас и этой услугою. Но в котором часу угодно вам завтракать?
Тимофей. Около десяти, пока еще не слишком знойно.
Евсевий. Все будет готово.
Слуга. Хозяин, гости у дверей.
Евсевий. Вы сдержали слово, и это очень приятно. Но вдвойне приятнее, что вы вовремя и что с вами ваши «тени» — добро пожаловать! Бывают такие вежливые невежи, которые изводят хозяина своим запозданием.
Тимофей. Мы явились пораньше, чтобы на досуге все осмотреть и полюбоваться твоим дворцом, который, как слышно, изобилует дивными красотами и на каждом шагу свидетельствует о нраве своего владельца.
Евсевий. Вы убедитесь, что каков государь, таков и дворец. Укромное гнездышко мне милее царских хором. Но если жить свободно и по своему вкусу означает царствовать, я здесь и в самом деле царь. Однако ж пока на кухне готовят овощи и солнце еще не палит, взглянем, пожалуй, на мои сады.
Тимофей. Разве есть еще один, кроме этого? Не знаю, как дальше, но этот пышный убор удивительно ласково и гостеприимно приветствует всякого входящего.
Евсевий. Нарвите себе здесь цветов и листьев, чтобы в доме не страдать от духоты. Кому какой запах нравится, тот и выбирайте. Рвите больше. Все, что здесь родится, я отдаю в общее пользование: калитка в этот дворик всегда открыта, запирается только на ночь.
Тимофей. Эге, да у тебя на калитке Петр-апостол!
Евсевий. Да, этот привратник мне больше по сердцу, чем всякие Меркурии, центавры и прочие чудища, которых иные изображают у себя на дверях.
Тимофей. Оно и достойнее христианина.
Евсевий. И привратник у меня не безгласный: он обращается ко входящему на трех языках.
Тимофей. Что же он говорит?
Евсевий. Прочти сам.
Тимофей. Чересчур далеко, глаз не достает.
Евсевий. Вот, возьми подзорное стекло и ста сущим Линцеем[67].
Тимофей. Латынь вижу хорошо: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди». — «От Матфея», глава девятнадцатая.
Евсевий. Теперь читай по-гречески.
Тимофей. Греческие слова я тоже вижу, но они меня не видят. А потому передаю факел Феофилу, — он по-гречески так и заливается.
Феофил. Μετανοήσατε χαι επιστρέψατε. Πράξεων τω τριτω[68].
Хризоглотт. Еврейский я возьму на себя: Вецаддик бээмунато йехйе[69].
Евсевий. Ну, как по-вашему, разве он не доброжелателен, этот привратник, который разом и отвращает нас от грехов, и обращает к трудам благочестия? Напоминает, что истинно христианской жизни мы сопричастны не чрез Моисеевы «дела», но евангельскою верою? Внушает, что путь к жизни вечной — это соблюдение заветов Евангелия?
Тимофей. А вот сразу направо, в конце, дорожки, виднеется красивая часовня. В алтаре — Иисус Христос, он возвел очи к небесам, ко взирающим сверху Отцу и Духу святу, и к небесам же простирает правую руку, а левою словно манит идущих мимо.
Евсевий. И он встречает нас не безмолвно. Видишь, начертано по-латыни: «Аз семь путь, истина и жизнь»[70]? И по-гречески: Έγω ειμι το άλφα και το ωμέγα[71]. И по-еврейски: Леху баним шим'у ли йир'ат йхвх аяаммэдхэм[72].
Тимофей. Радостной вестью приветствует нас господь Иисус!
Евсевий. И чтобы нам не оказаться невежами, надо бы ответить на приветствие: коль скоро сами по себе мы ни на что не способны, помолимся, да не даст он нам, по неоценимой своей благости, сбиться с пути спасения, но, рассеявши мрак иудейский и лжечудеса мира сего, истиною евангельской да приведет нас к вечной жизни, иными словами — сам, через себя, да влечет нас к себе.
Тимофей. Очень справедливо! К тому же и самый вид здешний располагает к молитве.
Евсевий. Да, многих гостей восхищала прелесть итого сада, и так уж повелось, что почти никто не минует его, не склонивши колено перед Иисусом. Я поставил Христа стражем, вместо гнусного Приапа[73], стражем не только сада, но всего, чем я владею, в том числе — и души моей, и тела. Рядом, как видите, бьет ключ прекрасной, целительной воды — своего рода образ того единственного ключа[74], который небесною влагою освежает всех усталых и обремененных, к которому из последних сил устремляется душа, измученная бедствиями мира сего, так в точности, как сказано у псалмопевца[75] о лани, томящейся жаждою, вкусившей от плоти змеиной. Отсюда можно безвозмездно черпать всякому жаждущему. Некоторые благочестиво опрыскивают себя, а кто и пьет — не из жажды, но тоже из благочестия. Вижу, что вам не хочется уходить. Однако время торопит, нам нужно осмотреть еще вот этот, самый ухоженный сад моего дворца, с четырех сторон замкнутый стенами. А все, что есть любопытного внутри, вы посмотрите после завтрака, когда солнечный жар на несколько часов загонит нас в дом, точно улиток в раковину.
Тимофей. Боже! Мне чудится, будто я в Эпикуровых садах!
Евсевий. Верно, тут все служит наслаждению, но наслаждению достойному — радует взор, освежает ноздри, ободряет душу. Здесь не растет ничего, кроме душистых трав, и то не всяких, но лишь самых отборных. И каждой породе отведено свое место.
Тимофей. У тебя и травы не безмолвствуют, сколько я вижу.
Евсевий. Правильно. У других дома богатые, а у меня — говорливый, чтобы мне никогда не чувствовать одиночества. Ты согласишься со мною еще охотнее, когда увидишь всё. Травы словно бы разбиты по турмам[76], и у каждой турмы[77] — свой стяг с надписью. Вот, например, майоран — он объявляет: «Прочь, свинья, не для тебя мое благоухание». И верно: как ни сладок аромат майорана, а свиньи этого запаха терпеть не могут. Так же точно и остальные породы имеют свои надписи, которые указывают на приметные особенности той или иной травы.
Тимофей. Никогда не видел ничего милее этого фонтанчика посредине! Он точно улыбается всем травам сразу и сулит им прохладу в разгар зноя. Но этот желоб, заключивший в себе воду и так щедро являющий ее нашим глазам, разделивший сад на две равные половины, так что травы с обеих сторон стараются заглянуть в него, будто в зеркало, — скажи мне, он мраморный?
Евсевий. Бог с тобой! Откуда ко мне настоящий мрамор? Этот поддельный, избитого камня, а блеск ему придает гипсовая штукатурка.
Тимофей. И куда ж утекает такой прелестный ручеек?
Евсевий. Суди сам, какова человеческая несправедливость: вдосталь нарадовав наши взоры здесь, он очищает кухню — уносит кухонные отбросы в сточную яму.
Тимофей. Жестоко, господь мне свидетель!
Евсевий. Было б жестоко, если бы для такой нужды не создала его благость Предвечного. Мы жестоки тогда, когда источник божественного Писания, намного более прекрасный против этого, дарованный нам для освежения и очищения души, оскверняем нашими пороками и дурными страстями, злоупотребляя бесценным даром божиим. А эта вода — разве мы употребляем ее во зло, используя на разные потребы, на которые и дал ее нам тот, кто с избытком утоляет все человеческие нужды?
Тимофей. Ты прав. Но у тебя и садовая ограда, поставленная человеческими руками, тоже зеленая. Для чего?
Евсевий. Чтобы тут все сплошь зеленело. Некоторые полагают, что уместнее был бы красный цвет — он, дескать, хорошо сочетается с зеленым. А мне больше нравится так. Ведь у каждого свой взгляд, даже и на сады.
Тимофей. Сам по себе твой сад прелестен, однако ж красота его меркнет рядом с этими тремя галереями. Евсевий. В них я либо занимаюсь, либо прогуливаюсь, — один или беседуя с другом, — либо, если вздумается, обедаю.
Тимофей. Колонны, которые поддерживают кровлю, равномерно расставленные и ласкающие глаз дивным разнообразием красок, — они что, мраморные? Евсевий. Из того же мрамора, что и желоб. Тимофей. Отменная, право, подделка! Я готов был поклясться, что это мрамор.
Евсевий. Вот и будь осторожен: не верь и не клянись, не подумав. Внешность часто обманчива. Нехватку средств возмещаем искусством.
Тимофей. Мало разве было тебе такого нарядного, такого ухоженного сада, что ты велел нарисовать другой? Евсевий. Один все виды растений не вмещает. А потом вдвойне приятно, когда видишь, как нарисованные цветы состязаются с живыми. В одних мы дивимся мастерству природы, в других — дарованию художника, и в обоих — доброте бога, который щедро дарует все это нам на пользу, любым своим даром внушая столько же восхищения, сколько любви. И, наконец, не всегда зеленеет сад, цветочки живут не всегда. А этот сад зелен и радует нас даже в средине зимы. Тимофей. Но запаха не дает никакого. Евсевий. Зато и в уходе не нуждается. Тимофей. Он только питает взор. Евсевий. Верно. Но уж это — постоянно. Тимофей. И для картины приходит старость. Евсевий. Конечно, приходит, но картина долговечнее человека, а кроме того, ей возраст добавляет прелести, у нас же — отнимает.
Тимофей. Как ни грустно, а возразить нечего. Евсевий. В этой галерее, которая обращена к западу, я наслаждаюсь утренним солнышком, в этой, которая глядит на восток, иногда загораю; а в этой, обращенной к югу, но открытой к северу, укрываюсь от зноя. Пройдемте по ним, если хотите посмотреть вблизи. Видите, полы и те напоминают о весне: плитки сверкают зеленью и изображениями цветов. Эта роща, занимающая всю стену, открывает мне зрелище пестрое и разнообразное. Во-первых, сколько здесь деревьев, столько и пород, и каждое написано в подражание натуре с немалым искусством. Сколько птиц — столько и пород, главным образом редких или отмеченных каким-нибудь особым свойством. А гусей, кур да уток какой прок изображать? Внизу — четвероногие или те виды птиц, что живут на земле по образу четвероногих.
Тимофей. Удивительное разнообразие! И все чем-то заняты — кто делом, кто разговором. Что, например, вещает нам эта сова, укрывшаяся в ветвях?
Евсевий. Аттическая гражданка и говорит по-аттически: Σωφρονει: oν πασιν ιπτημι[78]. Она советует, чтобы сперва подумали, а после уже действовали, потому что не всем сходит безнаказанно дерзкое безрассудство. Вот орел когтит зайца, не слушая заклинаний навозного жука[79]. Рядом с навозником — птичка ржанка, тоже смертельный враг орлов.
Тимофей. Эта ласточка что несет в клюве?
Евсевий. Ласточкину траву. Ею она возвращает зрение слепым птенцам. Узнаете очертания этой травы?
Тимофей. А это что за ящерица? Никогда такой не видывал.
Евсевий. Это не ящерица, а хамелеон.
Тимофей. Как? Прославленный повсюду хамелеон? А я-то воображал, будто хамелеон больше льва!
Евсевий. Да, это он и есть, хамелеон, с вечно разинутою пастью и вечно голодный. А это дерево — смоковница; только подле нее он и опасен, в любом же ином случае безвреден. Но вообще зверек ядовитый; остерегайся его пасти.
Тимофей. Цвета он, однако же, не меняет.
Евсевий. Верно. Потому что не меняет места; как переменит место — и цвет станет другой.
Тимофей. А к чему здесь флейтист?
Евсевий. А вот же рядом с ним пляшет верблюд[80]. Видишь?
Тимофей. Вижу небывалое зрелище: верблюда-скомороха и обезьяну-гудошницу!
Евсевий. Чтобы оглядеть все подробно и без спешки, я отведу вам хоть и три дня, но в другой раз; а теперь и мельком будет довольно. Здесь нарисовано в согласии с натурой все, что есть примечательного среди трав. И вот чему нельзя не удивляться: яды, даже самые быстродействующие, мы здесь не только видим воочию, но и касаемся их руками.
Тимофей. Смотрите, скорпион! Редкое в наших краях бедствие, зато частое в Италии. Но цветом, по-моему, он не такой, как на картине.
Евсевий. Отчего же?
Тимофей. Оттого, что в Италии скорпион темнее, а здесь слишком светлый.
Евсевий. Разве ты не узнаешь траву, на листке которой он сидит?
Тимофей. Пожалуй, что нет.
Евсевий. Оно и понятно: в наших садах такая трава не растет. Это волчий корень, до того ядовитый, что скорпион, чуть только прикоснется к нему, замирает, блекнет и признает себя побежденным. Но, отравленный ядом, у яда же ищет исцеления. Вот, поблизости, вы видите обе породы чемерицы. Если скорпиону удастся соскользнуть с волчьего корня и коснуться белой чемерицы, к нему вернется прежняя сила: столкновение противоположных ядов разгонит оцепенелость.
Тимофей. Этому скорпиону, стало быть, конец: он от своего листика уже никуда не ускользнет. Но скорпионы здесь еще и разговаривают?!
Евсевий. И к тому ж по-гречески.
Тимофей. И что он говорит?
Евсевий. Ευρε Θεος τ’αλιτρον[81]. Кроме трав, здесь перед вами весь род пресмыкающихся. Вот василиск с огненными очами — самые ядовитые твари и те его страшатся.
Тимофей. Он тоже что-то говорит.
Евсевий. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»[82].
Тимофей. Речь прямо-таки царская.
Евсевий. Нет, совсем не царская, а тираническая! Вот ящерица бьется с гадюкою. Вот дипсада[83] подстерегает добычу, укрывшись под скорлупою страусиного яйца. А здесь вы видите целое государство муравьев, подражать которым зовет нас премудрый Соломон, а также, наш милый Флакк. Это муравьи индийские; они собирают и запасают золото.
Тимофей. Боже бессмертный, в таком театре можно ли соскучиться!
Εвсевий. Другой раз насмотритесь досыта, я уже вам сказал. А теперь взгляните, но только издали, на третью стену. Тут озера, реки и моря, и в них все достопримечательности водного царства. Вот Нил, в нем вы видите прославленного дельфина, друга людей; он сражается с крокодилом, злее которого нет врага у человека. По берегам вы видите так называемых αμφίβια[84] — вроде раков, тюленей, бобров. А вот полип — ловец, словленный раковиною моллюска.
Тимофей. Что он говорит? Αιρων αιρουμαι[85]. Дивно изобразил художник прозрачность воды!
Евсевий. Если бы он не смог этого изобразить, мы бы ничего не увидели. Рядом еще полип. Он плывет под парусом, радуясь своему сходству с либурною[86]. Скат развалился на песке того же цвета, что он сам; здесь вы можете потрогать его рукою безо всякой опаски. Пора, однако ж, двигаться дальше. Живопись насыщает взоры, но не желудок. Поспешим же досмотреть остальное. Тимофей. Как? Это еще не всё? Евсевий. Сейчас увидите, что покажет нам задний двор. Здесь просторный огород, разделенный надвое. На одной половине — съедобные растения, и тут властвует моя супруга со служанкою, на другой — целебные травы, главным образом редкие. Налево зеленая лужайка, никак не возделанная и густо заросшая; она обнесена сплошной изгородью переплетшихся меж собою живых шипов. Здесь я часто прогуливаюсь или играю с приятелями. Направо фруктовый сад; в другой раз, когда будет больше времени, вы увидите тут много чужеземных деревьев, которые я исподволь приучаю к нашему климату.
Лаврентий. Я буду ловить лягушек.
Бартол. А я — бабочек.
Лаврентий. За летучими тварями охотиться трудно.
Бартол. Да, трудно, зато прекрасно. Или, может, по-твоему, прекраснее охотиться за червями и улитками, раз у них нет крыльев?
Лаврентий. Я предпочитаю удить рыбу. У меня отменный крючок.
Бартол. А наживку откуда возьмешь?
Лаврентий. Червей повсюду тьма!
Бартол. Конечно, да только захотят ли они выползти к тебе из земли?
Лаврентий. Ну, я живо устрою так, что они тысячами будут выскакивать!
Бартол. Каким образом? Колдовством?
Лаврентий. Сейчас сам увидишь. Налей в этот ковш воды. Теперь насыпь зеленой скорлупы грецких орехов, только сперва истолки ее помельче. Теперь полей землю этой водою. Видишь, как полезли?
Бартол. Поразительно! Так, должно быть, когда-то поднимались воины[60] из посеянных в землю змеиных зубов! Но рыбы большею частью слишком разборчивы да привередливы, чтобы ловиться на такую грубую наживку.
Лаврентий. Я знаю одну породу насекомых, на которую идут и привереды.
Бартол. Ну, что ж, ты проверь, сумеешь ли надуть рыб, а я растревожу лягушачье царство.
Лаврентий. Чем? Сетями?
Бартол. Нет. Луком.
Лаврентий. Не слыханный прежде способ!
Бартол. Зато какой веселый! Вот увидишь, ты согласишься со мною.
Винцентий. А что, если нам вдвоем пока сыграть в пальцы[61]?
Павел. Это игра вялая и тупая. Такая забава годится, когда бездельничаешь подле очага, а не когда выйдешь за город.
Винцентий. Тогда, пожалуй, сразимся в орехи?
Павел. Орехи оставим малым ребятам, а мы уж подростки.
Винцентий. А все ж мальчишки, и ничего больше!
Павел. Ну, кому прилично играть в орехи, тому и верхом на палочке скакать прилично.
Винцентий. Тогда выбирай игру ты; что ты ни предложишь — я заранее согласен.
Павел. И я больше спорить с тобою не стану.
Перед школою
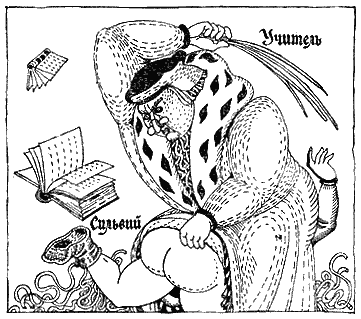
Сильвий. Иоганн
I
Сильвий. Почему ты бежишь сломя голову, Иоганн?Иоганн. Шкуру свою спасаю, как говорится.
Сильвий. При чем здесь шкура?
Иоганн. А при том, что если я не поспею вовремя, — пока еще не прочли список, — с меня не одну а семь шкур спустят.
Сильвий. Ну, тогда тебе не о чем тревожиться. Пятый час едва миновал. Взгляни на часы: стрелки еще не коснулись отметки между пятым и шестым.
Иоганн. Не очень-то я верю часам — врут они постоянно.
Сильвий. Хорошо, поверь мне: я слышал голос колокола.
Иоганн. И что же он говорил?
Сильвий. Пробил пять.
Иоганн. Но есть и еще причина для страха. Надо прочитать на память вчерашний урок, очень длинный, а я едва ли сумею.
Сильвий. Эта опасность не твоя, а общая. Я тоже помню по урок неважно.
Иоганн. А ведь ты знаешь, какой свирепый у нас Учитель. Он бы каждую провинность карал смертью. Так отхлещет, словно бы зады наши обтянуты бычьею кожей.
Сильвий. Но его не будет в школе.
Иоганн. А кого он оставил вместо себя?
Сильвий. Корнелия.
Иоганн. Этого косоглазого? Бедные наши ягодицы! Он до того драчлив, что и самого Орбилия[62] посрамит.
Сильвий. Да, правда, и я часто молюсь, чтоб у него рука отнялась.
Иоганн. Это нехорошо — проклинать учителя. Скорее самим надо остерегаться, чтобы не попасть в лапы к тирану.
Сильвий. Давай почитаем друг другу. Один будет говорить, другой — следить по книге.
Иоганн. Прекрасная мысль!
Сильвий. Успокойся, соберись с духом. Страх отшибает память.
Иоганн. Я бы легко стряхнул с себя робость, да ведь опасность какая! В этакой крайности кто сохранит присутствие духа?
Сильвий. Конечно. Но все же рискуем мы не головою, а как раз противоположною частью.
II
Корнелий. Андрей
Корнелий. Водить пером ты умеешь, но у тебя бумага протекает: влажновата она, вот чернила и расплываются.Андрей. Пожалуйста, очини мне это перо.
Корнелий. Ножа перочинного нет.
Андрей. Вот, возьми.
Корнелий. Да он совсем иступился.
Андрей. На тебе точильный камушек.
Корнелий. Как ты любишь писать — чтоб остриё потверже было или помягче?
Андрей. Примеряй по своей руке.
Корнелий. Мне нравится помягче.
Андрей. Пожалуйста, напиши мне все буквы по порядку.
Корнелий. Греческие или латинские?
Андрей. Сперва попробую списать латинские.
Корнелий. Ладно. Давай бумагу.
Андрей. Бери.
Корнелий. Но у меня чернила слишком жидкие, оттого что воду часто подливал.
Андрей. А мой листок совсем высох.
Корнелий. Ну, так высморкайся на него, а если хочешь — пописай.
Андрей. Нет, нет, я сейчас у кого-нибудь попрошу.
Корнелий. Лучше иметь дома свое, чем просить об одолжении.
Андрей. Что такое школьник без пера и чернил?
Корнелий. То же, что воин без меча и щита.
Андрей. Эх, были бы у меня пальцы такие же проворные!… А то я не поспеваю за учителем, когда он диктует.
Корнелий. Главное — это чтобы писать хорошо, а уж потом — чтобы скоро. Если достаточно хорошо, — значит, и достаточно быстро.
Андрей. Отлично сказано. Только песенку эту — насчет «хорошо» и «скоро» — ты спой учителю за диктовкою.
Благочестивое застолье
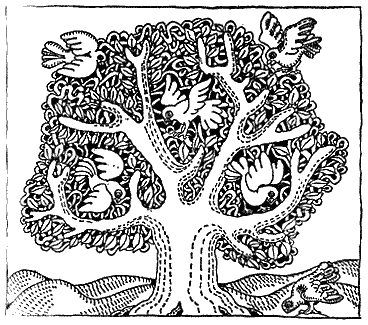
Евсевий. Тимофей. Феофил. Хризоглотт. Ураний
[Софроний. Евлалий. Нефалий. Феодидакт. Слуга] [63]
Евсевий. Когда все в полях радостно улыбается весне, я не могу понять людей, которым любы дымные города.Тимофей. Не каждого увлекают цветы, зеленеющие луга, ключи, реки; а кое-кого и увлекают, да не целиком: остается место для других увлечений, более сильных. Вот удовольствие и вытесняется удовольствием — словно клин клином.
Евсевий. Ты, верно, толкуешь о ростовщиках или же о банкирах, которых не отличить от ростовщиков.
Тимофей. Да, но не только об них, мой дорогой, а еще и о несметном множестве иных, вплоть до священников и монахов, которые ради выгод и прибытков всему предпочитают города, и вдобавок самые многолюдные. Не Пифагорову они следуют учению, и не Платонову, а какого-то слепого попрошайки, который всегда радовался толпе и толчее и приговаривал: «Где народ, там и доход».
Евсевий. Бог с ними, со слепцами и с их доходами. Мы ведь философы!
Тимофей. И Сократ был философ, однако ж деревне предпочитал город, оттого что постоянно жаждал учиться, а эту жажду могли утолить только города. В деревне, объяснял он, есть сады и рощи, ключи и реки, — они услаждают взор, но они безмолвны и, стало быть, ничему не учат.
Евсевий. Если гулять одному — Сократ прав, но и то лишь отчасти. На мой взгляд, природа не нема. Наоборот, она многоречива и многому научает своего созерцателя, если человек попадется вдумчивый и толковый. О чем, например, возглашает столь прелестный лик весенней природы, как не о мудрости бога-творца, равной лишь его же, господа, благости? Впрочем, Сократ в сельской тиши и успешно наставляет своего Федра[64], и сам кое-что от него узнаёт.
Тимофей. Да, узнаёт. С такими собеседниками ничего не может быть приятнее деревенской жизни.
Евсевий. Тогда не угодно ли испытать подобную приятность? Есть у меня загородное именьице, небольшое, но отлично ухоженное. Завтра поутру пожалуйте все к завтраку.
Тимофей. Нас слишком много. Мы разорим тебя дотла.
Евсевий. Что ты! Ведь угощение вам будет предложено сплошь растительное, из непокупных припасов, как говорит Флакк[65]. Вина своего вдоволь; дыни, смоквы, груши, яблоки, орехи сами так и просятся в руки — словно на Островах Блаженных, если верить Лукиану[66]. Пожалуй, и курица будет — с птичьего двора.
Тимофей. В таком случае мы согласны.
Евсевий. И каждый пусть приходит с «тенью», приводите кого вздумается. Вас четверо, стало быть, в числе сравняемся с Музами.
Тимофей. Хорошо.
Евсевий. Об одном хочу вас предупредить — чтобы приправу каждый захватил с собою свою. Я подаю только еду.
Тимофей. Какую приправу? Перец или сахар?
Евсевий. Голод. Нынче вы запасетесь им через скудный обед, а утром навострите прогулкою: моя деревушка одолжит вас и этой услугою. Но в котором часу угодно вам завтракать?
Тимофей. Около десяти, пока еще не слишком знойно.
Евсевий. Все будет готово.
Слуга. Хозяин, гости у дверей.
Евсевий. Вы сдержали слово, и это очень приятно. Но вдвойне приятнее, что вы вовремя и что с вами ваши «тени» — добро пожаловать! Бывают такие вежливые невежи, которые изводят хозяина своим запозданием.
Тимофей. Мы явились пораньше, чтобы на досуге все осмотреть и полюбоваться твоим дворцом, который, как слышно, изобилует дивными красотами и на каждом шагу свидетельствует о нраве своего владельца.
Евсевий. Вы убедитесь, что каков государь, таков и дворец. Укромное гнездышко мне милее царских хором. Но если жить свободно и по своему вкусу означает царствовать, я здесь и в самом деле царь. Однако ж пока на кухне готовят овощи и солнце еще не палит, взглянем, пожалуй, на мои сады.
Тимофей. Разве есть еще один, кроме этого? Не знаю, как дальше, но этот пышный убор удивительно ласково и гостеприимно приветствует всякого входящего.
Евсевий. Нарвите себе здесь цветов и листьев, чтобы в доме не страдать от духоты. Кому какой запах нравится, тот и выбирайте. Рвите больше. Все, что здесь родится, я отдаю в общее пользование: калитка в этот дворик всегда открыта, запирается только на ночь.
Тимофей. Эге, да у тебя на калитке Петр-апостол!
Евсевий. Да, этот привратник мне больше по сердцу, чем всякие Меркурии, центавры и прочие чудища, которых иные изображают у себя на дверях.
Тимофей. Оно и достойнее христианина.
Евсевий. И привратник у меня не безгласный: он обращается ко входящему на трех языках.
Тимофей. Что же он говорит?
Евсевий. Прочти сам.
Тимофей. Чересчур далеко, глаз не достает.
Евсевий. Вот, возьми подзорное стекло и ста сущим Линцеем[67].
Тимофей. Латынь вижу хорошо: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди». — «От Матфея», глава девятнадцатая.
Евсевий. Теперь читай по-гречески.
Тимофей. Греческие слова я тоже вижу, но они меня не видят. А потому передаю факел Феофилу, — он по-гречески так и заливается.
Феофил. Μετανοήσατε χαι επιστρέψατε. Πράξεων τω τριτω[68].
Хризоглотт. Еврейский я возьму на себя: Вецаддик бээмунато йехйе[69].
Евсевий. Ну, как по-вашему, разве он не доброжелателен, этот привратник, который разом и отвращает нас от грехов, и обращает к трудам благочестия? Напоминает, что истинно христианской жизни мы сопричастны не чрез Моисеевы «дела», но евангельскою верою? Внушает, что путь к жизни вечной — это соблюдение заветов Евангелия?
Тимофей. А вот сразу направо, в конце, дорожки, виднеется красивая часовня. В алтаре — Иисус Христос, он возвел очи к небесам, ко взирающим сверху Отцу и Духу святу, и к небесам же простирает правую руку, а левою словно манит идущих мимо.
Евсевий. И он встречает нас не безмолвно. Видишь, начертано по-латыни: «Аз семь путь, истина и жизнь»[70]? И по-гречески: Έγω ειμι το άλφα και το ωμέγα[71]. И по-еврейски: Леху баним шим'у ли йир'ат йхвх аяаммэдхэм[72].
Тимофей. Радостной вестью приветствует нас господь Иисус!
Евсевий. И чтобы нам не оказаться невежами, надо бы ответить на приветствие: коль скоро сами по себе мы ни на что не способны, помолимся, да не даст он нам, по неоценимой своей благости, сбиться с пути спасения, но, рассеявши мрак иудейский и лжечудеса мира сего, истиною евангельской да приведет нас к вечной жизни, иными словами — сам, через себя, да влечет нас к себе.
Тимофей. Очень справедливо! К тому же и самый вид здешний располагает к молитве.
Евсевий. Да, многих гостей восхищала прелесть итого сада, и так уж повелось, что почти никто не минует его, не склонивши колено перед Иисусом. Я поставил Христа стражем, вместо гнусного Приапа[73], стражем не только сада, но всего, чем я владею, в том числе — и души моей, и тела. Рядом, как видите, бьет ключ прекрасной, целительной воды — своего рода образ того единственного ключа[74], который небесною влагою освежает всех усталых и обремененных, к которому из последних сил устремляется душа, измученная бедствиями мира сего, так в точности, как сказано у псалмопевца[75] о лани, томящейся жаждою, вкусившей от плоти змеиной. Отсюда можно безвозмездно черпать всякому жаждущему. Некоторые благочестиво опрыскивают себя, а кто и пьет — не из жажды, но тоже из благочестия. Вижу, что вам не хочется уходить. Однако время торопит, нам нужно осмотреть еще вот этот, самый ухоженный сад моего дворца, с четырех сторон замкнутый стенами. А все, что есть любопытного внутри, вы посмотрите после завтрака, когда солнечный жар на несколько часов загонит нас в дом, точно улиток в раковину.
Тимофей. Боже! Мне чудится, будто я в Эпикуровых садах!
Евсевий. Верно, тут все служит наслаждению, но наслаждению достойному — радует взор, освежает ноздри, ободряет душу. Здесь не растет ничего, кроме душистых трав, и то не всяких, но лишь самых отборных. И каждой породе отведено свое место.
Тимофей. У тебя и травы не безмолвствуют, сколько я вижу.
Евсевий. Правильно. У других дома богатые, а у меня — говорливый, чтобы мне никогда не чувствовать одиночества. Ты согласишься со мною еще охотнее, когда увидишь всё. Травы словно бы разбиты по турмам[76], и у каждой турмы[77] — свой стяг с надписью. Вот, например, майоран — он объявляет: «Прочь, свинья, не для тебя мое благоухание». И верно: как ни сладок аромат майорана, а свиньи этого запаха терпеть не могут. Так же точно и остальные породы имеют свои надписи, которые указывают на приметные особенности той или иной травы.
Тимофей. Никогда не видел ничего милее этого фонтанчика посредине! Он точно улыбается всем травам сразу и сулит им прохладу в разгар зноя. Но этот желоб, заключивший в себе воду и так щедро являющий ее нашим глазам, разделивший сад на две равные половины, так что травы с обеих сторон стараются заглянуть в него, будто в зеркало, — скажи мне, он мраморный?
Евсевий. Бог с тобой! Откуда ко мне настоящий мрамор? Этот поддельный, избитого камня, а блеск ему придает гипсовая штукатурка.
Тимофей. И куда ж утекает такой прелестный ручеек?
Евсевий. Суди сам, какова человеческая несправедливость: вдосталь нарадовав наши взоры здесь, он очищает кухню — уносит кухонные отбросы в сточную яму.
Тимофей. Жестоко, господь мне свидетель!
Евсевий. Было б жестоко, если бы для такой нужды не создала его благость Предвечного. Мы жестоки тогда, когда источник божественного Писания, намного более прекрасный против этого, дарованный нам для освежения и очищения души, оскверняем нашими пороками и дурными страстями, злоупотребляя бесценным даром божиим. А эта вода — разве мы употребляем ее во зло, используя на разные потребы, на которые и дал ее нам тот, кто с избытком утоляет все человеческие нужды?
Тимофей. Ты прав. Но у тебя и садовая ограда, поставленная человеческими руками, тоже зеленая. Для чего?
Евсевий. Чтобы тут все сплошь зеленело. Некоторые полагают, что уместнее был бы красный цвет — он, дескать, хорошо сочетается с зеленым. А мне больше нравится так. Ведь у каждого свой взгляд, даже и на сады.
Тимофей. Сам по себе твой сад прелестен, однако ж красота его меркнет рядом с этими тремя галереями. Евсевий. В них я либо занимаюсь, либо прогуливаюсь, — один или беседуя с другом, — либо, если вздумается, обедаю.
Тимофей. Колонны, которые поддерживают кровлю, равномерно расставленные и ласкающие глаз дивным разнообразием красок, — они что, мраморные? Евсевий. Из того же мрамора, что и желоб. Тимофей. Отменная, право, подделка! Я готов был поклясться, что это мрамор.
Евсевий. Вот и будь осторожен: не верь и не клянись, не подумав. Внешность часто обманчива. Нехватку средств возмещаем искусством.
Тимофей. Мало разве было тебе такого нарядного, такого ухоженного сада, что ты велел нарисовать другой? Евсевий. Один все виды растений не вмещает. А потом вдвойне приятно, когда видишь, как нарисованные цветы состязаются с живыми. В одних мы дивимся мастерству природы, в других — дарованию художника, и в обоих — доброте бога, который щедро дарует все это нам на пользу, любым своим даром внушая столько же восхищения, сколько любви. И, наконец, не всегда зеленеет сад, цветочки живут не всегда. А этот сад зелен и радует нас даже в средине зимы. Тимофей. Но запаха не дает никакого. Евсевий. Зато и в уходе не нуждается. Тимофей. Он только питает взор. Евсевий. Верно. Но уж это — постоянно. Тимофей. И для картины приходит старость. Евсевий. Конечно, приходит, но картина долговечнее человека, а кроме того, ей возраст добавляет прелести, у нас же — отнимает.
Тимофей. Как ни грустно, а возразить нечего. Евсевий. В этой галерее, которая обращена к западу, я наслаждаюсь утренним солнышком, в этой, которая глядит на восток, иногда загораю; а в этой, обращенной к югу, но открытой к северу, укрываюсь от зноя. Пройдемте по ним, если хотите посмотреть вблизи. Видите, полы и те напоминают о весне: плитки сверкают зеленью и изображениями цветов. Эта роща, занимающая всю стену, открывает мне зрелище пестрое и разнообразное. Во-первых, сколько здесь деревьев, столько и пород, и каждое написано в подражание натуре с немалым искусством. Сколько птиц — столько и пород, главным образом редких или отмеченных каким-нибудь особым свойством. А гусей, кур да уток какой прок изображать? Внизу — четвероногие или те виды птиц, что живут на земле по образу четвероногих.
Тимофей. Удивительное разнообразие! И все чем-то заняты — кто делом, кто разговором. Что, например, вещает нам эта сова, укрывшаяся в ветвях?
Евсевий. Аттическая гражданка и говорит по-аттически: Σωφρονει: oν πασιν ιπτημι[78]. Она советует, чтобы сперва подумали, а после уже действовали, потому что не всем сходит безнаказанно дерзкое безрассудство. Вот орел когтит зайца, не слушая заклинаний навозного жука[79]. Рядом с навозником — птичка ржанка, тоже смертельный враг орлов.
Тимофей. Эта ласточка что несет в клюве?
Евсевий. Ласточкину траву. Ею она возвращает зрение слепым птенцам. Узнаете очертания этой травы?
Тимофей. А это что за ящерица? Никогда такой не видывал.
Евсевий. Это не ящерица, а хамелеон.
Тимофей. Как? Прославленный повсюду хамелеон? А я-то воображал, будто хамелеон больше льва!
Евсевий. Да, это он и есть, хамелеон, с вечно разинутою пастью и вечно голодный. А это дерево — смоковница; только подле нее он и опасен, в любом же ином случае безвреден. Но вообще зверек ядовитый; остерегайся его пасти.
Тимофей. Цвета он, однако же, не меняет.
Евсевий. Верно. Потому что не меняет места; как переменит место — и цвет станет другой.
Тимофей. А к чему здесь флейтист?
Евсевий. А вот же рядом с ним пляшет верблюд[80]. Видишь?
Тимофей. Вижу небывалое зрелище: верблюда-скомороха и обезьяну-гудошницу!
Евсевий. Чтобы оглядеть все подробно и без спешки, я отведу вам хоть и три дня, но в другой раз; а теперь и мельком будет довольно. Здесь нарисовано в согласии с натурой все, что есть примечательного среди трав. И вот чему нельзя не удивляться: яды, даже самые быстродействующие, мы здесь не только видим воочию, но и касаемся их руками.
Тимофей. Смотрите, скорпион! Редкое в наших краях бедствие, зато частое в Италии. Но цветом, по-моему, он не такой, как на картине.
Евсевий. Отчего же?
Тимофей. Оттого, что в Италии скорпион темнее, а здесь слишком светлый.
Евсевий. Разве ты не узнаешь траву, на листке которой он сидит?
Тимофей. Пожалуй, что нет.
Евсевий. Оно и понятно: в наших садах такая трава не растет. Это волчий корень, до того ядовитый, что скорпион, чуть только прикоснется к нему, замирает, блекнет и признает себя побежденным. Но, отравленный ядом, у яда же ищет исцеления. Вот, поблизости, вы видите обе породы чемерицы. Если скорпиону удастся соскользнуть с волчьего корня и коснуться белой чемерицы, к нему вернется прежняя сила: столкновение противоположных ядов разгонит оцепенелость.
Тимофей. Этому скорпиону, стало быть, конец: он от своего листика уже никуда не ускользнет. Но скорпионы здесь еще и разговаривают?!
Евсевий. И к тому ж по-гречески.
Тимофей. И что он говорит?
Евсевий. Ευρε Θεος τ’αλιτρον[81]. Кроме трав, здесь перед вами весь род пресмыкающихся. Вот василиск с огненными очами — самые ядовитые твари и те его страшатся.
Тимофей. Он тоже что-то говорит.
Евсевий. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»[82].
Тимофей. Речь прямо-таки царская.
Евсевий. Нет, совсем не царская, а тираническая! Вот ящерица бьется с гадюкою. Вот дипсада[83] подстерегает добычу, укрывшись под скорлупою страусиного яйца. А здесь вы видите целое государство муравьев, подражать которым зовет нас премудрый Соломон, а также, наш милый Флакк. Это муравьи индийские; они собирают и запасают золото.
Тимофей. Боже бессмертный, в таком театре можно ли соскучиться!
Εвсевий. Другой раз насмотритесь досыта, я уже вам сказал. А теперь взгляните, но только издали, на третью стену. Тут озера, реки и моря, и в них все достопримечательности водного царства. Вот Нил, в нем вы видите прославленного дельфина, друга людей; он сражается с крокодилом, злее которого нет врага у человека. По берегам вы видите так называемых αμφίβια[84] — вроде раков, тюленей, бобров. А вот полип — ловец, словленный раковиною моллюска.
Тимофей. Что он говорит? Αιρων αιρουμαι[85]. Дивно изобразил художник прозрачность воды!
Евсевий. Если бы он не смог этого изобразить, мы бы ничего не увидели. Рядом еще полип. Он плывет под парусом, радуясь своему сходству с либурною[86]. Скат развалился на песке того же цвета, что он сам; здесь вы можете потрогать его рукою безо всякой опаски. Пора, однако ж, двигаться дальше. Живопись насыщает взоры, но не желудок. Поспешим же досмотреть остальное. Тимофей. Как? Это еще не всё? Евсевий. Сейчас увидите, что покажет нам задний двор. Здесь просторный огород, разделенный надвое. На одной половине — съедобные растения, и тут властвует моя супруга со служанкою, на другой — целебные травы, главным образом редкие. Налево зеленая лужайка, никак не возделанная и густо заросшая; она обнесена сплошной изгородью переплетшихся меж собою живых шипов. Здесь я часто прогуливаюсь или играю с приятелями. Направо фруктовый сад; в другой раз, когда будет больше времени, вы увидите тут много чужеземных деревьев, которые я исподволь приучаю к нашему климату.
