Страница:
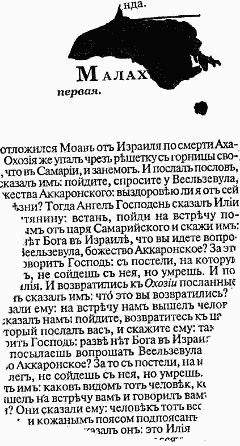
– Это страница из Библии, – уверенно заявил я.
– Таково и мое мнение, – крутя в руках листок, раздумчиво произнес аббат. – Думаю, речь идет о…
– Малахии, – докончил я за него, не сомневаясь в том, что прав особенно после того, как увидел обрывок имени наверху страницы, пощаженного обстоятельствами.
На обороте листка не было ничего, кроме пятнышка крови, которое я заметил на просвет. Кровью был залит и заголовок.
– Кажется, я понимаю, – пробормотал аббат, взглянув на Угонио, как ни в чем не бывало колошматившего своего приятеля.
– Что понимаете?
– Наши два урода думают, что им страшно повезло.
И пояснил мне, что пределом мечтаний для людей, посвятивших себя поискам реликвий, являются мощи, извлеченные не из захоронений первых христиан, а из могил прославленных святых и мучеников. Однако на них не так легко напасть. Признак, позволяющий отличить эти захоронения от прочих, стал предметом застарелой распри, повлекшей за собой соперничество в среде богословов. Согласно Бозио, отважному иезуиту, исследовавшему подземный Рим, такие признаки, как пальмовые ветви, короны, сосуды, наполненные зерном и пеплом, выгравированные на могилах, могут являться свидетельством признательности по отношению к мученикам. А вот стеклянные либо керамические сосуды, вмурованные в ниши склепов с внутренней стороны и содержащие красноватую жидкость, почитаемую за священную кровь мучеников, являются massime доказательством подлинности. Этот животрепещущий вопрос долго обсуждался, покуда наконец некая комиссия не положила конец неуверенности, постановив, что palman et vas illorum sanguine tinctum pro signis certissimis habendas esse.
– Что означает: изображение пальмовой ветви равно как сосуд с красной жидкостью суть доказательства того, что в данном захоронении покоится мученик, принявший смерть за веру, – перевел Атто.
– Стало быть, это стоит немалых денег. – Разумеется, не все находки попадают в руки высшего духовенства. Любой римлянин может посвятить себя поиску реликвий: стоит лишь заручиться разрешением папы, как, к примеру, сделал Сципион Боргезе, племянник папы, а найдя, просить какого-нибудь снисходительного ученого объявить найденное подлинным. После чего продать. И все же надежных критериев отличить подлинник от подделки нету. Нашедший непременно станет утверждать, что напал на настоящую реликвию. И если б только все сводилось к деньгам. Ведь мощи затем благословляются, становятся объектом поклонения, к ним устремляются паломники, ну и все такое.
– Неужто так никогда и не пытались разобраться в этом вопросе? – недоумевал я.
– Общество Иисуса всегда пользовалось привилегиями, когда речь шла о раскопках в катакомбах, и озаботилось тем, чтобы доставлять мощи и реликвии в Испанию, где их принимают с помпой, поскольку больше нигде, в том числе в Индии, не принимают. Но последователи святого Игнатия в конце концов признались понтифику: ничто не дает оснований утверждать, что останки подлинные. В некоторых случаях, как в случае с детскими скелетами, и впрямь трудно что-либо утверждать. Иезуитам пришлось попросить введения принципа adoramus quod scimus [93], a именно – только те останки, о которых с математической точностью или хотя бы большой долей вероятности известно, чьи они, являются мощами святого или мученика. И потому было решено, что одни лишь сосуды с кровью являются безоговорочным доказательством. А отсюда вытекает, что это источник доходов для любителей порыться в могилах и склепах, через которых реликвии, ложные либо подлинные, попадают в комнаты чудес или в дома доверчивых горожан с достатком.
– Доверчивых?
– Ну да, никто ведь не станет утверждать, что в них содержится кровь мучеников или даже просто кровь. Лично я питаю на этот счет большие сомнения. Содержимое одной такой склянки, купленной по цене золота у одного отвратительного субъекта, похожего на этого, как бишь его звать, Джакконио, я подверг анализу.
– И что же вы выяснили?
– Растворив в воде красноватую жидкость, я обнаружил, что она состоит из земли и мух. Суть их ссоры в том, что, столкнувшись с похитителем, Джакконио напал на обрывок Библии, запачканный чем-то, очень похожим на кровь. – Аббат вернулся к настоящему. – Incipit [94] одной из глав Библии со следами крови святого Каллиста, к примеру, стоит денег. Оттого-то один любезно упрекает другого в том, что тот сообщил нам о существовании этого обрывка.
– Но как кровь, возраст которой исчисляется веками, может попасть на современную книгу?
– Вместо ответа я расскажу тебе одну историю, услышанную в прошлом году в Версале. Один человек пытался продать череп, заявляя, что тот принадлежал знаменитому Кромвелю. Кто-то из присутствующих заметил ему, что череп слишком мал, чтобы принадлежать взрослому, да еще воину, к тому же известно, что у Кромвеля была большая голова.
– И что же ответил продавец черепа?
– Он ответил: все это верно, да только это ведь череп Кромвеля, когда тот был ребенком! И представь себе, череп ушел за большие деньги. Вот и подумай, с какой легкостью Угонио и Джакконио могли бы продать обрывок из Библии, запачканный кровью святого Каллиста.
– Не стоит ли вернуть им его, господин Атто?
– Всему свое время, мой мальчик, пока оставим его у себя. – Аббат повысил голос, чтобы его услышали те двое: – А вернем в обмен на кое-какие услуги. – И объяснил им, что от них требуется.
– Гр-бр-мр-фр! – согласился Джакконио.
Отдав распоряжения кладбищенских дел мастерам, которые тут же растворились в темноте, Атто предложил вернуться на постоялый двор.
Я спросил у него, не кажется ли ему необычным, что в таком месте вдруг сыскалась страница из Библии, запачканная в крови.
– На мой взгляд, этот листок обронил похититель твоих жемчужин.
– Откуда у вас такая уверенность?
– Я не говорил, что уверен в этом. Но подумай сам: этот обрывок выглядит как новый. Кровь на нем (если это действительно кровь, как я думаю) слишком ярка, чтобы быть давней. Джакконио сказал, pardon, прохрюкал, что нашел его тотчас после встречи с незнакомцем, там, где тот испарился. Мне этого достаточно. Когда речь идет о Библии, кто из постояльцев приходит на ум прежде всего?
– Отец Робледа.
– Точно. Где Библия, там и святой отец.
– И все-таки кое-что требует разъяснений.
– Что именно?
– Первая – это то, что осталось от Глава первая, это ясно. Тогда как Малах – это Малахии. Это наводит меня на мысль, что кровью залито слово Пророчество. Речь идет о главе из Библии, содержащей пророчество Малахии, – делился я с аббатом знаниями, полученными в детские годы, проведенные чуть ли не в монастырском уединении. – Но что могло бы значить нда первой строки? Что вы думаете по этому поводу, господин Атто? Я ума не приложу.
Аббат Мелани пожал плечами:
– Ну какой из меня знаток.
Подобный ответ из уст аббата показался мне более чем странным. А заявление «Где Библия, там и святой отец» и вовсе грубым. Что же это был за аббат?
На обратном пути Мелани вновь принялся рассуждать вслух:
– Любой, не только Робледа, может иметь при себе Библию. Да и в «Оруженосце» один экземпляр, наверное, имеется?
– Даже два, если быть точным. Но я их хорошо знаю и могу утверждать, что страница, которую вы держите в руках, не из них.
– Что ж, пусть так. Но она могла быть вырвана из экземпляра Библии, принадлежащего любому из постояльцев, захватившему ее с собой в дорогу. Жаль, что буквица осталась на другой части страницы, она бы нам очень помогла.
Я думал так же. Было и кое-что еще странное, на что я ему указал:
– Приходилось ли вам видеть, чтобы Библия печаталась только с одной стороны страницы?
– Это наверняка конец главы.
– Но ведь она только началась!
– Возможно, пророчество Малахии отличается краткостью. Откуда нам знать, ведь последних строк тоже не хватает. Если только это не какой-то типографский трюк или ошибка. Как бы то ни было, Угонио и Джакконио помогут нам: очень уж они испугались, что им больше не увидеть их засаленного клочка бумаги.
– Кстати, по поводу их испуга, я и не знал, что у вас имеется пистолет.
– Я тоже ничего об этом не знал, – ответил Мелани и как-то сбоку с усмешкой взглянул на меня, после чего вынул из кармана деревянный предмет с металлическим наконечником, которым потрясал перед Угонио.
– Трубка! – поразился я. – Но как же они не догадались?
– Света было мало, а выражение моего лица было угрожающим. К тому же этим двоим вовсе не хотелось познакомиться с пулей.
Простота этого трюка, та естественность, с какой аббат применил его, а также успех, увенчавший его, восхитили меня.
– Однажды, как знать, может, и тебе это пригодится, мой мальчик.
– А если противники заподозрят что-то не то?
– Бери пример с меня. Однажды ночью я повстречался в Париже с двумя бандитами. Положение было аховое, я что есть мочи крикнул: «Ceci n'est pas une pipe!» [95] – смеясь, отвечал аббат.
День четвертый 14 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА
Когда я проснулся на следующее утро, все тело у меня ломило, и в голове был полный сумбур, а все потому, что из-за событий предыдущего дня я мало и беспокойно спал. Долгое блуждание под землей, спуски, подъемы, лестницы, люки, потребовавшие немалых сил, не говоря уже о схватке врукопашную с тем жутким, что нежданно-негаданно свалилось на меня в «Архивном» зале, – все это сказалось как на моем физическом, так и умственном состоянии. Было однако кое-что, что утешало, а заодно и немало удивляло меня: несмотря на страшные впечатления, которые я вынес от встречи с Угонио и Джакконио, эти несколько часов сна не были омрачены кошмарами. При том, что малоприятные (хотя куда от них денешься) поиски того, кто украл у меня единственные ценные предметы, когда-либо водившиеся у меня, продолжались и во сне.
Зато теперь я отдался сладостным смутным воспоминаниям, атаковавшим меня, чуть только я открыл глаза: они были вызваны к жизни мыслью о Клоридии и ее томной красоте. Я был не в состоянии собрать воедино эти блаженные и такие реальные при всей их призрачности ощущения, рожденные во мне божественным ликом моей Клоридии (я уже называл ее так!), ее волнующим контральто, чувственными и нежными руками, пространными наивными рассуждениями…
Слава Богу, я был отвлечен от меланхолических грез до того, как истома окончательно одолела меня и лишила последних сил.
Справа от меня раздался стон. Я повернул голову и увидел Пеллегрино сидящим на постели – оперевшись о стену, обхватив голову руками, он раскачивался и стонал. Чрезвычайно обрадованный тем, что ему стало лучше (с самого начала болезни он впервые оторвал голову от подушки), я кинулся к нему и забросал вопросами.
Но, увы, вместо ответа он тяжело съехал на край постели, так что его подбородок уперся в грудь, оборотил на меня отсутствующий взгляд и замер, не издав более ни звука.
Встревожившись и огорчившись его необъяснимым молчанием, я бросился за Кристофано.
Тот сей же час последовал за мной и принялся лихорадочно осматривать Пеллегрино. Когда тосканец изучал его зрачки, мой хозяин пустил трескучий flatusventris [96], вслед за тем срыгнул, заворчал желудком и снова пустил ветер. Этого было вполне достаточно, чтобы понять, что с ним происходит.
– Он находится в состоянии сна, инертен, о бодрствовании речи пока не идет. Цвет лица – мертвенно-бледный. Не откликается, но я не теряю надежды, что вскоре он очнется. Гематома на голове вроде бы рассасывается, во всяком случае, она не внушает мне опасений.
Словом, Пеллегрино находился в сильном оцепенении, горячка хоть и прошла, но успокаиваться было рано.
– Но что с ним? – приступил я к Кристофано, заподозрив, что он не склонен сообщать мне всего.
– Твой хозяин страдает газами. Он темпераментен и легко впадает в горячность, к тому же сегодня немного жарко. В любом случае следует соблюдать осторожность. Придется сделать промывание желудка, как я и опасался…
Тут он добавил, что в связи с тем лечением очищающего характера, которое он вынужден ему назначить, Пеллегрино нужно оставить в комнате одного. И потому было решено, что я перенесу свою постель в соседнюю комнату, одну из тех трех, что стояли пустыми со дня смерти бывшей хозяйки г-жи Луиджии.
Пока я собирал свои пожитки, Кристофано вынул из кожаного чехла диковинное устройство с мехами величиной с мое предплечье и ввел в него длинную и веретенообразную трубку которая перпендикулярно крепилась к другой трубке, оканчивающейся небольшим отверстием. После чего несколько раз опробовал его, дабы удостовериться, что меха подают воздух в трубки и он выходит через отверстие.
Пеллегрино тупо следил за приготовлениями. Я со смешанным чувством взирал на него, радуясь тому, что он наконец открыл глаза, и опасаясь за его здоровье.
– Готово, – с довольным видом заявил Кристофано и послал меня за водой, растительным маслом и капелькой меда.
Вернувшись, я с удивлением обнаружил, что Пеллегрино уже наполовину раздет и лекарь вовсю суетится вокруг него.
– От него никакого толку. Пособи мне держать его.
Я был вынужден помочь лекарю заголить заднюю часть моего хозяина, который в штыки принял подобное начинание. В ходе дальнейшего противостояния, выражавшегося скорее в пассивности со стороны Пеллегрино, чем собственно сопротивлении, я расспросил Кристофано о том, каковы его намерения.
– Да очень просто: добиться, чтобы он выпустил лишние газы, от которых его пучит.
Данное устройство позволяло благодаря трубкам, расположенным под прямым углом друг к другу, пользоваться им самостоятельно, без посторонней помощи, щадя свою стыдливость. Однако перед нами был тот случай, когда больной был не в состоянии сам о себе позаботиться, оттого этим приходилось заниматься нам.
– А пойдет ли это ему на пользу?
Удивившись моему вопросу, лекарь ответил, что клистир (таково было название устройства) может принести только пользу и никогда вред. По мнению Реди, он выводит телесные мокроты очень щадящим образом, способствуя испражнению на низ, не ослабляя внутренних органов и не старя их, как это бывает, когда лекарство вводится через рот.
Наполняя меха промывательным раствором, Кристофано не переставал нахваливать действие прочих процедур, также осуществляемых с помощью клистира, как-то: вызывающих жажду болеутоляющих, глистовыводящих, ветрогонных, заживляющих, очистительных и даже вяжущих. Лечебных же составов было великое множество: цветочные, лиственные, фруктовые, травяные и еще настои на бараньих рогах, кишках животных, вплоть до того, что в дело мог быть пущен и отвар из старого петуха, скончавшегося естественной смертью.
– Надо же, – выдавил я из себя, пытаясь не выказать гадливости.
– Кстати, – добавил он, закончив очередной экскурс в медицину, – в ближайшие дни выздоравливающему предписан особый режим питания, основу которого составляют бульоны, молочные жидкие кушанья и супы, дабы он оправился от истощения. Посему назначаю ему сегодня полчашки шоколада, вареную курятину и вымоченное в вине медовое печенье. Завтра – чашка кофе, суп из бурачника и шесть пар петушиных яиц.
Подкачав промывательной жидкости, Кристофано наконец оставил Пеллегрино с оголенным задом на мое попечение, наказав дождаться результатов лечения, сам же предусмотрительно вышел. Все произошло так скоро и с таким невиданным размахом, что я наконец уразумел, отчего мне было велено перебраться с пожитками в соседнюю комнату.
Позже я спустился в кухню, чтобы соорудить легкий, но питательный завтрак, подсказанный мне эскулапом: полба, сваренная во вкуснейшем миндальном молоке с сахаром и корицей, похлебка из барбариса на основе отвара из постной рыбы со сливочным маслом, травами и взбитыми яйцами, к которой полагались ломтики хлеба, нарезанные в виде кубиков и посыпанные корицей. Разнося обед по комнатам, я попросил Дульчибени, Бреноцци, Девизе и Стилоне Приазо назначить время, когда им будет удобно принять меня и получить из моих рук лечение, назначенное им Кристофано. Они отчего-то с раздражением выхватывали у меня из рук пищу, принюхивались к ней, и все, словно сговорившись, просили оставить их в покое. Мне пришло в голосу, а не связаны ли их лень и дурное расположение духа с моей неопытностью в поварском деле. А вдруг и впрямь аромат корицы не слишком-то облагораживал приготовленные мной блюда? Я положил обильнее сдабривать их в дальнейшем заморской приправой.
От Кристофано я узнал, что меня требует к себе отец Робледа, ему-де понадобилась питьевая вода. Наполнив графин, я отправился к нему.
– Входи, мой милый, – с неожиданной учтивостью пригласил он меня.
Вдоволь напившись, он предложил мне сесть. Немало удивившись тому приему, который был мне оказан, я поинтересовался, здоровится ли ему и как он провел ночь.
– О, столько усилий, мой милый, столько усилий, – лаконично ответил он, отчего я еще пуще насторожился.
– Понятно, – недоверчиво протянул я.
Робледа был необыкновенно бледен, веки у него набухли, под глазами залегли мешки. Он явно провел эту ночь без сна. Но о каких усилиях шла речь?
– Вчера мы с тобой беседовали кое о чем, – приступил он наконец к делу, – но прошу тебя не придавать большого значения моим речам, возможно, излишне свободным. Пасторская миссия частенько приневоливает нас прибегать к несвойственным нам изначально риторическим фигурам, к чрезмерной концептуальной выхолощенности, неупорядоченному синтаксису, дабы облегчить юным умам доступ к новым и более плодоносным пластам. К тому же юношество не всегда готово воспринять эти благотворные поощрения ума и сердца. Да и положение, в коем все мы оказались, невольно способствует неверному истолкованию мыслей другого человека и не совсем удачному формулированию собственных. Я только прошу тебя, мой милый, об одном: забыть о нашем разговоре, а в особенности о том, что было сказано о Его Святейшестве, драгоценном папе Иннокентии XI. И еще – и это самое главное – я бы очень тебя просил не передавать моих ничтожных и мимолетных умозаключений другим постояльцам. То физическое разделение, которое мы вынуждены соблюдать, чревато неверным истолкованием, ну ты понимаешь…
– Да не печальтесь вы, я и не помню, о чем мы говорили, – солгал я.
– Ах вот что! – воскликнул Робледа, явно задетый за живое но тут же взял себя в руки. – Так-то оно лучше. Заново передумывая сказанное, я ощутил некий гнет, какой бывает, когда спускаешься под землю, в катакомбы, и нечем дышать. – С этими словами он двинулся к двери, чтобы выпустить меня.
Я же стоял как громом пораженный последней фразой, показавшейся мне разоблачительной. Робледа выдал себя. Нужно было немедля возобновить разговор и заставить его еще больше раскрыться.
– Я сдержу обещание молчать, но у меня к вам вопрос по поводу Его Святейшества Иннокентия XI или скорее по поводу папства вообще, – успел я выговорить до того, как он распахнул дверь.
– Я слушаю.
– Так вот… стало быть, – забормотал я, стараясь что-нибудь выдумать, – я вот размышлял, а существует ли способ различать понтификов – этот хорош, тот лучше некуда или вовсе святой.
– Любопытно, что ты задал именно этот вопрос. О том же думалось ночью и мне, – отвечал он, как мне показалось, скорее самому себе.
– В таком случае вы, я уверен, сможете объяснить мне, – проговорил я, стараясь затянуть нашу беседу.
Иезуит снова предложил мне сесть и стал приводить доводы того, что за века, на протяжении которых существует папство, накопилось немалое количество рассуждений и предвидений относительно понтификов прошлого, настоящего и будущего.
– Причина в том, что все люди, и в частности жители этого города, знают или полагают, что знают, каков папа, в данный момент восседающий на троне. Но они также сожалеют о папах былых времен и надеются, что следующий будет лучше и даже что это будет ангельский папа.
– Ангельский папа?
– То бишь тот, кто вернет Римскую Католическую Церковь ее первоначальной святости.
– Не понимаю, – прикинулся я дурачком. – Ежели всякий раз сожалеют о прежнем папе, который, в свою очередь, заставлял сожалеть о тех, которые были до него, значит, папы все хуже и хуже. Как же в таком случае можно надеяться на появление лучшего?
– В том-то и состоит порочная суть пророчеств. Рим издавна был мишенью для идейного воздействия со стороны еретиков. Так, Super Hieremiam и Oraculum Cyrilli [97] давно предсказали падение города. Томмазо да Павиа предвещал крушение Латеранского дворца, якобы представшее ему в видениях, Робер д'Юзес и Джованни Рупешисса заявляли, что город, заложенный Петром, превратился в город двух колонн, место пребывания Антихриста.
Тут вдруг на меня что-то нашло, и я ощутил себя способным поддерживать разговоры подобного рода, правда, лишь когда передо мной была определенная цель – в данном случае побольше разузнать о похитителе ключей и жемчужин. Отец Робледа основательно приступил к рассмотрению вопроса, поведя его от второго пророчества Карла Великого, исполненного загадочной силы, согласно которому император якобы совершит в день Страшного суда славное путешествие в Святую Землю, где будет коронован ангельским папой. А согласно видениям святой Бригитты, Рим будет разрушен германским потомством.
Но все эти мрачные видения о крушении и очищении Рима, развращенного алчностью и сластолюбием, были лишь бледными измышлениями по сравнению с Apocalipsis nova [98] Амедео Блаженного, из которого следовало, что Господь изберет для своей паствы такого пастыря, который освободит Церковь от всех грехов, разъяснит все тайны и внемлет всем пожеланиям. Владыки мира явятся к нему на поклон, Восточная и Западная церкви составят одно целое, над неверными будет одержан верх усилиями одной лишь веры, и придут наконец unum ovile et unus pastor [99].
– И этот папа будет ангельским, – вставил я, желая упорядочить свои мысли и предчувствуя, что иезуит клонит к чему-то иному.
– Вот именно.
– И вы в это верите?
– Но, сын мой, можно ли задавать подобные вопросы? Многие из этих, так сказать, ясновидящих преступили грань и оказались в стане еретиков.
– Стало быть, вы не верите в ангельского папу? – разумеется, нет. Те, кто намеревался создать атмосферу всеобщего ожидания его, были еретиками, если не сказать хуже. На самом деле их целью было по капле вводить мысль о необходимости разрушить институт церкви и о недостойности папы.
– Которого из них?
– Увы, богопротивным нападкам подверглись все понтифики.
И Его Святейшество папа Иннокентий XI?
У Робледы вытянулась физиономия, а в глазах мелькнула тень подозрения.
– Иные предсказания претендовали на то, чтобы объять все времена, и прошлые, и грядущие, вплоть до конца света. И потому в них упоминаются все папы, и в том числе Иннокентий XI.
– А каково содержание этих предсказаний?
Я подметил, что эта тема вызывает в отце Робледе некое сладострастие и в то же время принуждает давать сдержанные оценки. Чуть более густым голосом он принялся излагать мне суть одного из многочисленных предсказаний, претендующего на всеобъемлющий охват преемников святого Петра, начиная с 1100 года и до скончания веков. Он затянул такую долгую литанию, что, ей-богу, создавалось впечатление, что ничем иным он долгие годы не занимался: «Ex castro Tiberis, Inimicus expulsus, Ex magnitudine montis, Abbas subburranus, De rure albo, Ex tetro carcere, Via transtiberina, De Pannonia Tusciae, Ex ansere custode, Lux in ostio, Sus in cribro, Ensis Laurentii, Ex schola exiet, De rure bovensi, Comes signatus, Canonicus ex latere, Avis ostiensis, Leosabinus, Comes laurentius, Jerusalem Campaniae, Draco depressus, Anguineus vir, Concionator gallus, Bonus comes...»
– Но ведь это не имена пап, – прервал я его.
– А вот и нет. Пророчество вырвало их из будущего, до того, как они явились в мир, и назвало их с помощью зашифрованных выражений, которые я только что произнес. К примеру, первый в этом ряду Ex castro Tiberis, что означает «из замка на Тибре». Речь идет о Целестине II, появившемся на свет в Читта ди Кастелло, то есть в городе замка, на берегах Тибра. – Смотри-ка, прямо в точку.
– Ну да. Как и следующий Inimicus expulsus – не кто иной, как Луций II из рода Каччанемичи, если перевести с латыни – Изгоняющий врагов. Третий в этом ряду Ex magnitudine montis – это Евгений III, родом из замка Граммон, Большая гора. Четвертый…
– Видать, это все папы очень давних веков. Впервые слышу такие имена.
– Верно. Но с такой же точностью предсказаны и нынешние папы. Jucunditas crucis, идущий в пророчестве под номером 82, не кто иной, как Иннокентий X, был возведен на престол 14 сентября в праздник Крестовоздвижения. Montium custos – хранитель гор, номер 83, Александр VII, основатель ссудной казны, ломбарда. Sydus olorum – созвездие лебедя, номер 84, Климент IX, проживавший в Лебяжьих покоях Ватикана. Климент X, номер 85, зашифрован в выражении De flumine magno, то есть «на большой воде». Родился в доме, стоящем на берегу Тибра как раз в том месте, где река всегда выходила из берегов.
Зато теперь я отдался сладостным смутным воспоминаниям, атаковавшим меня, чуть только я открыл глаза: они были вызваны к жизни мыслью о Клоридии и ее томной красоте. Я был не в состоянии собрать воедино эти блаженные и такие реальные при всей их призрачности ощущения, рожденные во мне божественным ликом моей Клоридии (я уже называл ее так!), ее волнующим контральто, чувственными и нежными руками, пространными наивными рассуждениями…
Слава Богу, я был отвлечен от меланхолических грез до того, как истома окончательно одолела меня и лишила последних сил.
Справа от меня раздался стон. Я повернул голову и увидел Пеллегрино сидящим на постели – оперевшись о стену, обхватив голову руками, он раскачивался и стонал. Чрезвычайно обрадованный тем, что ему стало лучше (с самого начала болезни он впервые оторвал голову от подушки), я кинулся к нему и забросал вопросами.
Но, увы, вместо ответа он тяжело съехал на край постели, так что его подбородок уперся в грудь, оборотил на меня отсутствующий взгляд и замер, не издав более ни звука.
Встревожившись и огорчившись его необъяснимым молчанием, я бросился за Кристофано.
Тот сей же час последовал за мной и принялся лихорадочно осматривать Пеллегрино. Когда тосканец изучал его зрачки, мой хозяин пустил трескучий flatusventris [96], вслед за тем срыгнул, заворчал желудком и снова пустил ветер. Этого было вполне достаточно, чтобы понять, что с ним происходит.
– Он находится в состоянии сна, инертен, о бодрствовании речи пока не идет. Цвет лица – мертвенно-бледный. Не откликается, но я не теряю надежды, что вскоре он очнется. Гематома на голове вроде бы рассасывается, во всяком случае, она не внушает мне опасений.
Словом, Пеллегрино находился в сильном оцепенении, горячка хоть и прошла, но успокаиваться было рано.
– Но что с ним? – приступил я к Кристофано, заподозрив, что он не склонен сообщать мне всего.
– Твой хозяин страдает газами. Он темпераментен и легко впадает в горячность, к тому же сегодня немного жарко. В любом случае следует соблюдать осторожность. Придется сделать промывание желудка, как я и опасался…
Тут он добавил, что в связи с тем лечением очищающего характера, которое он вынужден ему назначить, Пеллегрино нужно оставить в комнате одного. И потому было решено, что я перенесу свою постель в соседнюю комнату, одну из тех трех, что стояли пустыми со дня смерти бывшей хозяйки г-жи Луиджии.
Пока я собирал свои пожитки, Кристофано вынул из кожаного чехла диковинное устройство с мехами величиной с мое предплечье и ввел в него длинную и веретенообразную трубку которая перпендикулярно крепилась к другой трубке, оканчивающейся небольшим отверстием. После чего несколько раз опробовал его, дабы удостовериться, что меха подают воздух в трубки и он выходит через отверстие.
Пеллегрино тупо следил за приготовлениями. Я со смешанным чувством взирал на него, радуясь тому, что он наконец открыл глаза, и опасаясь за его здоровье.
– Готово, – с довольным видом заявил Кристофано и послал меня за водой, растительным маслом и капелькой меда.
Вернувшись, я с удивлением обнаружил, что Пеллегрино уже наполовину раздет и лекарь вовсю суетится вокруг него.
– От него никакого толку. Пособи мне держать его.
Я был вынужден помочь лекарю заголить заднюю часть моего хозяина, который в штыки принял подобное начинание. В ходе дальнейшего противостояния, выражавшегося скорее в пассивности со стороны Пеллегрино, чем собственно сопротивлении, я расспросил Кристофано о том, каковы его намерения.
– Да очень просто: добиться, чтобы он выпустил лишние газы, от которых его пучит.
Данное устройство позволяло благодаря трубкам, расположенным под прямым углом друг к другу, пользоваться им самостоятельно, без посторонней помощи, щадя свою стыдливость. Однако перед нами был тот случай, когда больной был не в состоянии сам о себе позаботиться, оттого этим приходилось заниматься нам.
– А пойдет ли это ему на пользу?
Удивившись моему вопросу, лекарь ответил, что клистир (таково было название устройства) может принести только пользу и никогда вред. По мнению Реди, он выводит телесные мокроты очень щадящим образом, способствуя испражнению на низ, не ослабляя внутренних органов и не старя их, как это бывает, когда лекарство вводится через рот.
Наполняя меха промывательным раствором, Кристофано не переставал нахваливать действие прочих процедур, также осуществляемых с помощью клистира, как-то: вызывающих жажду болеутоляющих, глистовыводящих, ветрогонных, заживляющих, очистительных и даже вяжущих. Лечебных же составов было великое множество: цветочные, лиственные, фруктовые, травяные и еще настои на бараньих рогах, кишках животных, вплоть до того, что в дело мог быть пущен и отвар из старого петуха, скончавшегося естественной смертью.
– Надо же, – выдавил я из себя, пытаясь не выказать гадливости.
– Кстати, – добавил он, закончив очередной экскурс в медицину, – в ближайшие дни выздоравливающему предписан особый режим питания, основу которого составляют бульоны, молочные жидкие кушанья и супы, дабы он оправился от истощения. Посему назначаю ему сегодня полчашки шоколада, вареную курятину и вымоченное в вине медовое печенье. Завтра – чашка кофе, суп из бурачника и шесть пар петушиных яиц.
Подкачав промывательной жидкости, Кристофано наконец оставил Пеллегрино с оголенным задом на мое попечение, наказав дождаться результатов лечения, сам же предусмотрительно вышел. Все произошло так скоро и с таким невиданным размахом, что я наконец уразумел, отчего мне было велено перебраться с пожитками в соседнюю комнату.
Позже я спустился в кухню, чтобы соорудить легкий, но питательный завтрак, подсказанный мне эскулапом: полба, сваренная во вкуснейшем миндальном молоке с сахаром и корицей, похлебка из барбариса на основе отвара из постной рыбы со сливочным маслом, травами и взбитыми яйцами, к которой полагались ломтики хлеба, нарезанные в виде кубиков и посыпанные корицей. Разнося обед по комнатам, я попросил Дульчибени, Бреноцци, Девизе и Стилоне Приазо назначить время, когда им будет удобно принять меня и получить из моих рук лечение, назначенное им Кристофано. Они отчего-то с раздражением выхватывали у меня из рук пищу, принюхивались к ней, и все, словно сговорившись, просили оставить их в покое. Мне пришло в голосу, а не связаны ли их лень и дурное расположение духа с моей неопытностью в поварском деле. А вдруг и впрямь аромат корицы не слишком-то облагораживал приготовленные мной блюда? Я положил обильнее сдабривать их в дальнейшем заморской приправой.
От Кристофано я узнал, что меня требует к себе отец Робледа, ему-де понадобилась питьевая вода. Наполнив графин, я отправился к нему.
– Входи, мой милый, – с неожиданной учтивостью пригласил он меня.
Вдоволь напившись, он предложил мне сесть. Немало удивившись тому приему, который был мне оказан, я поинтересовался, здоровится ли ему и как он провел ночь.
– О, столько усилий, мой милый, столько усилий, – лаконично ответил он, отчего я еще пуще насторожился.
– Понятно, – недоверчиво протянул я.
Робледа был необыкновенно бледен, веки у него набухли, под глазами залегли мешки. Он явно провел эту ночь без сна. Но о каких усилиях шла речь?
– Вчера мы с тобой беседовали кое о чем, – приступил он наконец к делу, – но прошу тебя не придавать большого значения моим речам, возможно, излишне свободным. Пасторская миссия частенько приневоливает нас прибегать к несвойственным нам изначально риторическим фигурам, к чрезмерной концептуальной выхолощенности, неупорядоченному синтаксису, дабы облегчить юным умам доступ к новым и более плодоносным пластам. К тому же юношество не всегда готово воспринять эти благотворные поощрения ума и сердца. Да и положение, в коем все мы оказались, невольно способствует неверному истолкованию мыслей другого человека и не совсем удачному формулированию собственных. Я только прошу тебя, мой милый, об одном: забыть о нашем разговоре, а в особенности о том, что было сказано о Его Святейшестве, драгоценном папе Иннокентии XI. И еще – и это самое главное – я бы очень тебя просил не передавать моих ничтожных и мимолетных умозаключений другим постояльцам. То физическое разделение, которое мы вынуждены соблюдать, чревато неверным истолкованием, ну ты понимаешь…
– Да не печальтесь вы, я и не помню, о чем мы говорили, – солгал я.
– Ах вот что! – воскликнул Робледа, явно задетый за живое но тут же взял себя в руки. – Так-то оно лучше. Заново передумывая сказанное, я ощутил некий гнет, какой бывает, когда спускаешься под землю, в катакомбы, и нечем дышать. – С этими словами он двинулся к двери, чтобы выпустить меня.
Я же стоял как громом пораженный последней фразой, показавшейся мне разоблачительной. Робледа выдал себя. Нужно было немедля возобновить разговор и заставить его еще больше раскрыться.
– Я сдержу обещание молчать, но у меня к вам вопрос по поводу Его Святейшества Иннокентия XI или скорее по поводу папства вообще, – успел я выговорить до того, как он распахнул дверь.
– Я слушаю.
– Так вот… стало быть, – забормотал я, стараясь что-нибудь выдумать, – я вот размышлял, а существует ли способ различать понтификов – этот хорош, тот лучше некуда или вовсе святой.
– Любопытно, что ты задал именно этот вопрос. О том же думалось ночью и мне, – отвечал он, как мне показалось, скорее самому себе.
– В таком случае вы, я уверен, сможете объяснить мне, – проговорил я, стараясь затянуть нашу беседу.
Иезуит снова предложил мне сесть и стал приводить доводы того, что за века, на протяжении которых существует папство, накопилось немалое количество рассуждений и предвидений относительно понтификов прошлого, настоящего и будущего.
– Причина в том, что все люди, и в частности жители этого города, знают или полагают, что знают, каков папа, в данный момент восседающий на троне. Но они также сожалеют о папах былых времен и надеются, что следующий будет лучше и даже что это будет ангельский папа.
– Ангельский папа?
– То бишь тот, кто вернет Римскую Католическую Церковь ее первоначальной святости.
– Не понимаю, – прикинулся я дурачком. – Ежели всякий раз сожалеют о прежнем папе, который, в свою очередь, заставлял сожалеть о тех, которые были до него, значит, папы все хуже и хуже. Как же в таком случае можно надеяться на появление лучшего?
– В том-то и состоит порочная суть пророчеств. Рим издавна был мишенью для идейного воздействия со стороны еретиков. Так, Super Hieremiam и Oraculum Cyrilli [97] давно предсказали падение города. Томмазо да Павиа предвещал крушение Латеранского дворца, якобы представшее ему в видениях, Робер д'Юзес и Джованни Рупешисса заявляли, что город, заложенный Петром, превратился в город двух колонн, место пребывания Антихриста.
Тут вдруг на меня что-то нашло, и я ощутил себя способным поддерживать разговоры подобного рода, правда, лишь когда передо мной была определенная цель – в данном случае побольше разузнать о похитителе ключей и жемчужин. Отец Робледа основательно приступил к рассмотрению вопроса, поведя его от второго пророчества Карла Великого, исполненного загадочной силы, согласно которому император якобы совершит в день Страшного суда славное путешествие в Святую Землю, где будет коронован ангельским папой. А согласно видениям святой Бригитты, Рим будет разрушен германским потомством.
Но все эти мрачные видения о крушении и очищении Рима, развращенного алчностью и сластолюбием, были лишь бледными измышлениями по сравнению с Apocalipsis nova [98] Амедео Блаженного, из которого следовало, что Господь изберет для своей паствы такого пастыря, который освободит Церковь от всех грехов, разъяснит все тайны и внемлет всем пожеланиям. Владыки мира явятся к нему на поклон, Восточная и Западная церкви составят одно целое, над неверными будет одержан верх усилиями одной лишь веры, и придут наконец unum ovile et unus pastor [99].
– И этот папа будет ангельским, – вставил я, желая упорядочить свои мысли и предчувствуя, что иезуит клонит к чему-то иному.
– Вот именно.
– И вы в это верите?
– Но, сын мой, можно ли задавать подобные вопросы? Многие из этих, так сказать, ясновидящих преступили грань и оказались в стане еретиков.
– Стало быть, вы не верите в ангельского папу? – разумеется, нет. Те, кто намеревался создать атмосферу всеобщего ожидания его, были еретиками, если не сказать хуже. На самом деле их целью было по капле вводить мысль о необходимости разрушить институт церкви и о недостойности папы.
– Которого из них?
– Увы, богопротивным нападкам подверглись все понтифики.
И Его Святейшество папа Иннокентий XI?
У Робледы вытянулась физиономия, а в глазах мелькнула тень подозрения.
– Иные предсказания претендовали на то, чтобы объять все времена, и прошлые, и грядущие, вплоть до конца света. И потому в них упоминаются все папы, и в том числе Иннокентий XI.
– А каково содержание этих предсказаний?
Я подметил, что эта тема вызывает в отце Робледе некое сладострастие и в то же время принуждает давать сдержанные оценки. Чуть более густым голосом он принялся излагать мне суть одного из многочисленных предсказаний, претендующего на всеобъемлющий охват преемников святого Петра, начиная с 1100 года и до скончания веков. Он затянул такую долгую литанию, что, ей-богу, создавалось впечатление, что ничем иным он долгие годы не занимался: «Ex castro Tiberis, Inimicus expulsus, Ex magnitudine montis, Abbas subburranus, De rure albo, Ex tetro carcere, Via transtiberina, De Pannonia Tusciae, Ex ansere custode, Lux in ostio, Sus in cribro, Ensis Laurentii, Ex schola exiet, De rure bovensi, Comes signatus, Canonicus ex latere, Avis ostiensis, Leosabinus, Comes laurentius, Jerusalem Campaniae, Draco depressus, Anguineus vir, Concionator gallus, Bonus comes...»
– Но ведь это не имена пап, – прервал я его.
– А вот и нет. Пророчество вырвало их из будущего, до того, как они явились в мир, и назвало их с помощью зашифрованных выражений, которые я только что произнес. К примеру, первый в этом ряду Ex castro Tiberis, что означает «из замка на Тибре». Речь идет о Целестине II, появившемся на свет в Читта ди Кастелло, то есть в городе замка, на берегах Тибра. – Смотри-ка, прямо в точку.
– Ну да. Как и следующий Inimicus expulsus – не кто иной, как Луций II из рода Каччанемичи, если перевести с латыни – Изгоняющий врагов. Третий в этом ряду Ex magnitudine montis – это Евгений III, родом из замка Граммон, Большая гора. Четвертый…
– Видать, это все папы очень давних веков. Впервые слышу такие имена.
– Верно. Но с такой же точностью предсказаны и нынешние папы. Jucunditas crucis, идущий в пророчестве под номером 82, не кто иной, как Иннокентий X, был возведен на престол 14 сентября в праздник Крестовоздвижения. Montium custos – хранитель гор, номер 83, Александр VII, основатель ссудной казны, ломбарда. Sydus olorum – созвездие лебедя, номер 84, Климент IX, проживавший в Лебяжьих покоях Ватикана. Климент X, номер 85, зашифрован в выражении De flumine magno, то есть «на большой воде». Родился в доме, стоящем на берегу Тибра как раз в том месте, где река всегда выходила из берегов.
