Страница:
(Двадцать лет спустя, в 1944 году, охотясь в поле, которое было когда-то частью отцовской фермы, Феликс заметил над речкой Литтл-Ран воздушный шар, и побежал к нему навстречу. На канатах там болталось что-то подозрительное. Шар плавно опустился на землю, Феликс подался вперед и ухватился за японскую бомбу. После похорон – полной правой руки, искалеченной ноги и уха – к родственникам явился губернатор и долго умолял хранить молчание, чтобы не сеять среди людей панику и страх).
Бетль ругался с Перси Клодом, отказывался покупать трактор и не допускал в дом радио. Мессермахер, у которого скопилось прилично денег, вызвал из Крингеля мастеров, провел в дом канализацию и сжег уличный нужник, подняв при этом столб зловонного дыма, но осенью 1924 года ко всеобщему удивлению вдруг продал ферму и перебрался в Кому, Техас, растить хлопок. В Коме половину городка занимали германцы, а в другой селились богемские чехи. Вняв примеру Карла, Мессермахер сменил фамилию на Шарп: он рассудил, что Чарли Шарпу живется не в пример легче, чем Карлу Мессермахеру.
Складывая перед отъездом вещи, дочка наткнулась на зеленый аккордеон.
– Что с ним делать? Это старый аккордеон, Vati[54], который тебе отдал дядя Бетль. Он еще неплохо звучит. – Она растянула меха и сыграла первый куплет из «Да, сэр, это мой мальчик»[55].
– Суньте его в коричневый сундук. Может Вилли надоест гавайская гитара – а может кто из внуков когда займется. – Мать уложила аккордеон на дно сундука, сверху на него опустились корзина для ниток, кофемолка, поношенный бизоний плед и набор чесалок для шерсти.
Бетль ругался, называл Мессермахера предателем, не понимал, как можно покинуть такую хорошую землю, которую они нашли все вместе и все вместе превратили в отличные фермы.
Доктор Сквам лечит козлиной железой
Адская жара
Промашка Чарли Шарпа
КУСАЙ МЕНЯ, ПАУК
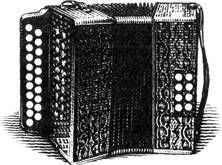
И не смотри на меня так
Бетль ругался с Перси Клодом, отказывался покупать трактор и не допускал в дом радио. Мессермахер, у которого скопилось прилично денег, вызвал из Крингеля мастеров, провел в дом канализацию и сжег уличный нужник, подняв при этом столб зловонного дыма, но осенью 1924 года ко всеобщему удивлению вдруг продал ферму и перебрался в Кому, Техас, растить хлопок. В Коме половину городка занимали германцы, а в другой селились богемские чехи. Вняв примеру Карла, Мессермахер сменил фамилию на Шарп: он рассудил, что Чарли Шарпу живется не в пример легче, чем Карлу Мессермахеру.
Складывая перед отъездом вещи, дочка наткнулась на зеленый аккордеон.
– Что с ним делать? Это старый аккордеон, Vati[54], который тебе отдал дядя Бетль. Он еще неплохо звучит. – Она растянула меха и сыграла первый куплет из «Да, сэр, это мой мальчик»[55].
– Суньте его в коричневый сундук. Может Вилли надоест гавайская гитара – а может кто из внуков когда займется. – Мать уложила аккордеон на дно сундука, сверху на него опустились корзина для ниток, кофемолка, поношенный бизоний плед и набор чесалок для шерсти.
Бетль ругался, называл Мессермахера предателем, не понимал, как можно покинуть такую хорошую землю, которую они нашли все вместе и все вместе превратили в отличные фермы.
Доктор Сквам лечит козлиной железой
Весной 1929 года первым умер Лотц – от осложнения грыжи; его похоронили в кипарисовом ящике. Ферму разделили между собой пятеро детей и множество внуков, которые тут же продали свои участки. По огромным полям рассыпались гаражи и маленькие домики. Месяцем позже из Техаса пришло известие о том, что Мессермахер упал замертво прямо у почтового ящика. На груди у него остался лежать новый каталог из «Сирса», раскрытый на странице с рекламой женских сеточек для волос. Старому другу и соседу Бетлю он оставил акции «Радио» на две тысячи долларов, которые неслись сейчас вверх, как настоящие ракеты.
Чарли Шарп вытащил старика на биржу. Не в силах сдержать изумление перед открывающимися горизонтами, вне себя от одной только мысли о легкой удаче на «бычьем» рынке, Бетль дозвонился из продуктовой лавки до Чарли и стал спрашивать советов. Может нужно вложить деньги еще в какие-нибудь акции? В какие именно?
– Американская радиокорпорация. То, что держал Vati. Радио сейчас выходит на самый верх. «Дженерал Моторс», «Монтгомери Уорд», биржа – это дело, настоящее дело. Дядя Ганс, в Америке может разбогатеть кто угодно. Прошлой зимой чуть-чуть штормило, биржу штормило, но сейчас рынок стабильно поднимается. Страна тверда, как скала. – Он понизил голос. – Я вам кое-что скажу. Я сейчас стою четверть миллиона, дядя Ганс. Я начинал с того, что купил немного акций «Студебеккера», но сейчас все идет вверх очень быстро. Неплохо для деревенского мальчишки из Айовы, а? – Он еще некоторое время поразглагольствовал о том, как покупать акции в долг и предложил Гансу свои услуги в качестве брокера.
Бетль, поверив после тридцати лет жизни в этой стране, что Америка наконец-то вступила в эру процветания, взял под залог фермы кредит и через Чарли купил сто акций «Радио» по 120,50 за пай.
– Если бы вы купили их на прошлой неделе, дядя Ганс, вы заплатили бы всего девяноста четыре. Так быстро растет. Предела нет. Предел – само небо.
Попав в плен к «Радио» и ее распухающему успеху, Бетль наконец-то сдался и купил дорогой фрид-эйсмановский пятиламповый приемник с девяностоамперной батареей «Прест-О-Лайт», двумя сорокапятивольтовыми батарейками, наушниками, антенной, вакуумной трубкой и круглым динамиком, который одиноко висел на стене и оглушал всех звуками «Цыганский час Эй-Пи». Перси Клод сказал:
– Провел бы электричество, не понадобились бы все эти батареи, просто втыкал бы в розетку. «Кроссли Пап» стоит десять долларов, а сколько ты отдал за все это, пятьдесят? Шестьдесят?
Поверив в свалившуюся на него удачу, Бетль задумался о судьбе: – Трое ровесников, три одинаковых жизни, Лотц и Мессермахер умерли, их уже нет, вроде того, один, два, я третий, я следующий. Значит и я скоро умру. Тот же возраст, шестьдесят четыре, а они уже в dem Grab [56]. – Впервые, со времен своих мальчишеских лет, он чувствовал, как уменьшается желание. Наклонясь над бочонком с картошкой и держась рукой за крестец, Герти напевала «Лучшее в жизни – это свобода» и размышляла о том, какие бывают надгробья.
Но он все так же прямо сидел за столом, все так же раскуривал трубку, все так же поднимался ни свет, ни заря – получалось, он и вправду их пережил, двух других германцев, и единственное, что отличало его жизнь от их – это активность, что сберегла ему силу и мощь, добрая честная похоть. Она и сохранит его живым и здоровым лет до ста.
– Господи Иисусе, я же им говорил!
Но и его пламя остывало, в этом была реальная опасность. Он заставлял себя минимум раз в день сцепляться с Герти, но от усилий, которых это требовало, корчился, покрывался потом, впадал в тоску. Он говорил отрывисто, командовал сыновьями, словно те все еще были детьми – наверняка ждут не дождутся, когда он отправится вслед за Лотцем и Мессермахером, особенно Перси Клод, поглядывавший на отца волчьими глазами. Ответ пришел к Бетлю по радио.
Обычно он хранил верность «Кей-Эф-Кей-Би», которая вещала из Топеки, и переключался на другие каналы, только когда не мог до нее добраться – слушал «Обзоры Концертины», «Веселую сельскую музыку», «Мужик-ковбой и его маленькая гитара», несколько раз натыкался на чикагскую передачу «Пляски у сарая Дабл-Ю-Эл-Эс», но чаще всего ловил на «Сидер-Рэпид» «Полуночников Куна Сандерса». Он не особенно вслушивался, о чем поют в этих джазовых фокстротах, и, скажем, «Жизнь похожа на рай», звучало для него как «Джон пошел за сарай». Иногда он доставал «Хенер» – маленький зеленый аккордеон подошел бы лучше – и подыгрывал музыкантам «Концертины», хотя эти ненормальные шведы издавали звуки вроде тех, с которыми вылетают из бутылок пробки, или когда писают коровы. (Только раз ему удалось услышать, как какой-то виртуоз играет на уитстоновской концертине прелюдию Баха номер 1 ми-бемоль-мажор, но после этого на радио пришло столько жалоб, что номер больше не повторяли.) Однажды в репродукторе раздался скрипучий гнусавый голос доктора Сквама.
– Друзья, у микрофона доктор Сквам, и он приглашает вас для прямого разговора. Сегодня я хочу сказать несколько слов мужчинам, так что если нас слушают леди, то они могут спокойно подняться наверх и заняться рукоделием, ибо нам предстоит мужской разговор. Но прежде, чем вы нас покинете, примите две столовых ложки моего лечебного тоника номер пятьдесят пять, ибо в вашей жизни скоро произойдут большие перемены.
Ну, что ж, джентльмены, когда мужчина достигает определенного возраста, вы знаете, что я имею в виду, вы ведь из тех мужчин, которым это небезразлично, его пыл остывает, определенные железы увядают, и весна уходит из его шагов. Если то, о чем я говорю, вам знакомо, слушайте внимательно. До последнего времени этим мужчинам не на что было надеяться, несмотря на прекрасное здоровье, силу и способности во всем остальном. Но сейчас появился шанс. Доктор Сквам разработал сложную четырехступенчатую операцию по омолаживанию истощенных половых органов с помощью вливания свежей крови в пораженные участки – это дает настоящий толчок старому двигателю. Послушайте, что говорит нефтяник из Техаса.
Из-под целлюлозной крышки динамика полилась медлительная речь, затем диктор объявил с тщательно скрываемым возбуждением:
– Если вы хотите узнать побольше о волшебной процедуре, которая вернет вам вашу же энергию и радость восемнадцатилетнего юноши, напишите доктору Скваму по адресу…
Бетлю тут же пришло в голову, что если продать пару акций из тех, что ему оставил Мессермахер, можно сделать операцию за мессермахеровский счет.
– Узнал бы – перевернулся в гробу от смеха. И на кой черт писать этому Скваму. Клод! Перси Клод, давай сюда, мне надо на станцию.
Вечерним поездом он отправился в Топеку. Была середина августа. Два дня спустя он лежал на операционном столе, и доктор Сквам, надрезав мошонку, искусно имплантировал ему в яички часть козлиной железы. Пока шла операция, персональная радиостанция доктора передавала с больничного двора отборные вальсы и польки. Узнав, что Бетль играет на аккордеоне, доктор Сквам снизил цену за операцию до всего лишь семиста долларов.
Чарли Шарп вытащил старика на биржу. Не в силах сдержать изумление перед открывающимися горизонтами, вне себя от одной только мысли о легкой удаче на «бычьем» рынке, Бетль дозвонился из продуктовой лавки до Чарли и стал спрашивать советов. Может нужно вложить деньги еще в какие-нибудь акции? В какие именно?
– Американская радиокорпорация. То, что держал Vati. Радио сейчас выходит на самый верх. «Дженерал Моторс», «Монтгомери Уорд», биржа – это дело, настоящее дело. Дядя Ганс, в Америке может разбогатеть кто угодно. Прошлой зимой чуть-чуть штормило, биржу штормило, но сейчас рынок стабильно поднимается. Страна тверда, как скала. – Он понизил голос. – Я вам кое-что скажу. Я сейчас стою четверть миллиона, дядя Ганс. Я начинал с того, что купил немного акций «Студебеккера», но сейчас все идет вверх очень быстро. Неплохо для деревенского мальчишки из Айовы, а? – Он еще некоторое время поразглагольствовал о том, как покупать акции в долг и предложил Гансу свои услуги в качестве брокера.
Бетль, поверив после тридцати лет жизни в этой стране, что Америка наконец-то вступила в эру процветания, взял под залог фермы кредит и через Чарли купил сто акций «Радио» по 120,50 за пай.
– Если бы вы купили их на прошлой неделе, дядя Ганс, вы заплатили бы всего девяноста четыре. Так быстро растет. Предела нет. Предел – само небо.
Попав в плен к «Радио» и ее распухающему успеху, Бетль наконец-то сдался и купил дорогой фрид-эйсмановский пятиламповый приемник с девяностоамперной батареей «Прест-О-Лайт», двумя сорокапятивольтовыми батарейками, наушниками, антенной, вакуумной трубкой и круглым динамиком, который одиноко висел на стене и оглушал всех звуками «Цыганский час Эй-Пи». Перси Клод сказал:
– Провел бы электричество, не понадобились бы все эти батареи, просто втыкал бы в розетку. «Кроссли Пап» стоит десять долларов, а сколько ты отдал за все это, пятьдесят? Шестьдесят?
Поверив в свалившуюся на него удачу, Бетль задумался о судьбе: – Трое ровесников, три одинаковых жизни, Лотц и Мессермахер умерли, их уже нет, вроде того, один, два, я третий, я следующий. Значит и я скоро умру. Тот же возраст, шестьдесят четыре, а они уже в dem Grab [56]. – Впервые, со времен своих мальчишеских лет, он чувствовал, как уменьшается желание. Наклонясь над бочонком с картошкой и держась рукой за крестец, Герти напевала «Лучшее в жизни – это свобода» и размышляла о том, какие бывают надгробья.
Но он все так же прямо сидел за столом, все так же раскуривал трубку, все так же поднимался ни свет, ни заря – получалось, он и вправду их пережил, двух других германцев, и единственное, что отличало его жизнь от их – это активность, что сберегла ему силу и мощь, добрая честная похоть. Она и сохранит его живым и здоровым лет до ста.
– Господи Иисусе, я же им говорил!
Но и его пламя остывало, в этом была реальная опасность. Он заставлял себя минимум раз в день сцепляться с Герти, но от усилий, которых это требовало, корчился, покрывался потом, впадал в тоску. Он говорил отрывисто, командовал сыновьями, словно те все еще были детьми – наверняка ждут не дождутся, когда он отправится вслед за Лотцем и Мессермахером, особенно Перси Клод, поглядывавший на отца волчьими глазами. Ответ пришел к Бетлю по радио.
Обычно он хранил верность «Кей-Эф-Кей-Би», которая вещала из Топеки, и переключался на другие каналы, только когда не мог до нее добраться – слушал «Обзоры Концертины», «Веселую сельскую музыку», «Мужик-ковбой и его маленькая гитара», несколько раз натыкался на чикагскую передачу «Пляски у сарая Дабл-Ю-Эл-Эс», но чаще всего ловил на «Сидер-Рэпид» «Полуночников Куна Сандерса». Он не особенно вслушивался, о чем поют в этих джазовых фокстротах, и, скажем, «Жизнь похожа на рай», звучало для него как «Джон пошел за сарай». Иногда он доставал «Хенер» – маленький зеленый аккордеон подошел бы лучше – и подыгрывал музыкантам «Концертины», хотя эти ненормальные шведы издавали звуки вроде тех, с которыми вылетают из бутылок пробки, или когда писают коровы. (Только раз ему удалось услышать, как какой-то виртуоз играет на уитстоновской концертине прелюдию Баха номер 1 ми-бемоль-мажор, но после этого на радио пришло столько жалоб, что номер больше не повторяли.) Однажды в репродукторе раздался скрипучий гнусавый голос доктора Сквама.
– Друзья, у микрофона доктор Сквам, и он приглашает вас для прямого разговора. Сегодня я хочу сказать несколько слов мужчинам, так что если нас слушают леди, то они могут спокойно подняться наверх и заняться рукоделием, ибо нам предстоит мужской разговор. Но прежде, чем вы нас покинете, примите две столовых ложки моего лечебного тоника номер пятьдесят пять, ибо в вашей жизни скоро произойдут большие перемены.
Ну, что ж, джентльмены, когда мужчина достигает определенного возраста, вы знаете, что я имею в виду, вы ведь из тех мужчин, которым это небезразлично, его пыл остывает, определенные железы увядают, и весна уходит из его шагов. Если то, о чем я говорю, вам знакомо, слушайте внимательно. До последнего времени этим мужчинам не на что было надеяться, несмотря на прекрасное здоровье, силу и способности во всем остальном. Но сейчас появился шанс. Доктор Сквам разработал сложную четырехступенчатую операцию по омолаживанию истощенных половых органов с помощью вливания свежей крови в пораженные участки – это дает настоящий толчок старому двигателю. Послушайте, что говорит нефтяник из Техаса.
Из-под целлюлозной крышки динамика полилась медлительная речь, затем диктор объявил с тщательно скрываемым возбуждением:
– Если вы хотите узнать побольше о волшебной процедуре, которая вернет вам вашу же энергию и радость восемнадцатилетнего юноши, напишите доктору Скваму по адресу…
Бетлю тут же пришло в голову, что если продать пару акций из тех, что ему оставил Мессермахер, можно сделать операцию за мессермахеровский счет.
– Узнал бы – перевернулся в гробу от смеха. И на кой черт писать этому Скваму. Клод! Перси Клод, давай сюда, мне надо на станцию.
Вечерним поездом он отправился в Топеку. Была середина августа. Два дня спустя он лежал на операционном столе, и доктор Сквам, надрезав мошонку, искусно имплантировал ему в яички часть козлиной железы. Пока шла операция, персональная радиостанция доктора передавала с больничного двора отборные вальсы и польки. Узнав, что Бетль играет на аккордеоне, доктор Сквам снизил цену за операцию до всего лишь семиста долларов.
Адская жара
В поезде, который вез его обратно в Прэнк, было невыносимо: зной распаханной прерии, удушающее одеяло жары, плотное, словно клей, воздушное марево – кукуруза сохла прямо на глазах, и пыльная корка покрывала обочины дорог. Грубая обивка сиденья раскалилась. Распухшие яички Бетля начали пульсировать, и меньше чем через час давление туго натянутой материи брюк уже невозможно было вынести. Он попытался шагать взад-вперед по проходу, но приходилось так широко расставлять ноги, что все на него оглядывались. Когда поезд добрался до Прэнка, он был готов упасть на землю – почти без чувств, с выпученными глазами. Он все же пытался смотреть этими воспаленными шариками, но небо переворачивалось вверх тормашками, и птицы скользили по нему, словно мухи по стеклянному полу. В Прэнке кондуктор вытащил его на перрон и сдал на руки Перси Клоду, который флегматично дожидался отца, прячась в тени навеса и болтая покрасневшими руками.
– Что-то не то с вашим стариком, Перси Клод. Ходит, будто у него в жопе кукурузный початок. На твоем месте я бы показал его доктору.
Доктор Дилтард Кюд, длинноногий человек, владевший солидным пакетом акций «Америкэн Телефон энд Телеграф», вышел из дому, бросил взгляд на зашитые яички, затем на воспаленные полосы, тянувшиеся от паха к животу и вниз к почерневшим бедрам, сказал: инфекция, гангрена, ничего не сделаешь, нужно везти домой, уложить, как можно удобнее в этой проклятой жаре, пристроить на поднос кусок льда и установить вентилятор так, чтобы воздух шел ото льда на больного, затем – ничего не поделаешь – дожидаться конца. Перси Клод не стал говорить, что они без электричества не смогут установить вентилятор.
Тридцать часов Бетль пролежал на диване, не в состоянии открыть глаза. Он чувствовал, когда кто-то заходил в комнату. По всему телу разливался звон, обжигающий и жужжащий. Он хотел пошевелиться, но не мог. Он хотел крикнуть «der Teufel [57]!», но слова застревали в горле. Однако страшно не было, только очень интересно – он явственно слышал хрипловатые звуки «Deutschland, Deutschland» так, словно там, куда он уходил, его наконец-то ждала настоящая немецкая аккордеонная музыка. На памятнике его имя написали неправильно – Ганс Буттл. Но так их называли в округе, и Перси Клод решил, что пусть так и будет.
– Что-то не то с вашим стариком, Перси Клод. Ходит, будто у него в жопе кукурузный початок. На твоем месте я бы показал его доктору.
Доктор Дилтард Кюд, длинноногий человек, владевший солидным пакетом акций «Америкэн Телефон энд Телеграф», вышел из дому, бросил взгляд на зашитые яички, затем на воспаленные полосы, тянувшиеся от паха к животу и вниз к почерневшим бедрам, сказал: инфекция, гангрена, ничего не сделаешь, нужно везти домой, уложить, как можно удобнее в этой проклятой жаре, пристроить на поднос кусок льда и установить вентилятор так, чтобы воздух шел ото льда на больного, затем – ничего не поделаешь – дожидаться конца. Перси Клод не стал говорить, что они без электричества не смогут установить вентилятор.
Тридцать часов Бетль пролежал на диване, не в состоянии открыть глаза. Он чувствовал, когда кто-то заходил в комнату. По всему телу разливался звон, обжигающий и жужжащий. Он хотел пошевелиться, но не мог. Он хотел крикнуть «der Teufel [57]!», но слова застревали в горле. Однако страшно не было, только очень интересно – он явственно слышал хрипловатые звуки «Deutschland, Deutschland» так, словно там, куда он уходил, его наконец-то ждала настоящая немецкая аккордеонная музыка. На памятнике его имя написали неправильно – Ганс Буттл. Но так их называли в округе, и Перси Клод решил, что пусть так и будет.
Промашка Чарли Шарпа
В первой трети сентября скорректированная цена «Радио» добралась до 505 за каждую из дважды разделенных акций; оставшиеся после Бетля сто акций стоили больше пятидесяти тысяч долларов. Перси Клод встал, разогнул спину, примерно час побродил вокруг дома, затем вернулся, сел рядом с Грини и рассказал ей все как есть.
– Ты знаешь, Vater Ганс оставил кое-какие акции. Он занимался биржей через Чарли, Чарли Шарпа. Там немало.
– Сколько? – Она поднесла спичку к сигарете и выпустила дымок через напудренные ноздри.
– Да немало. – Ему не нравились курящие женщины, но он ничего ей не говорил. Волосы у нее были подстрижены – обрублены, думал он, – густые прямые пряди резко обрезаны самых у мочек. И, похоже, она что-то сделала с грудью, стала какой-то плоской.
– А что если бросить эту чертову ферму и переехать Де-Мойн? Какой смысл торчать здесь? Я так давно мечтаю о Де-Мойне.
– Только не надо повторять за этой ненормальной Флэминг Мэйм. Ты совсем не думаешь о Mutti [58].
– Ей понравится в городе – там много пожилых дам, всегда есть чем заняться, будет ходить в кино, научится играть в маджонг. Покрасит волосы, приоденется немного. Господи, Перси Клод, скажи, ну пожалуйста, мы переедем в Де-Мойн? Я так устала от этого старого корыта, так надоело чистить эти вонючие керосиновые лампы. Во всем Прэнке без электричества только мы.
– Я не говорю «да» и не говорю «нет». Очень многое нужно сделать. – Но из продуктовой лавки он позвонил Чарли и сказал, что хочет продать акции.
– Господи, Перси Клод! Не сейчас! Только не сейчас! Они поднимаются! Акции снова разделят, у тебя будет в два раза больше. На твоем месте я бы ни за что не продавал, я бы покупал новые, нужно распределять капитал. Я уже давно присматриваюсь к «Ротари Ойл».
– Нет, я их, пожалуй, все же продам. Подумываю о том, чтобы выставить на продажу ферму – возможно, мы переедем в Де-Мойн.
– Послушай, если уж переезжать, то в Чикаго. Ты не поверишь, это такой город. Это самый важный город, здесь живут самые большие люди, и отсюда, из самого сердца страны, управляют всем. Восточные миллионеры уже не в вертят этот мир. Эй, ты слушаешь по радио «Банду Рокси»? Вчера вечером был Эл Джолсон[59]. Я тебе скажу, вот это номер.
– Нет. У нас нет этой станции. И все же я буду их продавать.
– Перси Клод, ты себя хоронишь. Вспомнишь мои слова, когда они вырастут выше крыши.
– Я так решил.
– Подумай, как следует подумай, Перси Клод.
Меньше чем через месяц биржа рухнула и покатилась вниз, но Перси Клод лишь посмеивался. Каждый день он ходил к почтовому ящику проверять, не пришел ли чек от Чарли. В конце концов он позвонил из ему продуктовой лавки, намереваясь спросить, послал ли тот чек заказным письмом, но на другом конце провода никто не ответил, лишь зудели гудки, снова и снова, до тех пор, пока не подключился оператор и не велел ему повесить трубку. Новость дошла кружным путем только к середине октября: дочь Лотца получила письмо от Шарпов из Техаса. Чарли Шарп, потеряв в Чикаго все, что имел, включая доставшиеся в наследство Перси Клоду акции «Радио», которые он так и не продал, выстрелил себе в голову. Он выжил, но разнес нос, рот, зубы и нижнюю челюсть – на ободранном мясе остались только два безумных голубых глаза. Смотреть без ужаса на него невозможно, так что они привезли его в Техас и держат в полутемной комнате. Он не может говорить, а кормят его через трубку.
– Знаешь, Перси Клод, – по телефону сказала Рона Шарп после того, как подтвердила, что все так и есть, да, это, конечно, очень печально и даже трагично, но ведь есть и светлая сторона, ведь теперь Чарли обратился к Иисусу, ведь ясно видна связь, правда? – Здесь дают бесплатно целый ящик помидоров, когда заливаешь машину бензином. Вам обязательно нужно сюда переехать.
Не обращаясь к посредникам, Перси Клод продал ферму какой-то паре из Огайо, но их банк рухнул до того, как он успел получить по чеку деньги. У пары остались в руках документы, а у него – бесполезный чек. Теперь он был беднее, чем Бетль сорок лет назад.
– Я поеду в Техас и убью Чарли Шарпа, – сказал он Грини. Но вместо этого они отправились в Де-Мойн, где после трехнедельных поисков Грини нашла работу в «Пять-на-Десять»[60], а он подписал контракт с дорожностроительной бригадой Коммерческой кредитной ассоциации.
(Но не их ли сын Роули, рожденный несколько лет спустя на заднем сиденье машины, собрал по кускам дедову ферму, добавил к ней три тысячи акров пашен, построил поле для гольфа, стал хозяином механической мастерской, плиточной и кульвертной фабрик, а еще вошел на паях во владение сырным производством, получая одновременно двадцать тысяч в год из фонда государственной дотации фермерам? Не тот ли самый Роули открыл на свои деньги музей пионеров-фермеров Прэнка, перерыл землю и небо, нанял частных детективов, чтобы найти старый зеленый аккордеон своего деда? И не продолжались ли эти поиски осенью 1985 года, когда Роули с женой Эвелин отправились в честь двадцать пятой годовщины свадьбы в парк Йеллоустоун, где Роули уронил пленку от фотоаппарата в гейзерный бассейн «Западный палец», наклонился за ней, потерял равновесие и упал головой в кипящий ключ, но, несмотря на обваренные до полной слепоты глаза и знание о неминуемой смерти, все же выбрался – оставив на каменном бордюре, словно красные перчатки, кожу своих рук – однако, лишь для того, чтобы тут же упасть в другой, еще более горячий источник? А как же иначе.)
– Ты знаешь, Vater Ганс оставил кое-какие акции. Он занимался биржей через Чарли, Чарли Шарпа. Там немало.
– Сколько? – Она поднесла спичку к сигарете и выпустила дымок через напудренные ноздри.
– Да немало. – Ему не нравились курящие женщины, но он ничего ей не говорил. Волосы у нее были подстрижены – обрублены, думал он, – густые прямые пряди резко обрезаны самых у мочек. И, похоже, она что-то сделала с грудью, стала какой-то плоской.
– А что если бросить эту чертову ферму и переехать Де-Мойн? Какой смысл торчать здесь? Я так давно мечтаю о Де-Мойне.
– Только не надо повторять за этой ненормальной Флэминг Мэйм. Ты совсем не думаешь о Mutti [58].
– Ей понравится в городе – там много пожилых дам, всегда есть чем заняться, будет ходить в кино, научится играть в маджонг. Покрасит волосы, приоденется немного. Господи, Перси Клод, скажи, ну пожалуйста, мы переедем в Де-Мойн? Я так устала от этого старого корыта, так надоело чистить эти вонючие керосиновые лампы. Во всем Прэнке без электричества только мы.
– Я не говорю «да» и не говорю «нет». Очень многое нужно сделать. – Но из продуктовой лавки он позвонил Чарли и сказал, что хочет продать акции.
– Господи, Перси Клод! Не сейчас! Только не сейчас! Они поднимаются! Акции снова разделят, у тебя будет в два раза больше. На твоем месте я бы ни за что не продавал, я бы покупал новые, нужно распределять капитал. Я уже давно присматриваюсь к «Ротари Ойл».
– Нет, я их, пожалуй, все же продам. Подумываю о том, чтобы выставить на продажу ферму – возможно, мы переедем в Де-Мойн.
– Послушай, если уж переезжать, то в Чикаго. Ты не поверишь, это такой город. Это самый важный город, здесь живут самые большие люди, и отсюда, из самого сердца страны, управляют всем. Восточные миллионеры уже не в вертят этот мир. Эй, ты слушаешь по радио «Банду Рокси»? Вчера вечером был Эл Джолсон[59]. Я тебе скажу, вот это номер.
– Нет. У нас нет этой станции. И все же я буду их продавать.
– Перси Клод, ты себя хоронишь. Вспомнишь мои слова, когда они вырастут выше крыши.
– Я так решил.
– Подумай, как следует подумай, Перси Клод.
Меньше чем через месяц биржа рухнула и покатилась вниз, но Перси Клод лишь посмеивался. Каждый день он ходил к почтовому ящику проверять, не пришел ли чек от Чарли. В конце концов он позвонил из ему продуктовой лавки, намереваясь спросить, послал ли тот чек заказным письмом, но на другом конце провода никто не ответил, лишь зудели гудки, снова и снова, до тех пор, пока не подключился оператор и не велел ему повесить трубку. Новость дошла кружным путем только к середине октября: дочь Лотца получила письмо от Шарпов из Техаса. Чарли Шарп, потеряв в Чикаго все, что имел, включая доставшиеся в наследство Перси Клоду акции «Радио», которые он так и не продал, выстрелил себе в голову. Он выжил, но разнес нос, рот, зубы и нижнюю челюсть – на ободранном мясе остались только два безумных голубых глаза. Смотреть без ужаса на него невозможно, так что они привезли его в Техас и держат в полутемной комнате. Он не может говорить, а кормят его через трубку.
– Знаешь, Перси Клод, – по телефону сказала Рона Шарп после того, как подтвердила, что все так и есть, да, это, конечно, очень печально и даже трагично, но ведь есть и светлая сторона, ведь теперь Чарли обратился к Иисусу, ведь ясно видна связь, правда? – Здесь дают бесплатно целый ящик помидоров, когда заливаешь машину бензином. Вам обязательно нужно сюда переехать.
Не обращаясь к посредникам, Перси Клод продал ферму какой-то паре из Огайо, но их банк рухнул до того, как он успел получить по чеку деньги. У пары остались в руках документы, а у него – бесполезный чек. Теперь он был беднее, чем Бетль сорок лет назад.
– Я поеду в Техас и убью Чарли Шарпа, – сказал он Грини. Но вместо этого они отправились в Де-Мойн, где после трехнедельных поисков Грини нашла работу в «Пять-на-Десять»[60], а он подписал контракт с дорожностроительной бригадой Коммерческой кредитной ассоциации.
(Но не их ли сын Роули, рожденный несколько лет спустя на заднем сиденье машины, собрал по кускам дедову ферму, добавил к ней три тысячи акров пашен, построил поле для гольфа, стал хозяином механической мастерской, плиточной и кульвертной фабрик, а еще вошел на паях во владение сырным производством, получая одновременно двадцать тысяч в год из фонда государственной дотации фермерам? Не тот ли самый Роули открыл на свои деньги музей пионеров-фермеров Прэнка, перерыл землю и небо, нанял частных детективов, чтобы найти старый зеленый аккордеон своего деда? И не продолжались ли эти поиски осенью 1985 года, когда Роули с женой Эвелин отправились в честь двадцать пятой годовщины свадьбы в парк Йеллоустоун, где Роули уронил пленку от фотоаппарата в гейзерный бассейн «Западный палец», наклонился за ней, потерял равновесие и упал головой в кипящий ключ, но, несмотря на обваренные до полной слепоты глаза и знание о неминуемой смерти, все же выбрался – оставив на каменном бордюре, словно красные перчатки, кожу своих рук – однако, лишь для того, чтобы тут же упасть в другой, еще более горячий источник? А как же иначе.)
КУСАЙ МЕНЯ, ПАУК
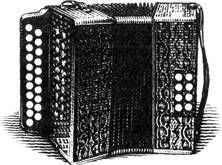
Маленький однорядный аккордеон
И не смотри на меня так
Великий аккордеонист, а по совместительству уборщик посуды Абелардо Релампаго Салазас – это он в Хорнете, Техас, майским утром 1946 года, перевернувшись незадолго после восхода солнца в собственной кровати, вдруг почувствовал, что умирает, а, может, и умер уже. (Несколько лет спустя, когда он действительно умирал в той же самой кровати, он ощущал себя поразительно живым.) Чувство было не сказать чтобы неприятным, но с оттенком сожаления. Сквозь ресницы он видел кроватные шарики из чистого золота, а в окне – трепетное прозрачное крыло. Его омывала небесная музыка и голос, чистый и умиротворяющий, – голос, которого он не слыхал ни разу, пока был жив.
Прислушавшись, он вернулся к жизни и сообразил, что кроватный шарик позолотило солнце, а крыло ангела было всего лишь развевающейся занавеской. Музыку играл его аккордеон, но не четырехрегистровый двухрядный «Маджестик» с инициалами АР на белом перламутре, а другой, особенный, маленький девятнадцатикнопочный двухрядный аккордеон с очень редким голосом. К которому никому, кроме него, не позволено прикасаться! И все же он лежал и слушал – несмотря на протестующие позывы переполненного мочевого пузыря и разгоравшийся жар нового дня. Голос принадлежал его почти взрослой долговязой дочери – голос, которого он никогда не слышал, если не считать басовитого жужжания, что издавала эта замарашка, бродя по дому. Он был уверен, что девчонка умеет играть разве что нескольких элементарных аккордов, хотя вот уже четырнадцать лет она была его дочерью, и сто раз у него на глазах забавлялась с маленьким «Лидо» своих братьев. Когда ему узнавать детей, если он почти не бывает дома? Сыновья, да – они музыканты. Он злился еще и от того, что именно дочь вдруг оказалась исключением. Этот удивительный голос, исходивший из самого верха носоглотки, печальный и вибрирующий, словно вобрал боль всего мира. Он вспомнил старшего сына, Кресченсио, бедного покойного Ченчо, начисто лишенного музыкального слуха и похожего на робкого пса, что боится сделать шаг вперед. Какая потеря! Должно быть, дьявол, а не Бог послал в его сон эту музыку. Тот самый дьявол, что вот уже целый век водит за нос людей, пряча в труднодоступных местах ископаемые кости. Абелардо злился еще и потому, что девчонка терзала главное сокровище его жизни.
Не вставая с кровати, он прокричал:
– Фелида! А ну иди сюда! – и прикрыл голову подушкой, чтобы дочь не видела его растрепанных волос. Громкое шебуршание и выдох аккордеона. Она вошла в комнату и остановилась, отвернув лицо в сторону. Руки пусты.
– Где зеленый аккордеон?
– В футляре. В передней.
– Чтобы ты никогда больше к нему не прикасалась. Не смей даже открывать футляр. Ты слышишь меня?
– Да. – Она сердито повернулась и, сгорбившись, ушла в кухню.
– И не смотри на меня так! – прокричал он.
Он думал о дочери. Как хорошо она пела! Он слушал ее, но и не слышал. М-да, но когда она научилась играть? Вне всякого сомнения, глядя и слушая его игру, она восхищается своим отцом. А что если устроить сенсацию, взять ее с собой на выступление, представить им свою дочь, пусть видят, как щедро одарил Господь всех его детей – кроме Чинчо, конечно. Но даже когда он воображал себе эту прелестную картинку: себя в темных брюках и пиджаке, в белой рубашке и белых туфлях, и Фелиду в роскошном отороченном кружевами платье, которое Адина шила сейчас для девочки на quinceñera[61] – ay, сколько же оно будет стоить! – и как Фелида выступает вперед и поет своим изумительным голосом – куда там Лидии Мендосе[62] – вот вам новая gloria de Tejas [63], даже тогда будущее упрямо корчилось у темной боковой дорожки, на глухой тропе событий.
Мимо проехал автобус, наполнив комнату гулом, словно эхом от взорвавшейся канализации. Абелардо встал, закурил сигарету, поморщился от боли в правом бедре и, скосив глаза, откинул назад волосы. Как это у него получается – целый день мотаться взад-вперед на работе, а потом еще полночи играть? Не считая обычных дел с agringada [64] женой. Мало кто вынесет такую жизнь, думал он. По крайней мере, с таким мужеством.
Однако он был уже на ногах, и, как всегда в это время, в голове звучала музыка – грустноватая неровная полька, похожая на «La Bella Italiana»[65] в исполнении Бруно Вилларела[66]. Всю жизнь он наслаждался своей внутренней музыкой – иногда это были несколько фраз из никому неизвестного ranchera [67] или вальса, иногда разыгранная нота за нотой huapango [68] или полька, которую он играл сам или слышал, как играют другие. Время от времени возникали совсем незнакомые мелодии, новые никогда не звучавшие пьесы – внутренний музыкант работал всю ночь, пока Абелардо спал.
У двери, на небольшом трюмо лежали приспособления, с помощью которых он тщательно укладывал длинные пряди волос, стараясь замаскировать лысеющую макушку. На затылке и висках волосы были очень длинными, и сейчас, ранним утром, отражение в зеркале напоминало покрытого паршой античного пророка. Он расчесал локоны деревянным гребнем, искусно расположил на голове каждую прядь и закрепил ее для надежности заколкой. Возня с прической неплохо успокоила нервы, и он запел: «Не ты ли это, моя луна, проходишь мимо дверей…» Его целью была пышная шевелюра, но посторонние люди, взглянув на эту высокую прическу, иногда – на секунду – принимали его за женщину. А незнакомцы попадались ему часто, поскольку он работал в ресторане «Сизый голубь» – не официантом, а всего лишь уборщиком посуды. «Сизый голубь» располагался в Буги – городке чуть южнее Хорнета, где раньше стоял старый дом Релампаго, и где они когда-то жили. Сейчас он сидел за кухонным столом, слушал звяканье кастрюль, Фелида подогревала молоко для его любимого caf con leche[69], Бобби Труп тянул по радио припев «66-го тракта»[70], потом комментатор с заговорил о забастовке шахтеров и федеральных войсках, что-то еще про коммунистов, все те же старые песни – Абелардо вздохнул с облегчением, когда Фелида выключила приемник. Нужно торопиться.
Он был невысок, на мясистом лице выдавалась челюсть. Маленькие глубокие глазки, темно-русые брови изогнуты дугой (он приглаживал их чуть смоченным слюной пальцем), а над ними, словно панель, высокий лоб цвета фруктового дерева. Короткая шея уничтожала всякую надежду на элегантность. Руки у него были толстыми и мускулистыми, чтобы лучше, как он говорил, сжимать аккордеон, а кисти заканчивались сильными, но тонкими пальцами, умевшими двигаться очень быстро. Не слишком стройный торс, короткие тяжелые ноги, так же густо заросшие волосами, как и грудь. Тяжелый – это слово приходило на ум Адине при взгляде на его обнаженные бедра.
Прислушавшись, он вернулся к жизни и сообразил, что кроватный шарик позолотило солнце, а крыло ангела было всего лишь развевающейся занавеской. Музыку играл его аккордеон, но не четырехрегистровый двухрядный «Маджестик» с инициалами АР на белом перламутре, а другой, особенный, маленький девятнадцатикнопочный двухрядный аккордеон с очень редким голосом. К которому никому, кроме него, не позволено прикасаться! И все же он лежал и слушал – несмотря на протестующие позывы переполненного мочевого пузыря и разгоравшийся жар нового дня. Голос принадлежал его почти взрослой долговязой дочери – голос, которого он никогда не слышал, если не считать басовитого жужжания, что издавала эта замарашка, бродя по дому. Он был уверен, что девчонка умеет играть разве что нескольких элементарных аккордов, хотя вот уже четырнадцать лет она была его дочерью, и сто раз у него на глазах забавлялась с маленьким «Лидо» своих братьев. Когда ему узнавать детей, если он почти не бывает дома? Сыновья, да – они музыканты. Он злился еще и от того, что именно дочь вдруг оказалась исключением. Этот удивительный голос, исходивший из самого верха носоглотки, печальный и вибрирующий, словно вобрал боль всего мира. Он вспомнил старшего сына, Кресченсио, бедного покойного Ченчо, начисто лишенного музыкального слуха и похожего на робкого пса, что боится сделать шаг вперед. Какая потеря! Должно быть, дьявол, а не Бог послал в его сон эту музыку. Тот самый дьявол, что вот уже целый век водит за нос людей, пряча в труднодоступных местах ископаемые кости. Абелардо злился еще и потому, что девчонка терзала главное сокровище его жизни.
Не вставая с кровати, он прокричал:
– Фелида! А ну иди сюда! – и прикрыл голову подушкой, чтобы дочь не видела его растрепанных волос. Громкое шебуршание и выдох аккордеона. Она вошла в комнату и остановилась, отвернув лицо в сторону. Руки пусты.
– Где зеленый аккордеон?
– В футляре. В передней.
– Чтобы ты никогда больше к нему не прикасалась. Не смей даже открывать футляр. Ты слышишь меня?
– Да. – Она сердито повернулась и, сгорбившись, ушла в кухню.
– И не смотри на меня так! – прокричал он.
Он думал о дочери. Как хорошо она пела! Он слушал ее, но и не слышал. М-да, но когда она научилась играть? Вне всякого сомнения, глядя и слушая его игру, она восхищается своим отцом. А что если устроить сенсацию, взять ее с собой на выступление, представить им свою дочь, пусть видят, как щедро одарил Господь всех его детей – кроме Чинчо, конечно. Но даже когда он воображал себе эту прелестную картинку: себя в темных брюках и пиджаке, в белой рубашке и белых туфлях, и Фелиду в роскошном отороченном кружевами платье, которое Адина шила сейчас для девочки на quinceñera[61] – ay, сколько же оно будет стоить! – и как Фелида выступает вперед и поет своим изумительным голосом – куда там Лидии Мендосе[62] – вот вам новая gloria de Tejas [63], даже тогда будущее упрямо корчилось у темной боковой дорожки, на глухой тропе событий.
Мимо проехал автобус, наполнив комнату гулом, словно эхом от взорвавшейся канализации. Абелардо встал, закурил сигарету, поморщился от боли в правом бедре и, скосив глаза, откинул назад волосы. Как это у него получается – целый день мотаться взад-вперед на работе, а потом еще полночи играть? Не считая обычных дел с agringada [64] женой. Мало кто вынесет такую жизнь, думал он. По крайней мере, с таким мужеством.
Однако он был уже на ногах, и, как всегда в это время, в голове звучала музыка – грустноватая неровная полька, похожая на «La Bella Italiana»[65] в исполнении Бруно Вилларела[66]. Всю жизнь он наслаждался своей внутренней музыкой – иногда это были несколько фраз из никому неизвестного ranchera [67] или вальса, иногда разыгранная нота за нотой huapango [68] или полька, которую он играл сам или слышал, как играют другие. Время от времени возникали совсем незнакомые мелодии, новые никогда не звучавшие пьесы – внутренний музыкант работал всю ночь, пока Абелардо спал.
У двери, на небольшом трюмо лежали приспособления, с помощью которых он тщательно укладывал длинные пряди волос, стараясь замаскировать лысеющую макушку. На затылке и висках волосы были очень длинными, и сейчас, ранним утром, отражение в зеркале напоминало покрытого паршой античного пророка. Он расчесал локоны деревянным гребнем, искусно расположил на голове каждую прядь и закрепил ее для надежности заколкой. Возня с прической неплохо успокоила нервы, и он запел: «Не ты ли это, моя луна, проходишь мимо дверей…» Его целью была пышная шевелюра, но посторонние люди, взглянув на эту высокую прическу, иногда – на секунду – принимали его за женщину. А незнакомцы попадались ему часто, поскольку он работал в ресторане «Сизый голубь» – не официантом, а всего лишь уборщиком посуды. «Сизый голубь» располагался в Буги – городке чуть южнее Хорнета, где раньше стоял старый дом Релампаго, и где они когда-то жили. Сейчас он сидел за кухонным столом, слушал звяканье кастрюль, Фелида подогревала молоко для его любимого caf con leche[69], Бобби Труп тянул по радио припев «66-го тракта»[70], потом комментатор с заговорил о забастовке шахтеров и федеральных войсках, что-то еще про коммунистов, все те же старые песни – Абелардо вздохнул с облегчением, когда Фелида выключила приемник. Нужно торопиться.
Он был невысок, на мясистом лице выдавалась челюсть. Маленькие глубокие глазки, темно-русые брови изогнуты дугой (он приглаживал их чуть смоченным слюной пальцем), а над ними, словно панель, высокий лоб цвета фруктового дерева. Короткая шея уничтожала всякую надежду на элегантность. Руки у него были толстыми и мускулистыми, чтобы лучше, как он говорил, сжимать аккордеон, а кисти заканчивались сильными, но тонкими пальцами, умевшими двигаться очень быстро. Не слишком стройный торс, короткие тяжелые ноги, так же густо заросшие волосами, как и грудь. Тяжелый – это слово приходило на ум Адине при взгляде на его обнаженные бедра.
