Страница:
— Кто там?
— Я, — сказал Славушка.
— А кто ты?
— А у нас штаб стоит, — нашелся Славушка.
Один из солдат узнал его.
— Этот тот пацан, что ходил с подполковником.
Славушка сделал несколько шагов, его не остановили. Он пошел по дорожке к почте, нигде никого, но едва вступил на аллею, как навстречу попалась Сонечка Тархова, она не узнала Славушку или сделала вид, что не узнала, и пропала, показалась какая-то парочка и скрылась в кустах, мелькнул еще кто-то, вот тебе и война, ушли красные, пришли белые, а парочки гуляют и при тех, и при других, ночной променад в аллее не прекращается.
Черт с ними, с этими парочками! Славушка сворачивает к реке. Как хрустят ветки! Не следует обнаруживать свое присутствие, хотя подумать могут только, что он подражает взрослым парням.
На реке темно, хоть луна и выглядывает из-за облаков. Перебегает запруду. Вот и лужайка…
Пиить-пить-пить! Пиить-пить-пить! Свисти, свисти, все равно никого… Пить-пить… Ой!
— Почему так поздно? Я уж хотел уходить.
— Откуда вы, Степан Кузьмич? Я ведь просто так пошел, на всякий случай, не думал вас найти…
— Как не думал? Я велел Терешкину передать, чтоб ты как-нибудь вырвался.
— Даже не видел его.
— Что у вас?
Славушка докладывает — штаб, Шишмарев, отдает взятые приказы.
— Молодец, — хвалит Быстров. — Завтра сюда опять, только пораньше, под вечер, меньше подозрений.
— А увидят?
— Ну и пусть, пошел гулять. — Быстров крепко, по-мужски, пожимает ему руку. — А теперь спать, спать, беги!
— Я, — сказал Славушка.
— А кто ты?
— А у нас штаб стоит, — нашелся Славушка.
Один из солдат узнал его.
— Этот тот пацан, что ходил с подполковником.
Славушка сделал несколько шагов, его не остановили. Он пошел по дорожке к почте, нигде никого, но едва вступил на аллею, как навстречу попалась Сонечка Тархова, она не узнала Славушку или сделала вид, что не узнала, и пропала, показалась какая-то парочка и скрылась в кустах, мелькнул еще кто-то, вот тебе и война, ушли красные, пришли белые, а парочки гуляют и при тех, и при других, ночной променад в аллее не прекращается.
Черт с ними, с этими парочками! Славушка сворачивает к реке. Как хрустят ветки! Не следует обнаруживать свое присутствие, хотя подумать могут только, что он подражает взрослым парням.
На реке темно, хоть луна и выглядывает из-за облаков. Перебегает запруду. Вот и лужайка…
Пиить-пить-пить! Пиить-пить-пить! Свисти, свисти, все равно никого… Пить-пить… Ой!
— Почему так поздно? Я уж хотел уходить.
— Откуда вы, Степан Кузьмич? Я ведь просто так пошел, на всякий случай, не думал вас найти…
— Как не думал? Я велел Терешкину передать, чтоб ты как-нибудь вырвался.
— Даже не видел его.
— Что у вас?
Славушка докладывает — штаб, Шишмарев, отдает взятые приказы.
— Молодец, — хвалит Быстров. — Завтра сюда опять, только пораньше, под вечер, меньше подозрений.
— А увидят?
— Ну и пусть, пошел гулять. — Быстров крепко, по-мужски, пожимает ему руку. — А теперь спать, спать, беги!
23
За стенкой спорят…
— Можно?
— Входи, входи…
На мальчика не обращают внимания. Астров сидит у машинки. Ряжский у телефона. Филодендрон задвинут в угол, загораживает киот. Шишмарев стоит у стола, а на столе, на краешке стола, сидит еще один офицер. Они-то и спорят.
Славушка довольно скоро разбирается в предмете спора. Тот, что на столе, настаивает собрать волостной сход, выбрать волостного старшину. Армия уйдет вперед, надо восстановить старые институты. Деникин, как известно, несет свободу и демократию, пороть будем потом, поэтому никого не надо назначать, пусть мужики сами выберут себе начальство, мы не позволим выбрать кого не надо, не надо откладывать выборы.
А подполковник возражает:
— Ротмистр, нам не до выборов… — Ага, значит, тот, что на столе, ротмистр. — Поверьте, Кияшко, армию не следует отвлекать гражданскими делами. Да и кто гарантирует, Илья Ильич, что не выберут большевика?
Значит, тот, что на столе, ротмистр Кияшко Илья Ильич. Но… если он ротмистр, почему он сидит перед подполковником?
И как он хохочет, этот Кияшко, как самоуверенно и нагло. Кто же ты такой, Кияшко, если можешь хохотать прямо в лицо подполковнику?
— Мы выберем большевика?! Да я все уже здесь знаю, знаю, кто и чем дышит, у здешнего попа восемь дочерей, так я знаю, какая с кем… — закончить фразу он не успел.
— Ротмистр, вы забываетесь! — Кияшко моментально соскакивает со стола. Шишмарев не орет, шипит: — За стеной женщина, дети. Я попрошу…
— Извините, господин подполковник!
— Можете быть свободны, господин ротмистр.
— А вот свободным быть не могу, выборы придется провести, я собрал кое-какие данные, политический настрой населения вполне удовлетворительный, выберут того, кого им укажут, к завтрему подготовим кандидатуру, я прошу вас не игнорировать политические задачи движения, не заставляйте меня звонить генералу Жиженко.
Шишмарев смотрит на Кияшко, как на скорпиона. Почему скорпиона? Так кажется Славушке.
— Черт с вами, ротмистр. Созывайте сход. Но мне там делать нечего.
Кияшко смеется еще веселее:
— И мне. Сход проведет само население…
Они уходят. Шишмарев делает какие-то знаки Ряжскому — мол, я скоро вернусь, — ему, должно быть, не хочется уходить, но хочется увести Кияшко.
— Кто это? — спрашивает мальчик Астрова.
— Недремлющее око, — фальцетом произносит Ряжский.
— А генерал Жиженко?
— Контрразведка, — на этот раз обычным своим голосом бросает Ряжский. — И вообще, мальчик, об этих людях лучше не говорить.
— А чем он командует? — Славушка кивает в сторону двери, давая понять, что вопрос относится к Кияшко.
— Гм… — Ряжский не сразу находится. — Мыслями. И при этом не своими. Твоими, моими, вот его…
Астров мотает головой, желая показать, что у него нет мыслей.
Славушка задумывается — будет сход или не будет, об этом следует передать Быстрову.
Он все время толчется поблизости от штаба, там идет своя жизнь, о войне, кажется, никто не помышляет, — сапоги, лошади, машинное масло, хлеб, хлеб, бинты и спирт, гвозди, зачем-то мел, кто-то требует мела, — зачем армии мел? — рапорты, ведомости, реестры, вот что в обиходе действующей армии.
К обеду является Терешкин:
— Виктор Владимирович просит всех, кто в драматическом кружке, собраться после обеда в Нардоме.
Неужели он собирается угощать деникинцев спектаклем?
В Нардоме оживленно, весь кружок в сборе, сестры Тарховы, почтмейстерша, Терешкин, все переростки и недоростки, но особенно оживлен Андриевский, он в сером люстриновом пиджачке и лимонных фланелевых брюках, снует туда-сюда, поднимает у всех настроение.
— Юному санкюлоту, — приветствует он Славушку.
Славушка подозрительно осматривается, — никаких Кияшко, вообще никаких посторонних, в конце концов необязательно скучать даже при деникинцах.
— Па-а-прашу на сцену.
Андриевский за режиссерским столиком.
— Га-а-спада… — Все-таки «гаспада», а не «товарищи», впрочем, он всегда избегал этого слова. — Командование армии обратилось к местной интеллигенции с просьбой помочь провести выборы волостного старшины…
Все-таки не послушался Быстрова!
— Завтра здесь соберутся земледельцы со всей волости, надо провести собрание поимпозантнее, прошу не уронить себя…
С какой бы охотой Славушка «уронил» Андриевского!
— Мы украсим зал. Речь, очевидно, придется произнести мне. Затем спектакль…
— А выборы?
— То есть выборы, а затем спектакль.
Прямо с репетиции Славушка отправляется на облюбованную лужайку, докладывает Быстрову о предстоящих выборах.
— Отлично, — говорит тот. — Ключи от Нардома при тебе? Давай их сюда. И никаких самостоятельных действий.
Вечером Кияшко сидел у полевого телефона, звонил по батальонам, приказывал пошевелить мужичков, поторопить с утра…
Он все интересовался, кто в Успенском самый авторитетный человек, выходило — Иван Фомич Никитин.
— О! — сказал Андриевский. — Мужик и дослужился до статского советника.
Кияшко сам отправился в школу.
— Чем могу служить?
— Пардон… — Статский советник вызывал антипатию. — Обращаюсь к вам от имени русской добровольческой армии. Не могли бы вы выступить завтра с речью?
— У меня ларингит, — сказал статский советник. — И, кроме того, я решительный сторонник отделения школы от государства.
— Как? — удивился Кияшко.
— Школы от государства, — повторил Иван Фомич. — И вообще я за олигархию.
— За что? — недоумевая все больше, спросил Кияшко.
— За воссоединение церквей, — строго сказал Иван Фомич. — Римско-католической и православной.
— Ыхм, — невнятно промычал Кияшко.
Он так и не понял, издевается статский советник или у него в самом деле зашел ум за разум, иначе с чего бы понесло статского советника в деревню вместе с революцией. Во всяком случае, спокойнее отказаться от его услуг, он еще и перед мужиками понесет бог знает что!
Кияшко остановился на Андриевском. Трезвый человек и услужливый. Он даже посоветовался с ним, кого выбрать волостным старшиной.
Тот рекомендовал Устинова. По мнению Андриевского, не стоило обращать внимания на то, что он был председателем сельсовета, мужик хитрый, уважаемый, умеет ладить со всякой властью, но по своему достатку ему с большевиками не по пути.
Кто-то шепнул Кияшко, что в исполкоме спрятано некое «сокровище»: в марте 1917 года портрет императора и самодержца Николая II, украшавший резиденцию волостного старшины, забросили на чердак, вдруг еще пригодится, смотрели как в воду, он и пригодился за неимением портрета более реального Деникина.
Кияшко отрядил Гарбузу на чердак с приказанием «найти и доставить», и тот — «рад стараться, вашескородие» — нашел и доставил.
Андриевский и Кияшко решили устроить нечто вроде открытия памятника, подвесили портрет к колосникам и опустили перед ним задник, который и вознесется в должный момент.
Программу разработали во всех подробностях: сперва молебен, потом открытие «памятника», затем речь и затем уже избрание старшины с соблюдением всех демократических традиций.
По распоряжению Андриевского Тихон, он же Рябов, Рябой, бывший батрак Пенечкиных, а ныне член их сельскохозяйственной коммуны, весь вечер лепил из глины шарики, окуная одни в черные чернила, а другие в разведенный мел.
Для молебствия Андриевский пригласил отца Валерия Тархова, но тот решительно отказался: «Там, где лицедействуют, кощунственно призывать имя господне…» Пришлось обратиться к отцу Михаилу. Отец Михаил не отказывался ни от чего, мог и обвенчать без документов, и год рождения в метрике изменить, а тут вообще время приключений…
Вечером Кияшко доложил Шишмареву о подготовке схода, похвастался портретом, как только священник попросит у бога победы над противником, портрет предстанет на всеобщее обозрение…
Все это Славушка намотал себе на ус, задворками добежал до Нардома, и, хотя ключей у него не было, он заприметил раму, у которой шпингалеты плохо входили в пазы.
Отсутствия Славушки никто не заметил, все утро находился у людей на глазах и в Нардоме появился, когда все драмкружковцы были уже в полном сборе.
Мужиков принялись кликать на сход с утра, мужики не шли, спокойнее отсидеться по домам, тогда Кияшко послал по селу солдат комендантского взвода, никого, мол, не неволят, но те, кто не хочет идти, пусть сдадут по овце в котел добровольческой армии.
Из окрестных деревень мужиков негусто, но из Успенского явились все. Овца — это овца.
Зал украшен еловыми ветками, на сцене постамент для ораторов, в глубине задник с мраморной беседкой и кипарисами.
На сцене — Андриевский, на просцениуме — отец Михаил, этому море по колено, а дьячок, несчастный Беневоленский, рад бы не пойти и нельзя не пойти, сегодня отец Михаил у властей в фаворе.
Михаила мужики не уважали, священнослужитель-то он священнослужитель и что молод не грех, но очень уж падок до баб, любит их исповедовать.
Михаил сунулся на мгновение за кулисы, скинул подрясник и тут же появился в рясе, взмахнул крестом, Беневоленский подал кадило, и пошла писать губерния.
Андриевский повел рукой.
— Па-а-прашу…
Но мужики поднялись без команды, не успели еще отвыкнуть молиться.
— Спаси, господи, люди твоя…
Кое-кто привычно перекрестился.
— …и благослови достояние твое…
Торжественная минута.
— …победы благоверному императору нашему…
Император расстрелян в Екатеринбурге с год назад, но символ есть символ…
Вот и сюрприз! Команду подал Кияшко: «Давай, давай!» Терешкин и Лавочкин потянули веревки. Кипарисы вздрогнули, холст закручивается вверх, собранию открывается…
Образ! Благоверного императора нашего Николая Александровича! Красные глаза, длинные зеленые усы, синяя борода и два загнутых фиолетовых рога. Сперва даже непонятно… Что за дерзость!
…императору нашему Николаю Александровичу на супротивныя даруя…
Андриевский величественно смотрит в зал. Мужики улыбаются. Почему улыбаются?
Почему они улыбаются? Смотрят на сцену… И вдруг смешок, еще…
Андриевский оборачивается — боже мой! — и одновременно из-за кулис выбегает Кияшко.
— Опустить! Опустить! — кричит он и машет рукой…
Терешкин отпускает веревку, задник стремительно раскручивается, и снова кипарисы и мраморная беседка.
Отец Михаил и Беневоленский ретируются, на сцене главный священнослужитель на сегодняшний день — ротмистр Кияшко. Вся надежда теперь на Андриевского, один он может спасти положение, произнести речь, обрисовать момент, пробудить патриотизм…
— Перед вами выступит ваш односельчанин Виктор Владимирович Андриевский…
Не послушался Быстрова, приготовил речь — о свободе, о Демократии, о родине, самые роскошные слова подобрал. Итак, внимание…
— Га-спа-да… — И замолкает.
— Гаспада…
Глаза Андриевского не отрываются от кого-то в зале.
Славушка следует по направлению его взгляда…
Да что же это такое? Быстров! Да как он может, что за безрассудство… Но какое великолепное безрассудство!
В эту минуту Славушку вдруг озаряет, кого напоминает Быстров. До чего ж он похож на пушкинского Дубровского!
Степан Кузьмич сидит в глубине зала у раскрытого окна и не сводит взгляда с Андриевского. Так вот они и смотрят друг на друга.
Как хорошо, что Степан Кузьмич не смотрит на Славушку, вряд ли простит он ему зеленые усы и лиловые рога…
— Говорите же, — негромко, но достаточно внушительно командует из-за кулис Кияшко.
Легко ему командовать! А если Андриевский не может…
Никогда еще Виктор Владимирович Андриевский не оказывался в таком ужасном положении. Он пропал! Двум смертям не бывать, одной не миновать, а он очутился между двух смертей, между Быстровым и Кияшко.
— Гаспада…
И захлебнулся. Единственное, что он может сказать: гаспада, я пропал! Но недаром он адвокат: обмякает, оседает и… падает в обморок.
Хватается рукой за сердце и падает, но так, чтоб не очень ушибиться…
— Воды! Воды! — кричит Ниночка Тархова.
Но смотрят все не на Андриевского, а на Быстрова, и Кияшко смотрит со сцены, и кто-то наклоняется из-за кулис и шепотом объясняет, кто это, и Кияшко хватается за кобуру.
Но тут мужиков точно ветер из окна пригибает, а сам Быстров в одно мгновение скрывается в просвете окна.
Кияшко с револьвером в руке бросается к двери. Заперта! Бросается к другой. Заперта! Ринуться через толпу и выпрыгнуть в окно не рискует, боится повернуться к толпе спиной… Кияшко, хоть и не собирался нарушать демократию, на всякий случай припрятал несколько солдат, они выбегают из угловой комнаты, что позади зала, наваливаются на двери, те не поддаются. Шум, суета, только что не паника… Теперь Славушка понимает, зачем понадобились Быстрову ключи. Пока кто-то из солдат вылезает в окно, пока выламывают одну из дверей, Быстрова уже след простыл. Ищи ветра в поле!
Тем временем Андриевский приходит в себя, говорить он решительно не может, однако Кияшко требует провести выборы.
Армия одобрила кандидатуру Устинова, но не может же Кияшко приказать его выбрать, армия за свободное волеизъявление, у самого Кияшко на примете лишь одна эта кандидатура, да и ее он плохо запомнил в лицо…
— Филипп Макарович Устинов? — вопросительным тоном возглашает ротмистр Кияшко. — Попрошу вас сюда!
Филиппу Макаровичу страсть как не хочется вылезать, но и не спрячешься, все смотрят на него, и он не торопясь поднимается на сцену.
— Слушаю, господин начальник.
— Мы тут советовались с народом, есть мнение выбрать вас…
Филипп Макарович пугается, все эти ротмистры, поручики и полковники как пришли, так и уйдут, а со Степаном Кузьмичом жить, пожалуй, еще и жить, лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
— Какой из меня старшина, я и грамоте-то не очень…
— Народ лучше знает!
Филипп Макарович вспоминает, как он с полгода ходил в председателях потребиловки, при ревизии в лавке обнаружилась недостача, совсем незначительная, без лишних разговоров Устинов ее тут же погасил, но сейчас о ней стоит напомнить.
— Да и недостача была у меня… — Нет, не пойдет он в белые старосты, голова дороже почета. — Слаб я, господин офицер…
— Это уж нам решать, справитесь или не справитесь…
— Не поняли вы меня, не на работу слаб, на руку…
Мужики видят, Устинов не рвется в начальники, умеет с людьми ладить, не хотят его приневоливать.
— Правильна! Правильна! — кричат из зала. — Была у него недостача!
Кияшко понимает: нельзя выбрать человека с подмоченной репутацией.
Веселого в этом, собственно, мало, но мужикам весело, тон задал отец Михаил, потом балаган с портретом, обморок Андриевского, на серьезный лад не настроишься.
— А кого бы вы предложили? — обращается Кияшко к собранию.
Выкрикивают несколько фамилий, но что-то никто не стремится к власти, все отказываются, — у одного в печенках боль, у другого в ногах, а у третьего и в ногах и в печенках, надо назвать такого, кто не успеет двух слов связать, покуда его женят.
— Фролова! Фролова!
— Правильна, Кондрат Власьича!
Кондрат Власьич хозяин самостоятельный, ничего не скажешь, но из него даже из пьяного в праздник двух слов не вытянешь, а трезвый да в будни он вообще не открывает рта.
— Кондрат Власьич, просим…
— Просим, просим!
— Да чего там, мужики, подавай за его…
Фролов сбычился, запустил руку в карман штанов, корябает себе бедро, только сивая борода ходит — вверх-вниз, вверх-вниз…
Насилу собрался:
— Граж-дане…
Куда там… Другого слова произнести не успел, как выбрали!
— С тебя магарыч, Кондрат Власьич…
— Да я…
— Ну чего? С тобой покончено, за тобой магарыч…
Мужики и впрямь в хорошем расположении духа, и на сходку сходили, и старшину выбрали, и все мимо, ни против той власти, ни против этой, ни обложениев не взяли на себя никаких, ни даже приветствиев никому никаких не принимали.
Тем временем замки расколупали, и, не успели Фролова выбрать, как тут же все шасть на улицу.
Терешкин орет:
— Граждане! Отцы! Сейчас спектакль будет…
До спектаклев ли тут, скорей по домам, баста, ползут во все стороны, как тараканы, когда на них плеснут кипятком.
Один Кондрат Власьич опомниться не может, не думал, не гадал, во сне не видал себя волостным старшиной, а тут нате, подсудобили мужички.
Все разошлись, даже Кияшко с солдатами, остались одни вьюноши и поповны, заиграли на фисгармонии всякие контрадансы, заведут сейчас танцы, а новоизбранный старшина все в себя не придет.
Побрел наконец, идет себе по аллее в полном одиночестве, такие-то хорошие, такие-то убедительные слова приходят сейчас на ум, выскажи он их, не смогли б не уважить, освободили бы от непосильной ноши, но сказать их некому, и сбросить с себя ничего уже нельзя.
И вдруг чувствует, как опустилась на плечо чья-то рука и дружески его обнимает…
Батюшки, Быстров! Откуда?
А тот наклоняется и так утешительно, так доверительно дает опечаленному старшине совет:
— Ничего, Кондрат Власьич, не теряйся, минует тебя эта напасть, царствуй, как английский король, только ни в коем разе не управляй.
— Можно?
— Входи, входи…
На мальчика не обращают внимания. Астров сидит у машинки. Ряжский у телефона. Филодендрон задвинут в угол, загораживает киот. Шишмарев стоит у стола, а на столе, на краешке стола, сидит еще один офицер. Они-то и спорят.
Славушка довольно скоро разбирается в предмете спора. Тот, что на столе, настаивает собрать волостной сход, выбрать волостного старшину. Армия уйдет вперед, надо восстановить старые институты. Деникин, как известно, несет свободу и демократию, пороть будем потом, поэтому никого не надо назначать, пусть мужики сами выберут себе начальство, мы не позволим выбрать кого не надо, не надо откладывать выборы.
А подполковник возражает:
— Ротмистр, нам не до выборов… — Ага, значит, тот, что на столе, ротмистр. — Поверьте, Кияшко, армию не следует отвлекать гражданскими делами. Да и кто гарантирует, Илья Ильич, что не выберут большевика?
Значит, тот, что на столе, ротмистр Кияшко Илья Ильич. Но… если он ротмистр, почему он сидит перед подполковником?
И как он хохочет, этот Кияшко, как самоуверенно и нагло. Кто же ты такой, Кияшко, если можешь хохотать прямо в лицо подполковнику?
— Мы выберем большевика?! Да я все уже здесь знаю, знаю, кто и чем дышит, у здешнего попа восемь дочерей, так я знаю, какая с кем… — закончить фразу он не успел.
— Ротмистр, вы забываетесь! — Кияшко моментально соскакивает со стола. Шишмарев не орет, шипит: — За стеной женщина, дети. Я попрошу…
— Извините, господин подполковник!
— Можете быть свободны, господин ротмистр.
— А вот свободным быть не могу, выборы придется провести, я собрал кое-какие данные, политический настрой населения вполне удовлетворительный, выберут того, кого им укажут, к завтрему подготовим кандидатуру, я прошу вас не игнорировать политические задачи движения, не заставляйте меня звонить генералу Жиженко.
Шишмарев смотрит на Кияшко, как на скорпиона. Почему скорпиона? Так кажется Славушке.
— Черт с вами, ротмистр. Созывайте сход. Но мне там делать нечего.
Кияшко смеется еще веселее:
— И мне. Сход проведет само население…
Они уходят. Шишмарев делает какие-то знаки Ряжскому — мол, я скоро вернусь, — ему, должно быть, не хочется уходить, но хочется увести Кияшко.
— Кто это? — спрашивает мальчик Астрова.
— Недремлющее око, — фальцетом произносит Ряжский.
— А генерал Жиженко?
— Контрразведка, — на этот раз обычным своим голосом бросает Ряжский. — И вообще, мальчик, об этих людях лучше не говорить.
— А чем он командует? — Славушка кивает в сторону двери, давая понять, что вопрос относится к Кияшко.
— Гм… — Ряжский не сразу находится. — Мыслями. И при этом не своими. Твоими, моими, вот его…
Астров мотает головой, желая показать, что у него нет мыслей.
Славушка задумывается — будет сход или не будет, об этом следует передать Быстрову.
Он все время толчется поблизости от штаба, там идет своя жизнь, о войне, кажется, никто не помышляет, — сапоги, лошади, машинное масло, хлеб, хлеб, бинты и спирт, гвозди, зачем-то мел, кто-то требует мела, — зачем армии мел? — рапорты, ведомости, реестры, вот что в обиходе действующей армии.
К обеду является Терешкин:
— Виктор Владимирович просит всех, кто в драматическом кружке, собраться после обеда в Нардоме.
Неужели он собирается угощать деникинцев спектаклем?
В Нардоме оживленно, весь кружок в сборе, сестры Тарховы, почтмейстерша, Терешкин, все переростки и недоростки, но особенно оживлен Андриевский, он в сером люстриновом пиджачке и лимонных фланелевых брюках, снует туда-сюда, поднимает у всех настроение.
— Юному санкюлоту, — приветствует он Славушку.
Славушка подозрительно осматривается, — никаких Кияшко, вообще никаких посторонних, в конце концов необязательно скучать даже при деникинцах.
— Па-а-прашу на сцену.
Андриевский за режиссерским столиком.
— Га-а-спада… — Все-таки «гаспада», а не «товарищи», впрочем, он всегда избегал этого слова. — Командование армии обратилось к местной интеллигенции с просьбой помочь провести выборы волостного старшины…
Все-таки не послушался Быстрова!
— Завтра здесь соберутся земледельцы со всей волости, надо провести собрание поимпозантнее, прошу не уронить себя…
С какой бы охотой Славушка «уронил» Андриевского!
— Мы украсим зал. Речь, очевидно, придется произнести мне. Затем спектакль…
— А выборы?
— То есть выборы, а затем спектакль.
Прямо с репетиции Славушка отправляется на облюбованную лужайку, докладывает Быстрову о предстоящих выборах.
— Отлично, — говорит тот. — Ключи от Нардома при тебе? Давай их сюда. И никаких самостоятельных действий.
Вечером Кияшко сидел у полевого телефона, звонил по батальонам, приказывал пошевелить мужичков, поторопить с утра…
Он все интересовался, кто в Успенском самый авторитетный человек, выходило — Иван Фомич Никитин.
— О! — сказал Андриевский. — Мужик и дослужился до статского советника.
Кияшко сам отправился в школу.
— Чем могу служить?
— Пардон… — Статский советник вызывал антипатию. — Обращаюсь к вам от имени русской добровольческой армии. Не могли бы вы выступить завтра с речью?
— У меня ларингит, — сказал статский советник. — И, кроме того, я решительный сторонник отделения школы от государства.
— Как? — удивился Кияшко.
— Школы от государства, — повторил Иван Фомич. — И вообще я за олигархию.
— За что? — недоумевая все больше, спросил Кияшко.
— За воссоединение церквей, — строго сказал Иван Фомич. — Римско-католической и православной.
— Ыхм, — невнятно промычал Кияшко.
Он так и не понял, издевается статский советник или у него в самом деле зашел ум за разум, иначе с чего бы понесло статского советника в деревню вместе с революцией. Во всяком случае, спокойнее отказаться от его услуг, он еще и перед мужиками понесет бог знает что!
Кияшко остановился на Андриевском. Трезвый человек и услужливый. Он даже посоветовался с ним, кого выбрать волостным старшиной.
Тот рекомендовал Устинова. По мнению Андриевского, не стоило обращать внимания на то, что он был председателем сельсовета, мужик хитрый, уважаемый, умеет ладить со всякой властью, но по своему достатку ему с большевиками не по пути.
Кто-то шепнул Кияшко, что в исполкоме спрятано некое «сокровище»: в марте 1917 года портрет императора и самодержца Николая II, украшавший резиденцию волостного старшины, забросили на чердак, вдруг еще пригодится, смотрели как в воду, он и пригодился за неимением портрета более реального Деникина.
Кияшко отрядил Гарбузу на чердак с приказанием «найти и доставить», и тот — «рад стараться, вашескородие» — нашел и доставил.
Андриевский и Кияшко решили устроить нечто вроде открытия памятника, подвесили портрет к колосникам и опустили перед ним задник, который и вознесется в должный момент.
Программу разработали во всех подробностях: сперва молебен, потом открытие «памятника», затем речь и затем уже избрание старшины с соблюдением всех демократических традиций.
По распоряжению Андриевского Тихон, он же Рябов, Рябой, бывший батрак Пенечкиных, а ныне член их сельскохозяйственной коммуны, весь вечер лепил из глины шарики, окуная одни в черные чернила, а другие в разведенный мел.
Для молебствия Андриевский пригласил отца Валерия Тархова, но тот решительно отказался: «Там, где лицедействуют, кощунственно призывать имя господне…» Пришлось обратиться к отцу Михаилу. Отец Михаил не отказывался ни от чего, мог и обвенчать без документов, и год рождения в метрике изменить, а тут вообще время приключений…
Вечером Кияшко доложил Шишмареву о подготовке схода, похвастался портретом, как только священник попросит у бога победы над противником, портрет предстанет на всеобщее обозрение…
Все это Славушка намотал себе на ус, задворками добежал до Нардома, и, хотя ключей у него не было, он заприметил раму, у которой шпингалеты плохо входили в пазы.
Отсутствия Славушки никто не заметил, все утро находился у людей на глазах и в Нардоме появился, когда все драмкружковцы были уже в полном сборе.
Мужиков принялись кликать на сход с утра, мужики не шли, спокойнее отсидеться по домам, тогда Кияшко послал по селу солдат комендантского взвода, никого, мол, не неволят, но те, кто не хочет идти, пусть сдадут по овце в котел добровольческой армии.
Из окрестных деревень мужиков негусто, но из Успенского явились все. Овца — это овца.
Зал украшен еловыми ветками, на сцене постамент для ораторов, в глубине задник с мраморной беседкой и кипарисами.
На сцене — Андриевский, на просцениуме — отец Михаил, этому море по колено, а дьячок, несчастный Беневоленский, рад бы не пойти и нельзя не пойти, сегодня отец Михаил у властей в фаворе.
Михаила мужики не уважали, священнослужитель-то он священнослужитель и что молод не грех, но очень уж падок до баб, любит их исповедовать.
Михаил сунулся на мгновение за кулисы, скинул подрясник и тут же появился в рясе, взмахнул крестом, Беневоленский подал кадило, и пошла писать губерния.
Андриевский повел рукой.
— Па-а-прашу…
Но мужики поднялись без команды, не успели еще отвыкнуть молиться.
— Спаси, господи, люди твоя…
Кое-кто привычно перекрестился.
— …и благослови достояние твое…
Торжественная минута.
— …победы благоверному императору нашему…
Император расстрелян в Екатеринбурге с год назад, но символ есть символ…
Вот и сюрприз! Команду подал Кияшко: «Давай, давай!» Терешкин и Лавочкин потянули веревки. Кипарисы вздрогнули, холст закручивается вверх, собранию открывается…
Образ! Благоверного императора нашего Николая Александровича! Красные глаза, длинные зеленые усы, синяя борода и два загнутых фиолетовых рога. Сперва даже непонятно… Что за дерзость!
…императору нашему Николаю Александровичу на супротивныя даруя…
Андриевский величественно смотрит в зал. Мужики улыбаются. Почему улыбаются?
Почему они улыбаются? Смотрят на сцену… И вдруг смешок, еще…
Андриевский оборачивается — боже мой! — и одновременно из-за кулис выбегает Кияшко.
— Опустить! Опустить! — кричит он и машет рукой…
Терешкин отпускает веревку, задник стремительно раскручивается, и снова кипарисы и мраморная беседка.
Отец Михаил и Беневоленский ретируются, на сцене главный священнослужитель на сегодняшний день — ротмистр Кияшко. Вся надежда теперь на Андриевского, один он может спасти положение, произнести речь, обрисовать момент, пробудить патриотизм…
— Перед вами выступит ваш односельчанин Виктор Владимирович Андриевский…
Не послушался Быстрова, приготовил речь — о свободе, о Демократии, о родине, самые роскошные слова подобрал. Итак, внимание…
— Га-спа-да… — И замолкает.
— Гаспада…
Глаза Андриевского не отрываются от кого-то в зале.
Славушка следует по направлению его взгляда…
Да что же это такое? Быстров! Да как он может, что за безрассудство… Но какое великолепное безрассудство!
В эту минуту Славушку вдруг озаряет, кого напоминает Быстров. До чего ж он похож на пушкинского Дубровского!
Степан Кузьмич сидит в глубине зала у раскрытого окна и не сводит взгляда с Андриевского. Так вот они и смотрят друг на друга.
Как хорошо, что Степан Кузьмич не смотрит на Славушку, вряд ли простит он ему зеленые усы и лиловые рога…
— Говорите же, — негромко, но достаточно внушительно командует из-за кулис Кияшко.
Легко ему командовать! А если Андриевский не может…
Никогда еще Виктор Владимирович Андриевский не оказывался в таком ужасном положении. Он пропал! Двум смертям не бывать, одной не миновать, а он очутился между двух смертей, между Быстровым и Кияшко.
— Гаспада…
И захлебнулся. Единственное, что он может сказать: гаспада, я пропал! Но недаром он адвокат: обмякает, оседает и… падает в обморок.
Хватается рукой за сердце и падает, но так, чтоб не очень ушибиться…
— Воды! Воды! — кричит Ниночка Тархова.
Но смотрят все не на Андриевского, а на Быстрова, и Кияшко смотрит со сцены, и кто-то наклоняется из-за кулис и шепотом объясняет, кто это, и Кияшко хватается за кобуру.
Но тут мужиков точно ветер из окна пригибает, а сам Быстров в одно мгновение скрывается в просвете окна.
Кияшко с револьвером в руке бросается к двери. Заперта! Бросается к другой. Заперта! Ринуться через толпу и выпрыгнуть в окно не рискует, боится повернуться к толпе спиной… Кияшко, хоть и не собирался нарушать демократию, на всякий случай припрятал несколько солдат, они выбегают из угловой комнаты, что позади зала, наваливаются на двери, те не поддаются. Шум, суета, только что не паника… Теперь Славушка понимает, зачем понадобились Быстрову ключи. Пока кто-то из солдат вылезает в окно, пока выламывают одну из дверей, Быстрова уже след простыл. Ищи ветра в поле!
Тем временем Андриевский приходит в себя, говорить он решительно не может, однако Кияшко требует провести выборы.
Армия одобрила кандидатуру Устинова, но не может же Кияшко приказать его выбрать, армия за свободное волеизъявление, у самого Кияшко на примете лишь одна эта кандидатура, да и ее он плохо запомнил в лицо…
— Филипп Макарович Устинов? — вопросительным тоном возглашает ротмистр Кияшко. — Попрошу вас сюда!
Филиппу Макаровичу страсть как не хочется вылезать, но и не спрячешься, все смотрят на него, и он не торопясь поднимается на сцену.
— Слушаю, господин начальник.
— Мы тут советовались с народом, есть мнение выбрать вас…
Филипп Макарович пугается, все эти ротмистры, поручики и полковники как пришли, так и уйдут, а со Степаном Кузьмичом жить, пожалуй, еще и жить, лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
— Какой из меня старшина, я и грамоте-то не очень…
— Народ лучше знает!
Филипп Макарович вспоминает, как он с полгода ходил в председателях потребиловки, при ревизии в лавке обнаружилась недостача, совсем незначительная, без лишних разговоров Устинов ее тут же погасил, но сейчас о ней стоит напомнить.
— Да и недостача была у меня… — Нет, не пойдет он в белые старосты, голова дороже почета. — Слаб я, господин офицер…
— Это уж нам решать, справитесь или не справитесь…
— Не поняли вы меня, не на работу слаб, на руку…
Мужики видят, Устинов не рвется в начальники, умеет с людьми ладить, не хотят его приневоливать.
— Правильна! Правильна! — кричат из зала. — Была у него недостача!
Кияшко понимает: нельзя выбрать человека с подмоченной репутацией.
Веселого в этом, собственно, мало, но мужикам весело, тон задал отец Михаил, потом балаган с портретом, обморок Андриевского, на серьезный лад не настроишься.
— А кого бы вы предложили? — обращается Кияшко к собранию.
Выкрикивают несколько фамилий, но что-то никто не стремится к власти, все отказываются, — у одного в печенках боль, у другого в ногах, а у третьего и в ногах и в печенках, надо назвать такого, кто не успеет двух слов связать, покуда его женят.
— Фролова! Фролова!
— Правильна, Кондрат Власьича!
Кондрат Власьич хозяин самостоятельный, ничего не скажешь, но из него даже из пьяного в праздник двух слов не вытянешь, а трезвый да в будни он вообще не открывает рта.
— Кондрат Власьич, просим…
— Просим, просим!
— Да чего там, мужики, подавай за его…
Фролов сбычился, запустил руку в карман штанов, корябает себе бедро, только сивая борода ходит — вверх-вниз, вверх-вниз…
Насилу собрался:
— Граж-дане…
Куда там… Другого слова произнести не успел, как выбрали!
— С тебя магарыч, Кондрат Власьич…
— Да я…
— Ну чего? С тобой покончено, за тобой магарыч…
Мужики и впрямь в хорошем расположении духа, и на сходку сходили, и старшину выбрали, и все мимо, ни против той власти, ни против этой, ни обложениев не взяли на себя никаких, ни даже приветствиев никому никаких не принимали.
Тем временем замки расколупали, и, не успели Фролова выбрать, как тут же все шасть на улицу.
Терешкин орет:
— Граждане! Отцы! Сейчас спектакль будет…
До спектаклев ли тут, скорей по домам, баста, ползут во все стороны, как тараканы, когда на них плеснут кипятком.
Один Кондрат Власьич опомниться не может, не думал, не гадал, во сне не видал себя волостным старшиной, а тут нате, подсудобили мужички.
Все разошлись, даже Кияшко с солдатами, остались одни вьюноши и поповны, заиграли на фисгармонии всякие контрадансы, заведут сейчас танцы, а новоизбранный старшина все в себя не придет.
Побрел наконец, идет себе по аллее в полном одиночестве, такие-то хорошие, такие-то убедительные слова приходят сейчас на ум, выскажи он их, не смогли б не уважить, освободили бы от непосильной ноши, но сказать их некому, и сбросить с себя ничего уже нельзя.
И вдруг чувствует, как опустилась на плечо чья-то рука и дружески его обнимает…
Батюшки, Быстров! Откуда?
А тот наклоняется и так утешительно, так доверительно дает опечаленному старшине совет:
— Ничего, Кондрат Власьич, не теряйся, минует тебя эта напасть, царствуй, как английский король, только ни в коем разе не управляй.
24
Как назойливый петух, отогнанный от куриного стада, он с самого утра покрикивал, с самого утра все кричал:
— Мне нач-чальника! Мне нач-чальника!
Так что даже невозмутимый фельдфебель Жобов и тот не выдержал, вышел на галерейку и заорал:
— Да иди ты, иди отсюда, мать твою перемать, подобру-поздорову…
Но мужичонка не угоманивался:
— Мне нач-чальника!
И таки дозвался начальника.
На заре прискакали два казака из штаба дивизии, с пакетом, «вручить лично и непосредственно командиру полка подполковнику Шишмареву».
Ряжский тут же послал ефрейтора Гарбузу за подполковником: «Доложи, так и так…» И Шишмарев через десять минут пришел в штаб и расписался в получении пакета.
— Прикажите накормить, ваше благородие, — попросил казак, отдав пакет и облегченно вздохнув. — Часок вздремнем и обратно, к вечеру беспременно велено возвратиться.
Шишмарев велел накормить гонцов и пошел в зал читать полученную депешу.
Он сидел у окна, читал, перечитывал, достал из полевой сумки карту, сверился с картой и опять принялся вникать в смысл полученного приказа, когда до него донеслось настойчивое хрипловатое кукареканье: «На-чаль-ни-ка! На-чаль-ни-ка!…»
— Какого черта он там орет? — оторвался от бумаг Шишмарев. — Что нужно?
— Вас требует. Какой-то Кудашкин… — с усмешкой объяснил Ряжский. — Его уже гнали, говорит: «Пока не повидаю начальника, не уйду…»
— О господи… — Шишмарев встал и пошел через сени на галерейку. — Что тебе? Орешь как оглашенный…
— Товарищ высокоблагородие! Как я есть желаю все по порядку…
Славушка только что проснулся, услышал лениво-раздраженный голос Шишмарева и тоже выглянул в галерейку.
Перед Шишмаревым переминался с ноги на ногу лядащий мужичонка в рыжем армячке из домотканого сукна, точно обгрызенного по колено собаками. Славушка видел его как-то, он приходил к Павлу Федоровичу — то ли плуг одолжить, то ли предлагал купить мешок проса.
Ну что понесло этого Захара Кудашкина в белогвардейский штаб, что заставило вызывать и не кого-нибудь, а обязательно самого командира полка?! Нищий мужик из Семичастной, избенка только что не завалится… Славушка окончательно его вспомнил, у него и земли-то хорошо, если была десятина, при Советской власти нарезали ему еще три, дали леса, и вот поди ж ты, целое утро кричал, требовал, добивался, чтобы донести на Советскую власть.
— Быстряк Маруську свою туды-сюды, туды-сюды…
Сперва Шишмарев не понял, с трудом добился от Захара объяснения: Быстряк — это Быстров, Маруська — лошадь Быстрова. Кудашкин видел Быстрова за Семичастной, и не один раз, тот приезжает, уезжает, чего-то вышныривает, и «етто, известно, против властей».
Тут Шишмарев стал слушать внимательнее, принялся расспрашивать, уточнять.
Председатель исполкома Быстров всех помещиков здесь прижал, полный хозяин был волости, думали, что «ен… ев… ив… ивакуировалси», а на самом деле ничего «не ивакуировалси», остался здесь со всей своей бражкой, следит за властями, от него всего жди, а он, Захар Кудашкин, «завсегда за порядок».
Ну, какой порядок нужен Кудашкину? Форменное ничтожество, только при Советской власти голову поднял и пришел ее предавать!
— Ен неспроста шныряет, встречается с кем-то, может, у вас кто сочувствует…
— Где ты видел своего Быстрова?
— В леску, за речкой, пошел жердей наломать…
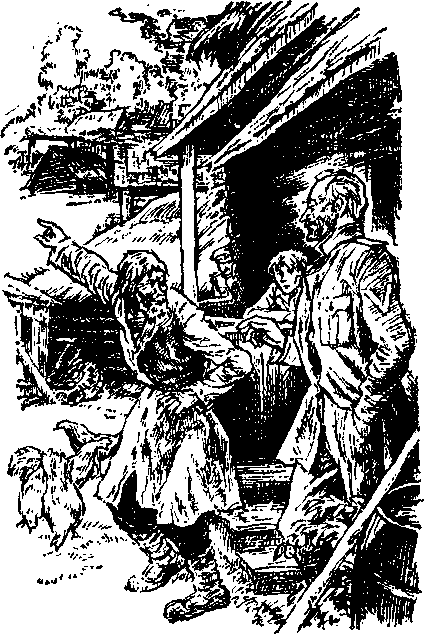 Порубки леса возле Успенского запрещены, за них строго взыскивали, однако сейчас безвременье, и Кудашкин не боялся ни Быстрова, ни Шишмарева.
Порубки леса возле Успенского запрещены, за них строго взыскивали, однако сейчас безвременье, и Кудашкин не боялся ни Быстрова, ни Шишмарева.
— Ен в одно место к вечеру ездиит.
— Покажешь где?
— Хоть сей минут!
Славушка видел, что командир полка встревожен… Неужели Шишмарев придает значение доносу Кудашкина?
— Гарбуза!
Гарбуза уже ел глазами начальство.
— Видишь мужика?
— Отогнать?
— Пойдешь с ним, покажет место, и вечером в секрет. Заберешь всех, кто там встречается. Понятно?
— Так точно.
Шишмарев вернулся в залу, снова принялся изучать приказ.
— Я не мешаю вам? — деликатно осведомляется Славушка.
— Нет, нет…
Шишмареву даже приятно присутствие мальчика, он чуть моложе его сына, интеллигентный мальчик — куда только судьба не забрасывает теперь интеллигентных мальчиков, вместо того чтобы учиться в нормальной гимназии, ходит здесь в какую-то вторую ступень, голод, конечно, разруха, куда они не загонят…
От бумаг Шишмарева отвлекает Ряжский:
— Господин подполковник!
— Что, Михаил Гурьевич?
— На два дня обеспечены выпечкой, в Покровском больничную пекарню приспособили, но… запасы муки…
— Пройдитесь по мельницам.
— Я уже сказал интендантам.
— Отлично.
— А если у кулачков…
— Не дразните крестьян. Вот если начнется отступление…
Шишмарев и Ряжский уходят. Один Астров тюкает на машинке. Тоже собирается въехать в Москву на белом коне с притороченным «ремингтоном». Что заставляет его находиться в деникинской армии? Был писарь и будет писарем. Его и завтракать-то всегда забывают позвать!
Славушка бежит на кухню к Надежде.
— Писарь завтракал?
— А кто его знает!
— Полковник велел накормить.
— Так что не идет?
Славушка возвращается.
— Астров, вас завтракать зовут.
— А если кто придет?
Астрову хочется есть, но он боится оставить канцелярию, и Славушка клянется, что ни на секунду не покинет комнату.
Теперь он один. Перебирает бумаги. Где депеша? В планшете. А планшет на Шишмареве…
Писарь успевает вернуться раньше командира полка. На губах у него крошки картофеля.
— Никто не заходил?
Входит Шишмарев со всей своей свитой. Говорят о фураже. Настроение у всех повышенное, должно быть, достали овса.
— А теперь, — обращается Шишмарев к мальчику, — придется тебе…
Славушка понимает. Но уходит он в соседнюю комнату.
Через стенку многое слышно.
— Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие… — Так или почти так. — Указание из штаба дивизии. Если командование примет решение отойти, двигаться на Малоархангельск, и дальше полевыми дорогами…
Слышно не очень ясно.
— Простите, — перебивает кто-то из офицеров. — Я не понимаю: мы наступаем или отступаем?
— Пока наступаем, но… есть опасение, наступление может захлебнуться. Вряд ли имеется в виду общее отступление. Тактический маневр, с глубоким отходом от Орла, Курска…
— И даже Курска?!
— Попрошу к карте. Пока что мы идем вперед. Но если не удастся взять или обойти Тулу…
— Мне нач-чальника! Мне нач-чальника!
Так что даже невозмутимый фельдфебель Жобов и тот не выдержал, вышел на галерейку и заорал:
— Да иди ты, иди отсюда, мать твою перемать, подобру-поздорову…
Но мужичонка не угоманивался:
— Мне нач-чальника!
И таки дозвался начальника.
На заре прискакали два казака из штаба дивизии, с пакетом, «вручить лично и непосредственно командиру полка подполковнику Шишмареву».
Ряжский тут же послал ефрейтора Гарбузу за подполковником: «Доложи, так и так…» И Шишмарев через десять минут пришел в штаб и расписался в получении пакета.
— Прикажите накормить, ваше благородие, — попросил казак, отдав пакет и облегченно вздохнув. — Часок вздремнем и обратно, к вечеру беспременно велено возвратиться.
Шишмарев велел накормить гонцов и пошел в зал читать полученную депешу.
Он сидел у окна, читал, перечитывал, достал из полевой сумки карту, сверился с картой и опять принялся вникать в смысл полученного приказа, когда до него донеслось настойчивое хрипловатое кукареканье: «На-чаль-ни-ка! На-чаль-ни-ка!…»
— Какого черта он там орет? — оторвался от бумаг Шишмарев. — Что нужно?
— Вас требует. Какой-то Кудашкин… — с усмешкой объяснил Ряжский. — Его уже гнали, говорит: «Пока не повидаю начальника, не уйду…»
— О господи… — Шишмарев встал и пошел через сени на галерейку. — Что тебе? Орешь как оглашенный…
— Товарищ высокоблагородие! Как я есть желаю все по порядку…
Славушка только что проснулся, услышал лениво-раздраженный голос Шишмарева и тоже выглянул в галерейку.
Перед Шишмаревым переминался с ноги на ногу лядащий мужичонка в рыжем армячке из домотканого сукна, точно обгрызенного по колено собаками. Славушка видел его как-то, он приходил к Павлу Федоровичу — то ли плуг одолжить, то ли предлагал купить мешок проса.
Ну что понесло этого Захара Кудашкина в белогвардейский штаб, что заставило вызывать и не кого-нибудь, а обязательно самого командира полка?! Нищий мужик из Семичастной, избенка только что не завалится… Славушка окончательно его вспомнил, у него и земли-то хорошо, если была десятина, при Советской власти нарезали ему еще три, дали леса, и вот поди ж ты, целое утро кричал, требовал, добивался, чтобы донести на Советскую власть.
— Быстряк Маруську свою туды-сюды, туды-сюды…
Сперва Шишмарев не понял, с трудом добился от Захара объяснения: Быстряк — это Быстров, Маруська — лошадь Быстрова. Кудашкин видел Быстрова за Семичастной, и не один раз, тот приезжает, уезжает, чего-то вышныривает, и «етто, известно, против властей».
Тут Шишмарев стал слушать внимательнее, принялся расспрашивать, уточнять.
Председатель исполкома Быстров всех помещиков здесь прижал, полный хозяин был волости, думали, что «ен… ев… ив… ивакуировалси», а на самом деле ничего «не ивакуировалси», остался здесь со всей своей бражкой, следит за властями, от него всего жди, а он, Захар Кудашкин, «завсегда за порядок».
Ну, какой порядок нужен Кудашкину? Форменное ничтожество, только при Советской власти голову поднял и пришел ее предавать!
— Ен неспроста шныряет, встречается с кем-то, может, у вас кто сочувствует…
— Где ты видел своего Быстрова?
— В леску, за речкой, пошел жердей наломать…
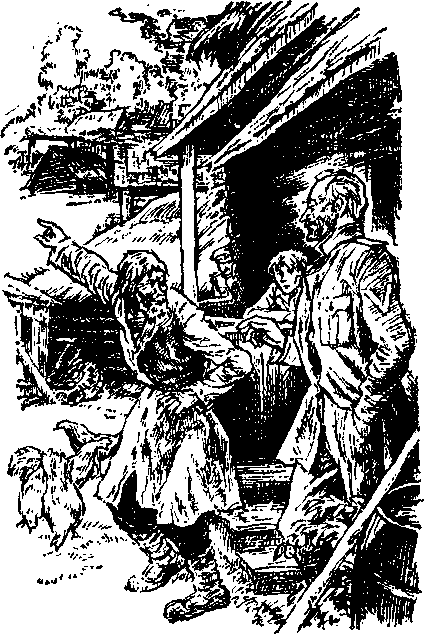
— Ен в одно место к вечеру ездиит.
— Покажешь где?
— Хоть сей минут!
Славушка видел, что командир полка встревожен… Неужели Шишмарев придает значение доносу Кудашкина?
— Гарбуза!
Гарбуза уже ел глазами начальство.
— Видишь мужика?
— Отогнать?
— Пойдешь с ним, покажет место, и вечером в секрет. Заберешь всех, кто там встречается. Понятно?
— Так точно.
Шишмарев вернулся в залу, снова принялся изучать приказ.
— Я не мешаю вам? — деликатно осведомляется Славушка.
— Нет, нет…
Шишмареву даже приятно присутствие мальчика, он чуть моложе его сына, интеллигентный мальчик — куда только судьба не забрасывает теперь интеллигентных мальчиков, вместо того чтобы учиться в нормальной гимназии, ходит здесь в какую-то вторую ступень, голод, конечно, разруха, куда они не загонят…
От бумаг Шишмарева отвлекает Ряжский:
— Господин подполковник!
— Что, Михаил Гурьевич?
— На два дня обеспечены выпечкой, в Покровском больничную пекарню приспособили, но… запасы муки…
— Пройдитесь по мельницам.
— Я уже сказал интендантам.
— Отлично.
— А если у кулачков…
— Не дразните крестьян. Вот если начнется отступление…
Шишмарев и Ряжский уходят. Один Астров тюкает на машинке. Тоже собирается въехать в Москву на белом коне с притороченным «ремингтоном». Что заставляет его находиться в деникинской армии? Был писарь и будет писарем. Его и завтракать-то всегда забывают позвать!
Славушка бежит на кухню к Надежде.
— Писарь завтракал?
— А кто его знает!
— Полковник велел накормить.
— Так что не идет?
Славушка возвращается.
— Астров, вас завтракать зовут.
— А если кто придет?
Астрову хочется есть, но он боится оставить канцелярию, и Славушка клянется, что ни на секунду не покинет комнату.
Теперь он один. Перебирает бумаги. Где депеша? В планшете. А планшет на Шишмареве…
Писарь успевает вернуться раньше командира полка. На губах у него крошки картофеля.
— Никто не заходил?
Входит Шишмарев со всей своей свитой. Говорят о фураже. Настроение у всех повышенное, должно быть, достали овса.
— А теперь, — обращается Шишмарев к мальчику, — придется тебе…
Славушка понимает. Но уходит он в соседнюю комнату.
Через стенку многое слышно.
— Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие… — Так или почти так. — Указание из штаба дивизии. Если командование примет решение отойти, двигаться на Малоархангельск, и дальше полевыми дорогами…
Слышно не очень ясно.
— Простите, — перебивает кто-то из офицеров. — Я не понимаю: мы наступаем или отступаем?
— Пока наступаем, но… есть опасение, наступление может захлебнуться. Вряд ли имеется в виду общее отступление. Тактический маневр, с глубоким отходом от Орла, Курска…
— И даже Курска?!
— Попрошу к карте. Пока что мы идем вперед. Но если не удастся взять или обойти Тулу…
