Страница:
Нагрянет власть, и тот же Быстров, тот же Данилочкин начнут шарить по погребам, по чердакам, по бабьим даже сундукам: где рожь? где рожь? Мужик крестится, божится: да нигде, да нисколько; бабы в плач, в крик, а найдется рожь — креста на вас нету, что дети исть будут?
Быстров был безжалостен, с налета появлялся в деревнях, перелопачивал и полову и солому, находил зерно там, куда никто, кроме него, и не подумал бы заглянуть, все сметал подчистую и гнал подводы на мельницу или на станцию. Он хорошо понимал, как важно поддержать рабочий класс… Диктатура пролетариата! Продотряды редко появлялись в Успенской волости, и в Малоархангельске, и в Орле знали, что не из страха перед начальством выметает Быстров хлеб из своих деревень, что движет им идея, хоть и ненавистен он становится мужикам.
Однако незадолго до весны Быстров отступил от своих правил, и не ради измены делу, которому служил, а именно ради дела; недальновидным начальникам казалось — надо накормить город сегодня, а завтра хоть трава не расти, но Быстров понимал: хлеб нужен и сегодня, и завтра, и послезавтра, нас не будет, а хлеб все равно будет нужен.
Вот он и пошел на нарушение: зерно искал и находил, но никуда не отправлял, а ссыпал в каменные амбары, что покрепче, запирал не на один замок, походя пугая председателей сельсоветов: «Бережешь не хлеб — свою жизнь, не убережешь, едрена палка, прощайся с семьей, осиротишь детей, в трибунал — и к стенке…»
И где бы ни был ссыпан хлеб, нигде не украли ни зернышка, мужики понимали: не для себя прячет Степан Кузьмич хлеб, если в город не отправляет, значит, задумался о севе…
— Надо сеять, — властно сказал Быстров. — Кулаки как-нибудь вывернутся, они похитрее нас, где-нибудь в логах так схоронили зерно, что ни одному дьяволу не найти. Они его, не завозя домой, прямо из своих похоронок на пашню высеют, а вот беднота подобралась, поели все, что могли, им придется помочь.
— Да ведь на сельсоветы плоха надежда, — усмехнулся Данилочкин. — Зерно они до поры до времени схоронили, а как собьют замки да примутся делить, уплывет половина на сторону.
— А я о чем? — Быстров согласно кивнул. — По всем деревням разошлем наших партийных товарищей. Пошлем уполномоченных. Вот списочек… — достал из своей коленкоровой папки разлинованный листок, на котором рукой Дмитрия Фомича написаны фамилии. — Приехать, проверить списки домохозяев, проверить, у кого какой надел; собрать комбед, составить списки бедноты; послушать народ, прикинуть, кому сколько, да предупредить, чтобы не вздумали в квашню…
Он стал называть фамилии уполномоченных:
— Данилочкин — Каменка, Еремеев — Журавец…
— А поменять? — перебил Данилочкин. — Еремеева в Каменку, а меня в Журавец.
— Почему это?
— Так я ж сам из Журавца, всех знаю, там меня никто не проведет.
— Да, может, ты и честно распределишь, а все равно скажут, кусу больше, а шабру меньше…
Быстров заботливо распределил уполномоченных, где поершистей народ, туда и уполномоченных погорластей, а добреньких и мягоньких никуда не послал.
Остались лишь Корсунское с Рогозином, все догадывались, — хотя сам он оттуда, — хочет Степан Кузьмич оставить Корсунское за собой, себе доверяет, для него не существует ни родства, ни кумовства.
— В Корсунское пошлем Ознобишина.
Еремеев даже приподнялся со скамейки.
— Да он еще…
Не договорил — ребенок, но все поняли.
— Да вы что, Степан Кузьмич, — укоризненно сказал Данилочкин. — Знаете, какие там скандальные мужики? Его вокруг пальца обведут…
— Пора привыкать к государственной деятельности, — отрезал Быстров. — Учись плавать на глубоком месте.
И никто не спросил лишь самого Ознобишина, по силам ли ему такое задание, а сам он об этом не задумывался, раз посылают, значит, обязан выполнить.
— Да, вот что еще, — бросил между прочим Быстров. — Дайте ему какое-либо оружие, мало ли что…
Так Ознобишин стал уполномоченным волисполкома по проведению весенней посевной кампании в Корсунском.
При выходе его нагнал Еремеев, протянул револьвер.
— Возьми, пригодится.
— Я не умею стрелять.
— Ну, попужаешь.
— Ленин говорит, в деревне надо действовать убеждением.
И не взял.
Приехал в Корсунское под вечер. Все тонуло в серых сумерках. Туман как осенью после дождя. И перед Ознобишиным все в тумане. Не так-то просто разделить семена, так раздать, чтоб комар носу не подточил, жалоб все равно будет много.
Слава и устал, и намерзся за дорогу. Не хотелось браться за дела с вечера, хорошо бы выспаться сначала.
Подводу отпустил. Без труда нашел избу Жильцова, помнил ее по прошлым наездам, — хитроватый председатель сельсовета в Корсунском, и начальству угодит, и с мужиками не рассорится.
В избе парно. Жильцов, босой, сидит у печи, жена Кильцова строчит на швейной машинке.
— Товарищу Ознобишину!
— К вам, Савелий Тихонович.
— По части молодежи аль в школу?
Чтоб не поднимать суеты заранее, Слава уклонился от ответа.
— Дела завтра с утра, а сегодня квартиру бы дня на три.
— Сей минут.
Обулся в валенки, к ночи еще подмораживало, повел Славу по селу.
— К Сапоговым, что ли? Нет, лучше к Васютиным.
Кирпичный дом под железом на четыре окна.
— К кулакам ведешь?
— Не к беднякам же, им самим есть нечего. А Васютины десятерых прокормят.
По всему уезду было в обычае ставить приезжее начальство на квартиру к тем, кто побогаче, — и начальству сытно, и кулаку обидно, Ознобишин не возражал, Васютиных лишний едок не разорит.
В избе чисто, светло, стол выскоблен добела, в горнице фикусы.
— Гостя к тебе привез, Лукьяныч.
Васютины в сборе — и хозяин с хозяйкой и все их девки.
— Милости просим.
Хозяин пожимает гостю руку, и гость, чтобы не обидеть, сам протягивает руку хозяйке, та обтирает ладонь об юбку, здоровается с гостем.
— Уж обеспечьте, — просит Жильцов. — Человек сурьезный, без дела не пожалует.
— А с каким делом? — вот что интересует и Жильцова и Васютина… С каким? Нажимать или просвещать? Усовещать или карать…
— Да с нашим превеликим удовольствием!
Васютин само радушие.
— Так я пойду?
— Будь спокоен, Савелий Тихонович.
Жильцов уходит. Васютин только взглянул на девок, и те ушли.
— Чичас соберем ужин.
— Нет, нет, — Слава отказывается. — Я сыт, разве стакан молока.
Наседать на начальство тоже нельзя, перебор хуже недобора.
Перед гостем ставят махотку с молоком, достают из стола початый каравай хлеба, нарезают толстыми ломтями.
Ах, что за блаженство свежий ржаной хлеб! Давно Слава не ел такого. Не хлеб, а пряник!
А хозяйка тем временем стелет ему на лавке постель.
— Мы уж вас, извините, здесь уложим, в горнице прохладно. В горнице девки переспят, а мы с хозяином на печи…
Пуховик на лавку, на пуховик — простыню, сверху стеганое одеяло.
Тушат свет. Слава раздевается, накрывается одеялом. Не спится: то ли мешает шепоток хозяев на печке, то ли томят завтрашние заботы… Семена, семена! Глаза разгорятся у всех, а давать придется самым бессловесным… За стеной ветерок. Страшновато ночью в поле. В доме тоже какие-то шорохи. Мыши? Тараканы?… Тараканов Ознобишин не приметил. Черти?… Черти и есть, завтра он всех чертей выпустит!
Просыпается на рассвете, но хозяева уже встали.
— Доброе утро.
— Рукомойник в сенях.
Подают ручник из тончайшего домотканого полотна.
— Завтракать…
— А сами?
— Мы позавтракали.
Как же это он так заспался?
Сейчас бы картошечки с молочком да с хлебцем…
Но тут не вмешаешься. Садись и не чинись, угощайся тем, что дадут, а хозяйка расстаралась: на одной тарелке блины, на другой тарелке блины, гора блинов, а к ним и маслице топленое, и сметанка, и творожок, и лучок поджаренный, и шкварки свиные…
— Куда мне столько?
— Кушайте, кушайте.
Сам Васютин деликатно присел на краешек лавки, спросит о том, спросит о сем, и между прочим:
— Хлеб искать будете?
— Наоборот.
Васютин не понимает, но успокаивается, не за хлебом — и то ладно, значит, спокойно можно отсеяться.
Тут дверь хлоп, хлоп — Сосняков.
— Здоров…
Не поймешь кому — хозяевам, Ознобишину? Мало приветлив Иван Сосняков. Он человек дела.
— Ты чего с вечера не зашел?
Это уже прямой упрек Ознобишину.
А Слава самому себе не признается, всякий раз он рад отложить встречу с Иваном.
В ответ пошутил:
— Утро вечера мудренее.
Его собеседник суров.
— Для дураков и лентяев.
— Может, позавтракаешь со мной?
Ответа Слава не дождался.
Но надо видеть Соснякова! Углы губ опущены, глаза прищурены, ноздри подрагивают… Полное презрение!
— Собирайся, пойдем.
Славушка отодвинул тарелку. Не до блинов! Накинул полушубок, заторопился.
— Кулацкими блинами угощаешься?
И ведь прав Сосняков. Приезжее начальство останавливается у кулаков, это вроде контрибуции, и все-таки лучше подальше от этих блинов.
Сосняков не собирается тратить время попусту:
— Зачем приехал?
— Посевная. Семена раздавать.
Сосняков удивлен:
— Тебя послали уполномоченным?
— Прежде всего я собирался обратиться к тебе, Иван. Зерна мало, есть решение снабдить бедняков и поддержать кое-кого из середняков. Ты ведь всех здесь знаешь. Надо бы списочек составить, а то уплывет зерно…
— А чего составлять? — хитрая улыбочка шевельнула узкие губы Соснякова. — У меня все на учете. Знаю, у кого хлеб спрятан. Уполномоченные не столько ищут, сколько речи говорят!
Дом князей Корсунских снаружи изменился мало, но внутри уже все выглядит иначе, занятия идут полным ходом, гостиные и спальни переоборудованы в классы, из-за дверей несется гул голосов, можно подумать, что в этом доме всегда помещалась школа.
— Комсомольская ячейка теперь тоже здесь, — Сосняков пытливо смотрит на Ознобишина. — Кстати, ты на бильярде умеешь играть?
Слава пожал плечами:
— Не приходилось…
Для комсомольской ячейки Сосняков приспособил бывшую бильярдную, но бильярдный стол оставили, только сдвинули к стене.
Ознобишину теперь понятно, почему он заинтересовался бильярдом.
— Я тоже еще не умею, — сказал Сосняков. — А говорят, полезная игра. Развивает глазомер, меткость. Нам бы инструктора сюда, обязали бы всех комсомольцев учиться.
Ознобишин не стал спорить.
— Давай свои списки.
Две школьные тетрадки исписаны каллиграфическим почерком. Все село на учете. «Бедняки. Середняки мал. Середняки кр. Кулаки». «Мал» — маломощные, «кр» — крепкие. Бухгалтерия!
Тут появился Жильцов, держится рукой за рыжую бороду, заискивающе заглядывает Ознобишину в глаза.
— Вы к нам от волисполкома, Вячеслав Николаевич? Семена делить?
Откуда ему известно? Слава сказал об этом одному Соснякову.
— Ключи от амбара при тебе, Савелий Тихонович?
— В Совете.
— Пошли за ключами.
Амбар на двух замках, ключ от одного в волисполкоме, от другого в сельсовете.
Такая мера предосторожности, изобретение Данилочкина, обеспечивает полный контроль.
— По хозяйствам делить будете или как?
— По классовому принципу, Савелий Тихонович, — беднякам и маломощным середнякам.
— А остальным?
— А остальные вывернутся. Пошарят у себя по сусекам.
Зашли за ключами в сельсовет, там мужиков полным-полно, притихли, молчат, слух о приезде уполномоченного обошел уже все село.
— Семена делить?
— Семена.
— А кому?
Кто-то подал голос:
— Кому есть нечего, тем и дадут, сожрут, а сеять как бог даст.
Жильцов подал ключи, списки домохозяев.
Ознобишин решил прихватить с собой еще двух-трех мужиков.
— Кому, мужики, доверяете? Хочу пройти по домам. Называйте.
— Селиверстыча.
— Васютина Павла Григорьевича.
— Не возражаете, мужики?
— А когда хлеб делить?
— Пожалуй, завтра с утра…
Ознобишин — от дома к дому, Сосняков от него ни на шаг, Жильцов и двое доверенных чуть позади.
Поднимались на крыльцо, заходили в избу, здоровались, — Ознобишин пытливо вглядывался в хозяев, в детей.
— Савелий Тихонович, как тут?
— Пуда четыре наскребут.
Одним глазом в список Жильцова, другим в тетрадь Соснякова. Сосняков безошибочно определил достаток каждой семьи, его классовый подход строг, но справедлив.
В богатые избы заходили мимоходом, да и владельцы их не слишком, видно, рассчитывали на помощь со стороны, посев в этих хозяйствах обеспечивали хитроумно укрытые от чужих глаз мешки с отборным зерном.
Вот и еще одна такая богатая изба, кирпичная, под железом, с крыльцом, украшенным деревянной резьбой.
— Борщевы. Самое что ни на есть кулачье, — небрежно поясняет Сосняков. — О самом хозяине ни слуху ни духу, с деникинцами ушел…
К Борщевым Ознобишин зашел ради проформы.
Хозяйка упирается в стол тонкими пальцами, за юбку держится девчушка лет семи, а позади еще трое погодков.
Ознобишина поразил землисто-белый цвет их лиц широко раскрытые глаза, бескровные губы.
Взглянул на Соснякова.
— Чего это они такие?
— Какие?
— Точно голодные.
— А они и есть голодные. В начале зимы продармейцы у них все подчистую выгребли. Сидели на картошке, да и той, должно, не осталось.
Ознобишин задумался.
— Сеяться будете? — спросил Борщеву.
— Если люди помогут…
Не сказала — прошелестела губами.
Сосняков потянул Ознобишина за рукав.
— Здесь делать нечего, пошли.
И с таким же голодным отупением столкнулись еще в одной избе, на этот раз темной, тесной и нищей, нищета в ней сквозила из всех щелей.
— Этим тоже помогать не будем, — сказал Сосняков.
— А этим почему?
— Их отец ушел с белыми.
— А этот с чего? Здесь-то беднота?
— Беднота-то беднота, а переметнулся к классовому врагу.
— От бедности и переметнулся, — пояснил Жильцов. — Так и сказал, уходя: глаза бы мои на эту нищету не глядели.
— Пойдем, пойдем, — заторопился Сосняков.
Ознобишин всматривался в голодные детские глаза.
— Как фамилия?
— Филатовы.
Комиссия, как вскоре их стали называть в селе, — Ознобишин, Сосняков, Жильцов и понятые, — обошли все дворы.
К вечеру обход закончили.
— Собирай, Иван, ребят, — распорядился Ознобишин. — Овсянина, Плехова… Словом, всех. На всю ночь. Пусть стерегут амбар. Не ровен час, разграбят еще ночью.
— Правильно, — подтвердил Жильцов. — Береженого бог бережет.
Комсомольцев собрали, вооружили чем пришлось: дробовиками, пистолетом, найденным в усадьбе и сохраняемым для спектаклей.
— Смотрите в оба, чуть что — за мной, — предупредил Ознобишин и невесело усмехнулся. — А я сосну. Завтра мне воевать и воевать.
Он расставил караул, наказал ходить греться по очереди и ушел с Сосняковым в село.
В окнах вспыхивали огни. Звенела где-то бадья, булькала в темноте наступающая весна.
— Ты куда? — спросил Сосняков. — К Васютиным опять?
— А куда ж еще?
— Пойдем ко мне, картошки хватит.
— Где там хватит, — безжалостно отказался Ознобишин. — У вас каждая картофелина на счету. Ничего, не объем я ваших кулаков.
У Васютиных и тепло и сытно, но Ознобишин не очень-то к ним стремился, позови его кто другой из комсомольцев, он охотно пошел бы, но идти к Соснякову не хотелось, очень уж агрессивен.
Васютины ждали своего постояльца. Ужин на столе, постель постлана, а разговорами хозяева его не обременяли.
Слава наскоро похлебал щей, даже не забелил сметаной, отодвинул поджарку.
— Спасибо, сыт.
Почему-то стыдно было есть это мясо, когда Сосняков сидит небось сейчас у себя дома и макает в соль холодные скользкие картофелины.
Погасили лампы, разделись, но никто не спит, все сдерживают дыхание, притворяются спящими.
«Надо было остаться с ребятами караулить амбар, — подумал Слава и тут же сам с собой не согласился, — завтра будет денек ой-ой какой, завтра мне достанется, дай бог продержаться». И грустно ему было почему-то, людям надо сеять, как можно осиротить землю, всем это на пользу, а семян нет даже у тех, у кого они припрятаны, с семенами негусто, и кому-то надо дать, а это — дать и не дать — в воле Ознобишина: волисполком его уполномочил, ну а сам он себя? Поди разберись, где справедливость. Ивану легче, он во всем придерживается своих списков. Составил их раз и навсегда, кому положено, тому положено, а кому не положено, тому никогда и никакими силами не сдвинуть его с занятой позиции. В общем-то Сосняков прав, живет по законам классовой борьбы… Что-то звякнуло за окном, льдинка, должно быть, сорвалась. Как там ребята у амбара? Трудно предположить, что кто-нибудь позарится на общественный амбар, и все-таки спокойнее, что ребята присматривают за амбаром.
Он заспался, заспался… Нет, хозяева еще спят. За окном еще темно. Оделся, тихо вышел во двор, на улицу. Какая-то женщина несет ведра на коромысле. Откуда-то пробивается белесый свет. Прошел мимо церкви. Не так давно еще в ней венчали, крестили и хоронили князей Корсунских. Где они? Алешку застрелили, а княгини уехали.
На площади, за церковью, амбар. Недавно еще принадлежал здешнему лавочнику, а теперь общественный амбар граждан села Корсунского. Есть в селе и бедняки, и батраки, вконец обнищавшие крестьяне, и есть богачи, которые держат батраков, и сегодня этим нищим будет дано полное предпочтение. Ознобишин, полноправный представитель Советской власти, отдаст им предпочтение перед теми, у кого и хлеб, и скот.
По дороге встретились Левочкин и Плехов.
— Все спокойно? — Ознобишин позвенел в кармане ключами. — Сбегайте кто-нибудь за Жильцовым.
Село точно только и ждало этой команды — Жильцов еще не пришел, как площадь заполнилась народом. Пришли и старые и малые, мужики и бабы, старики и старухи, набежали ребятишки, только самые маленькие остались сидеть по избам.
Ох, до чего ж многолика деревня! И самое опасное, что пришли все. Слухи о том, что семена будут давать одним беднякам, еще накануне прошли по деревне, богатым мужикам нечего делать на площади, и, однако, тоже пришли.
Неспокойно на душе у товарища Ознобишина, но назвался груздем, полезай в кузов.
— Бочку, что ли, какую подкатите…
Из ближнего двора выкатили телегу, поставили перед амбаром.
Взобрался товарищ Ознобишин на телегу, осмотрелся.
— Товарищи… — даже как-то неудобно называть этих мужиков и баб товарищами, по возрасту он им в сыновья годится. Но не отцами же их называть полномочному представителю Советской власти. — Я уполномочен волостным исполкомом произвести у вас раздачу семян. Заранее предупреждаю: семян мало, выдавать будем только самым маломощным. Тем, у кого, по нашим сведениям, имеется возможность засеять свой клин из своих запасов, тем рассчитывать на помощь от государства не приходится. Поэтому, товарищи зажиточные хозяева… — не называть же кулаков кулаками? — вам можно разойтись!
На свою голову сказал — по толпе прокатился крик:
— Чего там, дели, поглядеть хотим на вашу справедливость!
Ознобишин предупреждающе поднял руку.
— Не торопитесь. Хотите стоять — стойте, к амбару все равно не подпустим. Отпускать будем по списку, каждому в свой мешок, а сперва проверим, взвесим, не много ли сгрызли мыши…
Подозвал комсомольцев, поставил перед дверями.
— Савелий Тихонович! — подал ему ключи. — Открывай.
Пахнуло пылью, мукой и будто вправду мышами.
— Человек четырех сюда…
Подвинули весы к дверям.
— Ну, давайте. Сколько должно быть, Савелий Тихонович?
Жильцов извлек из кармана засаленную тетрадь, заглянул в свои записи.
Рожь — восемьсот двадцать четыре пуда, овса — шестьсот одиннадцать, проса — четыреста…
— Подай-ка свои списочки!
Со списками Соснякова Ознобишин не расстается, вчера во время обхода он кое-что исправил, но совсем незначительно, эти списки и легли в основу при распределении.
Ознобишин повернулся к Соснякову, впрочем, тот не отходил от Ознобишина, никому не доверял, даже Ознобишину, боялся, как бы от его глаз не ускользнула хоть горсть зерна.
— Давай прикинем…
Нельзя никого обидеть, и нельзя не обидеть, обиженные будут, но пусть никто не упрекнет, не заподозрит представителя власти в пристрастии.
Ознобишин встал на приступок амбара.
— Тише!
Но можно и не взывать к тишине. Тишина воцарилась мгновенно, как только Ознобишин вышел из амбара, — хлеб-от не шутка, кому подфартит, тот обеспечен, посеет без хлопот, а кому-то искать, добывать еще…
— Зерно в целости, но на всех все равно не хватит. Мы тут прикинули. Выдаем безлошадным, беднякам и малоимущим. На женщин и детей по пуду…
— А мужики — умойся и оботрись?
— Мужики при детях!
— Значит, мужик уже не человек?
— Не хватит иначе, не хватит, мужики перебьются.
— Я предупреждаю: кто вздумает перемолоть семена на муку, или, упаси бог, продать, будем судить, наперед говорю, милости тогда от Советской власти не ждите. Да и не враги же вы себе…
Тишина.
— Мешки у всех при себе?
Тишина.
— Начнем, значит… Афонина… Афонина Татьяна, подходи. Пять пудов ржи и три овса!
Женщина в красном полушалке сделала шаг вперед, а Второй шаг сделала вся толпа, все разом, толкаясь и бранясь, кинулись в беспорядке к амбару.
На мгновение, всего лишь на одно мгновение замер Ознобишин: сметут! И ничто не остановит мужиков… Вот когда он пожалел, что не взял у Еремеева револьвер. Он не сумеет противостоять натиску, его сметут, и ничего от него не останется.
Еще секунда, и одичавшая толпа ворвется в амбар.
— Стойте! — закричал Ознобишин противным, визгливым, пронзительным голосом, вырвавшимся откуда-то из глубины, каким он еще никогда не кричал в жизни. — Еще шаг — и я выстрелю!
В левой руке у него список, а правая в кармане полушубка, у него мерзли пальцы, и он пытался согреть хотя бы одну руку, но поняли его иначе, в кармане оттопыривались варежки, а сгоряча что не померещится людям.
— Мужики! — крикнул кто-то в толпе. — Он чичас стрелит!
Кто-то споткнулся и будто рывком остановил всю толпу.
Парень в кавалерийской шинели выскочил вперед, выпятился перед телегой, на которой стоял Ознобишин, и принялся раздирать у себя на груди рубаху.
— Ну, стреляй, стреляй…
Вероятно, Слава чувствовал нечто подобное тому, что чувствовал Шабунин, когда с винтовкой в руках бежал по кронштадтскому льду.
Он вытащил руку из кармана.
— Больно ты мне нужен, — с презрением сказал Слава. — Не для тебя назначена твоя пуля.
Парень посмотрел на уполномоченного, шмыгнул носом и пошел прочь.
— Кто еще? — спросил Ознобишин, чувствуя прилив лихорадочной отваги. — Кто еще попытается?
Но пытаться не хотелось больше уже никому, и все, точно по команде, отступили на несколько шагов от амбара.
Ознобишин мотнул головой в сторону Соснякова:
— Выдавай, Иван. Афонина Татьяна. Пять пудов ржи и три овса.
На этот раз никто не помешал женщине в красном полушалке оттащить мешки с зерном от дверей.
Ознобишин выкликал фамилию, Сосняков вместе с другими ребятами отвешивал зерно, и мужик, потому что зерно все-таки получали мужики, поспешно оттаскивал мешок от амбара и спешил уйти со своим пайком восвояси.
Ознобишин не спешил, а Сосняков тем более, он взвешивал зерно с аптекарской точностью.
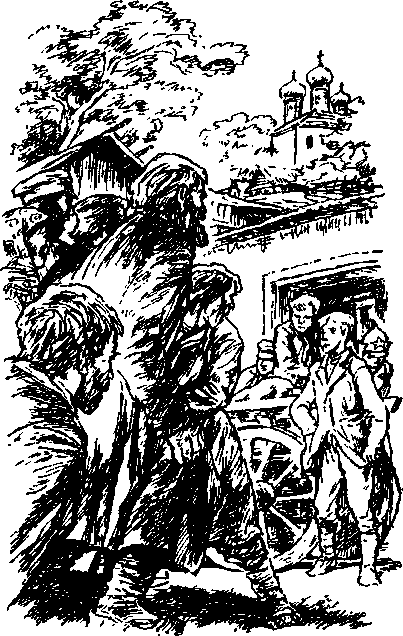 Миновал полдень — никто не расходился, Жильцов напомнил Ознобишину — «а пообедать?» — но тот только отмахнулся.
Миновал полдень — никто не расходился, Жильцов напомнил Ознобишину — «а пообедать?» — но тот только отмахнулся.
После того как Ознобишин отогнал ринувшуюся к амбару толпу, никто не мешал раздаче, иногда возникал мелкий спор и тут же гас, придраться было не к чему, запасы зерна подходили к концу, и Ознобишину оставалось все меньше и меньше времени для осуществления принятого им решения.
— Борщева! Анна! — подчеркнуто громко выкрикнул Ознобишин.
Никому и в голову не приходило, что могут вызвать Борщеву, она сама не поверила, что ее выкликнул уполномоченный.
Ознобишин повторил:
— Борщева Анна!…
Ее толкнули в спину.
— Тебя!
— Да она ж кулачка!
— Была, да вся вышла, и она и дети еле на ногах стоят.
— Борщева Анна!
Неуверенными шагами подошла Борщева к телеге.
Но одновременно из амбара выбежал Сосняков и подскочил к Ознобишину.
— Ты что? Ее же нет в списках!
— Есть. Я внес.
— Да ведь это же кулацкая… кулацкая семья! Ее муж к белым ушел…
— А дети с голоду мрут.
— Не наша забота.
— Наша.
— Кулаков растить будем?
— А мы не будем растить их кулаками.
— Нарушаешь классовую линию?
Ознобишин соскочил с телеги и подтолкнул Борщеву к амбару.
— Ну? Чего стоишь? Иди получай.
Сам пошел за ней в амбар, смотрел, как отсыпают ей зерно.
Сосняков стоял у двери и саркастически наблюдал за Ознобишиным.
— Теперь остается только еще вызвать Филатову!
— А ты не ошибся, тоже внесена мной в список.
Он опять взобрался на свою трибуну:
— Филатова!
Но Филатовой на площади не было, она просто не пришла, после того, как ее муж ушел с деникинцами, она не могла надеяться ни на какую помощь.
Быстров был безжалостен, с налета появлялся в деревнях, перелопачивал и полову и солому, находил зерно там, куда никто, кроме него, и не подумал бы заглянуть, все сметал подчистую и гнал подводы на мельницу или на станцию. Он хорошо понимал, как важно поддержать рабочий класс… Диктатура пролетариата! Продотряды редко появлялись в Успенской волости, и в Малоархангельске, и в Орле знали, что не из страха перед начальством выметает Быстров хлеб из своих деревень, что движет им идея, хоть и ненавистен он становится мужикам.
Однако незадолго до весны Быстров отступил от своих правил, и не ради измены делу, которому служил, а именно ради дела; недальновидным начальникам казалось — надо накормить город сегодня, а завтра хоть трава не расти, но Быстров понимал: хлеб нужен и сегодня, и завтра, и послезавтра, нас не будет, а хлеб все равно будет нужен.
Вот он и пошел на нарушение: зерно искал и находил, но никуда не отправлял, а ссыпал в каменные амбары, что покрепче, запирал не на один замок, походя пугая председателей сельсоветов: «Бережешь не хлеб — свою жизнь, не убережешь, едрена палка, прощайся с семьей, осиротишь детей, в трибунал — и к стенке…»
И где бы ни был ссыпан хлеб, нигде не украли ни зернышка, мужики понимали: не для себя прячет Степан Кузьмич хлеб, если в город не отправляет, значит, задумался о севе…
— Надо сеять, — властно сказал Быстров. — Кулаки как-нибудь вывернутся, они похитрее нас, где-нибудь в логах так схоронили зерно, что ни одному дьяволу не найти. Они его, не завозя домой, прямо из своих похоронок на пашню высеют, а вот беднота подобралась, поели все, что могли, им придется помочь.
— Да ведь на сельсоветы плоха надежда, — усмехнулся Данилочкин. — Зерно они до поры до времени схоронили, а как собьют замки да примутся делить, уплывет половина на сторону.
— А я о чем? — Быстров согласно кивнул. — По всем деревням разошлем наших партийных товарищей. Пошлем уполномоченных. Вот списочек… — достал из своей коленкоровой папки разлинованный листок, на котором рукой Дмитрия Фомича написаны фамилии. — Приехать, проверить списки домохозяев, проверить, у кого какой надел; собрать комбед, составить списки бедноты; послушать народ, прикинуть, кому сколько, да предупредить, чтобы не вздумали в квашню…
Он стал называть фамилии уполномоченных:
— Данилочкин — Каменка, Еремеев — Журавец…
— А поменять? — перебил Данилочкин. — Еремеева в Каменку, а меня в Журавец.
— Почему это?
— Так я ж сам из Журавца, всех знаю, там меня никто не проведет.
— Да, может, ты и честно распределишь, а все равно скажут, кусу больше, а шабру меньше…
Быстров заботливо распределил уполномоченных, где поершистей народ, туда и уполномоченных погорластей, а добреньких и мягоньких никуда не послал.
Остались лишь Корсунское с Рогозином, все догадывались, — хотя сам он оттуда, — хочет Степан Кузьмич оставить Корсунское за собой, себе доверяет, для него не существует ни родства, ни кумовства.
— В Корсунское пошлем Ознобишина.
Еремеев даже приподнялся со скамейки.
— Да он еще…
Не договорил — ребенок, но все поняли.
— Да вы что, Степан Кузьмич, — укоризненно сказал Данилочкин. — Знаете, какие там скандальные мужики? Его вокруг пальца обведут…
— Пора привыкать к государственной деятельности, — отрезал Быстров. — Учись плавать на глубоком месте.
И никто не спросил лишь самого Ознобишина, по силам ли ему такое задание, а сам он об этом не задумывался, раз посылают, значит, обязан выполнить.
— Да, вот что еще, — бросил между прочим Быстров. — Дайте ему какое-либо оружие, мало ли что…
Так Ознобишин стал уполномоченным волисполкома по проведению весенней посевной кампании в Корсунском.
При выходе его нагнал Еремеев, протянул револьвер.
— Возьми, пригодится.
— Я не умею стрелять.
— Ну, попужаешь.
— Ленин говорит, в деревне надо действовать убеждением.
И не взял.
Приехал в Корсунское под вечер. Все тонуло в серых сумерках. Туман как осенью после дождя. И перед Ознобишиным все в тумане. Не так-то просто разделить семена, так раздать, чтоб комар носу не подточил, жалоб все равно будет много.
Слава и устал, и намерзся за дорогу. Не хотелось браться за дела с вечера, хорошо бы выспаться сначала.
Подводу отпустил. Без труда нашел избу Жильцова, помнил ее по прошлым наездам, — хитроватый председатель сельсовета в Корсунском, и начальству угодит, и с мужиками не рассорится.
В избе парно. Жильцов, босой, сидит у печи, жена Кильцова строчит на швейной машинке.
— Товарищу Ознобишину!
— К вам, Савелий Тихонович.
— По части молодежи аль в школу?
Чтоб не поднимать суеты заранее, Слава уклонился от ответа.
— Дела завтра с утра, а сегодня квартиру бы дня на три.
— Сей минут.
Обулся в валенки, к ночи еще подмораживало, повел Славу по селу.
— К Сапоговым, что ли? Нет, лучше к Васютиным.
Кирпичный дом под железом на четыре окна.
— К кулакам ведешь?
— Не к беднякам же, им самим есть нечего. А Васютины десятерых прокормят.
По всему уезду было в обычае ставить приезжее начальство на квартиру к тем, кто побогаче, — и начальству сытно, и кулаку обидно, Ознобишин не возражал, Васютиных лишний едок не разорит.
В избе чисто, светло, стол выскоблен добела, в горнице фикусы.
— Гостя к тебе привез, Лукьяныч.
Васютины в сборе — и хозяин с хозяйкой и все их девки.
— Милости просим.
Хозяин пожимает гостю руку, и гость, чтобы не обидеть, сам протягивает руку хозяйке, та обтирает ладонь об юбку, здоровается с гостем.
— Уж обеспечьте, — просит Жильцов. — Человек сурьезный, без дела не пожалует.
— А с каким делом? — вот что интересует и Жильцова и Васютина… С каким? Нажимать или просвещать? Усовещать или карать…
— Да с нашим превеликим удовольствием!
Васютин само радушие.
— Так я пойду?
— Будь спокоен, Савелий Тихонович.
Жильцов уходит. Васютин только взглянул на девок, и те ушли.
— Чичас соберем ужин.
— Нет, нет, — Слава отказывается. — Я сыт, разве стакан молока.
Наседать на начальство тоже нельзя, перебор хуже недобора.
Перед гостем ставят махотку с молоком, достают из стола початый каравай хлеба, нарезают толстыми ломтями.
Ах, что за блаженство свежий ржаной хлеб! Давно Слава не ел такого. Не хлеб, а пряник!
А хозяйка тем временем стелет ему на лавке постель.
— Мы уж вас, извините, здесь уложим, в горнице прохладно. В горнице девки переспят, а мы с хозяином на печи…
Пуховик на лавку, на пуховик — простыню, сверху стеганое одеяло.
Тушат свет. Слава раздевается, накрывается одеялом. Не спится: то ли мешает шепоток хозяев на печке, то ли томят завтрашние заботы… Семена, семена! Глаза разгорятся у всех, а давать придется самым бессловесным… За стеной ветерок. Страшновато ночью в поле. В доме тоже какие-то шорохи. Мыши? Тараканы?… Тараканов Ознобишин не приметил. Черти?… Черти и есть, завтра он всех чертей выпустит!
Просыпается на рассвете, но хозяева уже встали.
— Доброе утро.
— Рукомойник в сенях.
Подают ручник из тончайшего домотканого полотна.
— Завтракать…
— А сами?
— Мы позавтракали.
Как же это он так заспался?
Сейчас бы картошечки с молочком да с хлебцем…
Но тут не вмешаешься. Садись и не чинись, угощайся тем, что дадут, а хозяйка расстаралась: на одной тарелке блины, на другой тарелке блины, гора блинов, а к ним и маслице топленое, и сметанка, и творожок, и лучок поджаренный, и шкварки свиные…
— Куда мне столько?
— Кушайте, кушайте.
Сам Васютин деликатно присел на краешек лавки, спросит о том, спросит о сем, и между прочим:
— Хлеб искать будете?
— Наоборот.
Васютин не понимает, но успокаивается, не за хлебом — и то ладно, значит, спокойно можно отсеяться.
Тут дверь хлоп, хлоп — Сосняков.
— Здоров…
Не поймешь кому — хозяевам, Ознобишину? Мало приветлив Иван Сосняков. Он человек дела.
— Ты чего с вечера не зашел?
Это уже прямой упрек Ознобишину.
А Слава самому себе не признается, всякий раз он рад отложить встречу с Иваном.
В ответ пошутил:
— Утро вечера мудренее.
Его собеседник суров.
— Для дураков и лентяев.
— Может, позавтракаешь со мной?
Ответа Слава не дождался.
Но надо видеть Соснякова! Углы губ опущены, глаза прищурены, ноздри подрагивают… Полное презрение!
— Собирайся, пойдем.
Славушка отодвинул тарелку. Не до блинов! Накинул полушубок, заторопился.
— Кулацкими блинами угощаешься?
И ведь прав Сосняков. Приезжее начальство останавливается у кулаков, это вроде контрибуции, и все-таки лучше подальше от этих блинов.
Сосняков не собирается тратить время попусту:
— Зачем приехал?
— Посевная. Семена раздавать.
Сосняков удивлен:
— Тебя послали уполномоченным?
— Прежде всего я собирался обратиться к тебе, Иван. Зерна мало, есть решение снабдить бедняков и поддержать кое-кого из середняков. Ты ведь всех здесь знаешь. Надо бы списочек составить, а то уплывет зерно…
— А чего составлять? — хитрая улыбочка шевельнула узкие губы Соснякова. — У меня все на учете. Знаю, у кого хлеб спрятан. Уполномоченные не столько ищут, сколько речи говорят!
Дом князей Корсунских снаружи изменился мало, но внутри уже все выглядит иначе, занятия идут полным ходом, гостиные и спальни переоборудованы в классы, из-за дверей несется гул голосов, можно подумать, что в этом доме всегда помещалась школа.
— Комсомольская ячейка теперь тоже здесь, — Сосняков пытливо смотрит на Ознобишина. — Кстати, ты на бильярде умеешь играть?
Слава пожал плечами:
— Не приходилось…
Для комсомольской ячейки Сосняков приспособил бывшую бильярдную, но бильярдный стол оставили, только сдвинули к стене.
Ознобишину теперь понятно, почему он заинтересовался бильярдом.
— Я тоже еще не умею, — сказал Сосняков. — А говорят, полезная игра. Развивает глазомер, меткость. Нам бы инструктора сюда, обязали бы всех комсомольцев учиться.
Ознобишин не стал спорить.
— Давай свои списки.
Две школьные тетрадки исписаны каллиграфическим почерком. Все село на учете. «Бедняки. Середняки мал. Середняки кр. Кулаки». «Мал» — маломощные, «кр» — крепкие. Бухгалтерия!
Тут появился Жильцов, держится рукой за рыжую бороду, заискивающе заглядывает Ознобишину в глаза.
— Вы к нам от волисполкома, Вячеслав Николаевич? Семена делить?
Откуда ему известно? Слава сказал об этом одному Соснякову.
— Ключи от амбара при тебе, Савелий Тихонович?
— В Совете.
— Пошли за ключами.
Амбар на двух замках, ключ от одного в волисполкоме, от другого в сельсовете.
Такая мера предосторожности, изобретение Данилочкина, обеспечивает полный контроль.
— По хозяйствам делить будете или как?
— По классовому принципу, Савелий Тихонович, — беднякам и маломощным середнякам.
— А остальным?
— А остальные вывернутся. Пошарят у себя по сусекам.
Зашли за ключами в сельсовет, там мужиков полным-полно, притихли, молчат, слух о приезде уполномоченного обошел уже все село.
— Семена делить?
— Семена.
— А кому?
Кто-то подал голос:
— Кому есть нечего, тем и дадут, сожрут, а сеять как бог даст.
Жильцов подал ключи, списки домохозяев.
Ознобишин решил прихватить с собой еще двух-трех мужиков.
— Кому, мужики, доверяете? Хочу пройти по домам. Называйте.
— Селиверстыча.
— Васютина Павла Григорьевича.
— Не возражаете, мужики?
— А когда хлеб делить?
— Пожалуй, завтра с утра…
Ознобишин — от дома к дому, Сосняков от него ни на шаг, Жильцов и двое доверенных чуть позади.
Поднимались на крыльцо, заходили в избу, здоровались, — Ознобишин пытливо вглядывался в хозяев, в детей.
— Савелий Тихонович, как тут?
— Пуда четыре наскребут.
Одним глазом в список Жильцова, другим в тетрадь Соснякова. Сосняков безошибочно определил достаток каждой семьи, его классовый подход строг, но справедлив.
В богатые избы заходили мимоходом, да и владельцы их не слишком, видно, рассчитывали на помощь со стороны, посев в этих хозяйствах обеспечивали хитроумно укрытые от чужих глаз мешки с отборным зерном.
Вот и еще одна такая богатая изба, кирпичная, под железом, с крыльцом, украшенным деревянной резьбой.
— Борщевы. Самое что ни на есть кулачье, — небрежно поясняет Сосняков. — О самом хозяине ни слуху ни духу, с деникинцами ушел…
К Борщевым Ознобишин зашел ради проформы.
Хозяйка упирается в стол тонкими пальцами, за юбку держится девчушка лет семи, а позади еще трое погодков.
Ознобишина поразил землисто-белый цвет их лиц широко раскрытые глаза, бескровные губы.
Взглянул на Соснякова.
— Чего это они такие?
— Какие?
— Точно голодные.
— А они и есть голодные. В начале зимы продармейцы у них все подчистую выгребли. Сидели на картошке, да и той, должно, не осталось.
Ознобишин задумался.
— Сеяться будете? — спросил Борщеву.
— Если люди помогут…
Не сказала — прошелестела губами.
Сосняков потянул Ознобишина за рукав.
— Здесь делать нечего, пошли.
И с таким же голодным отупением столкнулись еще в одной избе, на этот раз темной, тесной и нищей, нищета в ней сквозила из всех щелей.
— Этим тоже помогать не будем, — сказал Сосняков.
— А этим почему?
— Их отец ушел с белыми.
— А этот с чего? Здесь-то беднота?
— Беднота-то беднота, а переметнулся к классовому врагу.
— От бедности и переметнулся, — пояснил Жильцов. — Так и сказал, уходя: глаза бы мои на эту нищету не глядели.
— Пойдем, пойдем, — заторопился Сосняков.
Ознобишин всматривался в голодные детские глаза.
— Как фамилия?
— Филатовы.
Комиссия, как вскоре их стали называть в селе, — Ознобишин, Сосняков, Жильцов и понятые, — обошли все дворы.
К вечеру обход закончили.
— Собирай, Иван, ребят, — распорядился Ознобишин. — Овсянина, Плехова… Словом, всех. На всю ночь. Пусть стерегут амбар. Не ровен час, разграбят еще ночью.
— Правильно, — подтвердил Жильцов. — Береженого бог бережет.
Комсомольцев собрали, вооружили чем пришлось: дробовиками, пистолетом, найденным в усадьбе и сохраняемым для спектаклей.
— Смотрите в оба, чуть что — за мной, — предупредил Ознобишин и невесело усмехнулся. — А я сосну. Завтра мне воевать и воевать.
Он расставил караул, наказал ходить греться по очереди и ушел с Сосняковым в село.
В окнах вспыхивали огни. Звенела где-то бадья, булькала в темноте наступающая весна.
— Ты куда? — спросил Сосняков. — К Васютиным опять?
— А куда ж еще?
— Пойдем ко мне, картошки хватит.
— Где там хватит, — безжалостно отказался Ознобишин. — У вас каждая картофелина на счету. Ничего, не объем я ваших кулаков.
У Васютиных и тепло и сытно, но Ознобишин не очень-то к ним стремился, позови его кто другой из комсомольцев, он охотно пошел бы, но идти к Соснякову не хотелось, очень уж агрессивен.
Васютины ждали своего постояльца. Ужин на столе, постель постлана, а разговорами хозяева его не обременяли.
Слава наскоро похлебал щей, даже не забелил сметаной, отодвинул поджарку.
— Спасибо, сыт.
Почему-то стыдно было есть это мясо, когда Сосняков сидит небось сейчас у себя дома и макает в соль холодные скользкие картофелины.
Погасили лампы, разделись, но никто не спит, все сдерживают дыхание, притворяются спящими.
«Надо было остаться с ребятами караулить амбар, — подумал Слава и тут же сам с собой не согласился, — завтра будет денек ой-ой какой, завтра мне достанется, дай бог продержаться». И грустно ему было почему-то, людям надо сеять, как можно осиротить землю, всем это на пользу, а семян нет даже у тех, у кого они припрятаны, с семенами негусто, и кому-то надо дать, а это — дать и не дать — в воле Ознобишина: волисполком его уполномочил, ну а сам он себя? Поди разберись, где справедливость. Ивану легче, он во всем придерживается своих списков. Составил их раз и навсегда, кому положено, тому положено, а кому не положено, тому никогда и никакими силами не сдвинуть его с занятой позиции. В общем-то Сосняков прав, живет по законам классовой борьбы… Что-то звякнуло за окном, льдинка, должно быть, сорвалась. Как там ребята у амбара? Трудно предположить, что кто-нибудь позарится на общественный амбар, и все-таки спокойнее, что ребята присматривают за амбаром.
Он заспался, заспался… Нет, хозяева еще спят. За окном еще темно. Оделся, тихо вышел во двор, на улицу. Какая-то женщина несет ведра на коромысле. Откуда-то пробивается белесый свет. Прошел мимо церкви. Не так давно еще в ней венчали, крестили и хоронили князей Корсунских. Где они? Алешку застрелили, а княгини уехали.
На площади, за церковью, амбар. Недавно еще принадлежал здешнему лавочнику, а теперь общественный амбар граждан села Корсунского. Есть в селе и бедняки, и батраки, вконец обнищавшие крестьяне, и есть богачи, которые держат батраков, и сегодня этим нищим будет дано полное предпочтение. Ознобишин, полноправный представитель Советской власти, отдаст им предпочтение перед теми, у кого и хлеб, и скот.
По дороге встретились Левочкин и Плехов.
— Все спокойно? — Ознобишин позвенел в кармане ключами. — Сбегайте кто-нибудь за Жильцовым.
Село точно только и ждало этой команды — Жильцов еще не пришел, как площадь заполнилась народом. Пришли и старые и малые, мужики и бабы, старики и старухи, набежали ребятишки, только самые маленькие остались сидеть по избам.
Ох, до чего ж многолика деревня! И самое опасное, что пришли все. Слухи о том, что семена будут давать одним беднякам, еще накануне прошли по деревне, богатым мужикам нечего делать на площади, и, однако, тоже пришли.
Неспокойно на душе у товарища Ознобишина, но назвался груздем, полезай в кузов.
— Бочку, что ли, какую подкатите…
Из ближнего двора выкатили телегу, поставили перед амбаром.
Взобрался товарищ Ознобишин на телегу, осмотрелся.
— Товарищи… — даже как-то неудобно называть этих мужиков и баб товарищами, по возрасту он им в сыновья годится. Но не отцами же их называть полномочному представителю Советской власти. — Я уполномочен волостным исполкомом произвести у вас раздачу семян. Заранее предупреждаю: семян мало, выдавать будем только самым маломощным. Тем, у кого, по нашим сведениям, имеется возможность засеять свой клин из своих запасов, тем рассчитывать на помощь от государства не приходится. Поэтому, товарищи зажиточные хозяева… — не называть же кулаков кулаками? — вам можно разойтись!
На свою голову сказал — по толпе прокатился крик:
— Чего там, дели, поглядеть хотим на вашу справедливость!
Ознобишин предупреждающе поднял руку.
— Не торопитесь. Хотите стоять — стойте, к амбару все равно не подпустим. Отпускать будем по списку, каждому в свой мешок, а сперва проверим, взвесим, не много ли сгрызли мыши…
Подозвал комсомольцев, поставил перед дверями.
— Савелий Тихонович! — подал ему ключи. — Открывай.
Пахнуло пылью, мукой и будто вправду мышами.
— Человек четырех сюда…
Подвинули весы к дверям.
— Ну, давайте. Сколько должно быть, Савелий Тихонович?
Жильцов извлек из кармана засаленную тетрадь, заглянул в свои записи.
Рожь — восемьсот двадцать четыре пуда, овса — шестьсот одиннадцать, проса — четыреста…
— Подай-ка свои списочки!
Со списками Соснякова Ознобишин не расстается, вчера во время обхода он кое-что исправил, но совсем незначительно, эти списки и легли в основу при распределении.
Ознобишин повернулся к Соснякову, впрочем, тот не отходил от Ознобишина, никому не доверял, даже Ознобишину, боялся, как бы от его глаз не ускользнула хоть горсть зерна.
— Давай прикинем…
Нельзя никого обидеть, и нельзя не обидеть, обиженные будут, но пусть никто не упрекнет, не заподозрит представителя власти в пристрастии.
Ознобишин встал на приступок амбара.
— Тише!
Но можно и не взывать к тишине. Тишина воцарилась мгновенно, как только Ознобишин вышел из амбара, — хлеб-от не шутка, кому подфартит, тот обеспечен, посеет без хлопот, а кому-то искать, добывать еще…
— Зерно в целости, но на всех все равно не хватит. Мы тут прикинули. Выдаем безлошадным, беднякам и малоимущим. На женщин и детей по пуду…
— А мужики — умойся и оботрись?
— Мужики при детях!
— Значит, мужик уже не человек?
— Не хватит иначе, не хватит, мужики перебьются.
— Я предупреждаю: кто вздумает перемолоть семена на муку, или, упаси бог, продать, будем судить, наперед говорю, милости тогда от Советской власти не ждите. Да и не враги же вы себе…
Тишина.
— Мешки у всех при себе?
Тишина.
— Начнем, значит… Афонина… Афонина Татьяна, подходи. Пять пудов ржи и три овса!
Женщина в красном полушалке сделала шаг вперед, а Второй шаг сделала вся толпа, все разом, толкаясь и бранясь, кинулись в беспорядке к амбару.
На мгновение, всего лишь на одно мгновение замер Ознобишин: сметут! И ничто не остановит мужиков… Вот когда он пожалел, что не взял у Еремеева револьвер. Он не сумеет противостоять натиску, его сметут, и ничего от него не останется.
Еще секунда, и одичавшая толпа ворвется в амбар.
— Стойте! — закричал Ознобишин противным, визгливым, пронзительным голосом, вырвавшимся откуда-то из глубины, каким он еще никогда не кричал в жизни. — Еще шаг — и я выстрелю!
В левой руке у него список, а правая в кармане полушубка, у него мерзли пальцы, и он пытался согреть хотя бы одну руку, но поняли его иначе, в кармане оттопыривались варежки, а сгоряча что не померещится людям.
— Мужики! — крикнул кто-то в толпе. — Он чичас стрелит!
Кто-то споткнулся и будто рывком остановил всю толпу.
Парень в кавалерийской шинели выскочил вперед, выпятился перед телегой, на которой стоял Ознобишин, и принялся раздирать у себя на груди рубаху.
— Ну, стреляй, стреляй…
Вероятно, Слава чувствовал нечто подобное тому, что чувствовал Шабунин, когда с винтовкой в руках бежал по кронштадтскому льду.
Он вытащил руку из кармана.
— Больно ты мне нужен, — с презрением сказал Слава. — Не для тебя назначена твоя пуля.
Парень посмотрел на уполномоченного, шмыгнул носом и пошел прочь.
— Кто еще? — спросил Ознобишин, чувствуя прилив лихорадочной отваги. — Кто еще попытается?
Но пытаться не хотелось больше уже никому, и все, точно по команде, отступили на несколько шагов от амбара.
Ознобишин мотнул головой в сторону Соснякова:
— Выдавай, Иван. Афонина Татьяна. Пять пудов ржи и три овса.
На этот раз никто не помешал женщине в красном полушалке оттащить мешки с зерном от дверей.
Ознобишин выкликал фамилию, Сосняков вместе с другими ребятами отвешивал зерно, и мужик, потому что зерно все-таки получали мужики, поспешно оттаскивал мешок от амбара и спешил уйти со своим пайком восвояси.
Ознобишин не спешил, а Сосняков тем более, он взвешивал зерно с аптекарской точностью.
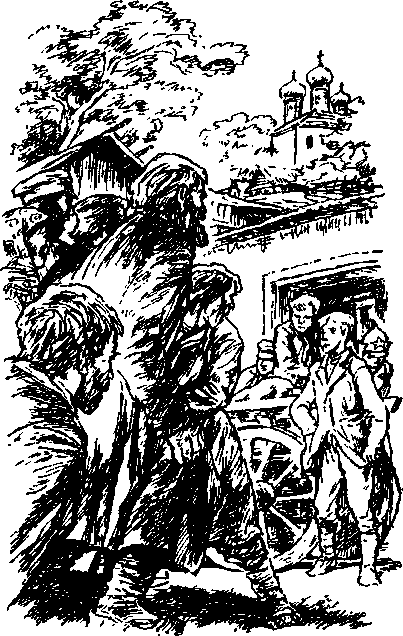
После того как Ознобишин отогнал ринувшуюся к амбару толпу, никто не мешал раздаче, иногда возникал мелкий спор и тут же гас, придраться было не к чему, запасы зерна подходили к концу, и Ознобишину оставалось все меньше и меньше времени для осуществления принятого им решения.
— Борщева! Анна! — подчеркнуто громко выкрикнул Ознобишин.
Никому и в голову не приходило, что могут вызвать Борщеву, она сама не поверила, что ее выкликнул уполномоченный.
Ознобишин повторил:
— Борщева Анна!…
Ее толкнули в спину.
— Тебя!
— Да она ж кулачка!
— Была, да вся вышла, и она и дети еле на ногах стоят.
— Борщева Анна!
Неуверенными шагами подошла Борщева к телеге.
Но одновременно из амбара выбежал Сосняков и подскочил к Ознобишину.
— Ты что? Ее же нет в списках!
— Есть. Я внес.
— Да ведь это же кулацкая… кулацкая семья! Ее муж к белым ушел…
— А дети с голоду мрут.
— Не наша забота.
— Наша.
— Кулаков растить будем?
— А мы не будем растить их кулаками.
— Нарушаешь классовую линию?
Ознобишин соскочил с телеги и подтолкнул Борщеву к амбару.
— Ну? Чего стоишь? Иди получай.
Сам пошел за ней в амбар, смотрел, как отсыпают ей зерно.
Сосняков стоял у двери и саркастически наблюдал за Ознобишиным.
— Теперь остается только еще вызвать Филатову!
— А ты не ошибся, тоже внесена мной в список.
Он опять взобрался на свою трибуну:
— Филатова!
Но Филатовой на площади не было, она просто не пришла, после того, как ее муж ушел с деникинцами, она не могла надеяться ни на какую помощь.
