Страница:
— Нет, нет!
Славушке хочется выпить, он уже мужчина, но нельзя огорчать маму.
Быстров ест много, быстро, охотно. Славушка не поспевает за ним. Если бы еще научиться пить, как Быстров.
Вера Васильевна задумалась.
— Степан Кузьмич, можно Славе не ехать в Орел?
Быстров откинулся на стуле, развел руками.
— Это как он сам, его не принуждают.
— Слава?
— Не отговаривай…
Сердце Веры Васильевны полно нежности, боязни, предчувствий, но лучше всего чувства запрятать поглубже. Никому не дано остановить ход жизни.
Быстров наелся, теперь нужно поспать.
— Я сейчас постелю.
— Вы спите у себя в комнате, а мы со Славой по-походному, в классе.
Быстров не забывает подвязать Маруське торбу с овсом, а заодно прислушаться — опасности неоткуда бы взяться, да ведь береженого…
Ложатся в классе на полу, на тюфячок, снятый Анной Ивановной со своей койки, накрываются ее старой шубейкой.
Мужчины спят, а женщины не спят. Вера Васильевна в тревоге за сына. Анна Ивановна сама не знает, почему ей не спится, — столько беспокойства в последние дни. Филимонов отдал керосин, сам привез на телеге бидоны в школу, но предупредил — не расходовать, воздержаться, вернется Советская власть — пользуйтесь, не вернется — придется возвернуть.
Слышат женщины или не слышат, как встает Быстров, как будит мальчика, как выходят они из школы?…
Еще ночь, теплятся предутренние звезды. Предрассветный холодок волнами набегает на бедарку.
Быстров придерживает Маруську. Последние наставления, последние минуты. Еще тридцать, двадцать, десять минут, и мальчик самостоятельно двинется дальше.
— Пакет начальнику политотдела. Не отклоняйся от железной дороги. Политотдел или в Оптухе, или в Мценске.
В низинах стелется туман. Впереди ничего не видно, но по каким-то признакам Быстров угадывает Каменку.
— Хорошо, туман…
В Каменке стоит какая-то тыловая белогвардейская часть, красных войск поблизости нет, остерегаться как будто нечего, но предусмотрительный командир всегда выставляет охранение.
— Постарайся проскочить Каменку в тумане. Не задерживайся в деревне, сразу на большак, верстах в пяти хутор, — не запомнил, когда ехал со станции? Спросишь Антипа Петровича, скажешь, от меня, он нам не раз помогал. Пережди до вечера и дуй прямиком к железке.
Быстров сворачивает в поле, ставит Маруську за стог соломы. Вдвоем спускаются к ручью. Туман так плотен, что белеет даже ночью. Ноги тонут в росе. Быстров знает в волости все дорожки. Славушка обязательно забрел бы в ручей. Ручей узенький, но в темноте можно и в луже вымокнуть.
— По роялю и вверх по тропке, пересекай деревню по прямой…
Каменские мужики ничего лучше не придумали, как вывезти из помещичьего дома концертный рояль и поставить вместо мостика через ручей.
Быстров протягивает Славушке руку и решительно говорит:
— Бывай!
Славушке хочется выпить, он уже мужчина, но нельзя огорчать маму.
Быстров ест много, быстро, охотно. Славушка не поспевает за ним. Если бы еще научиться пить, как Быстров.
Вера Васильевна задумалась.
— Степан Кузьмич, можно Славе не ехать в Орел?
Быстров откинулся на стуле, развел руками.
— Это как он сам, его не принуждают.
— Слава?
— Не отговаривай…
Сердце Веры Васильевны полно нежности, боязни, предчувствий, но лучше всего чувства запрятать поглубже. Никому не дано остановить ход жизни.
Быстров наелся, теперь нужно поспать.
— Я сейчас постелю.
— Вы спите у себя в комнате, а мы со Славой по-походному, в классе.
Быстров не забывает подвязать Маруське торбу с овсом, а заодно прислушаться — опасности неоткуда бы взяться, да ведь береженого…
Ложатся в классе на полу, на тюфячок, снятый Анной Ивановной со своей койки, накрываются ее старой шубейкой.
Мужчины спят, а женщины не спят. Вера Васильевна в тревоге за сына. Анна Ивановна сама не знает, почему ей не спится, — столько беспокойства в последние дни. Филимонов отдал керосин, сам привез на телеге бидоны в школу, но предупредил — не расходовать, воздержаться, вернется Советская власть — пользуйтесь, не вернется — придется возвернуть.
Слышат женщины или не слышат, как встает Быстров, как будит мальчика, как выходят они из школы?…
Еще ночь, теплятся предутренние звезды. Предрассветный холодок волнами набегает на бедарку.
Быстров придерживает Маруську. Последние наставления, последние минуты. Еще тридцать, двадцать, десять минут, и мальчик самостоятельно двинется дальше.
— Пакет начальнику политотдела. Не отклоняйся от железной дороги. Политотдел или в Оптухе, или в Мценске.
В низинах стелется туман. Впереди ничего не видно, но по каким-то признакам Быстров угадывает Каменку.
— Хорошо, туман…
В Каменке стоит какая-то тыловая белогвардейская часть, красных войск поблизости нет, остерегаться как будто нечего, но предусмотрительный командир всегда выставляет охранение.
— Постарайся проскочить Каменку в тумане. Не задерживайся в деревне, сразу на большак, верстах в пяти хутор, — не запомнил, когда ехал со станции? Спросишь Антипа Петровича, скажешь, от меня, он нам не раз помогал. Пережди до вечера и дуй прямиком к железке.
Быстров сворачивает в поле, ставит Маруську за стог соломы. Вдвоем спускаются к ручью. Туман так плотен, что белеет даже ночью. Ноги тонут в росе. Быстров знает в волости все дорожки. Славушка обязательно забрел бы в ручей. Ручей узенький, но в темноте можно и в луже вымокнуть.
— По роялю и вверх по тропке, пересекай деревню по прямой…
Каменские мужики ничего лучше не придумали, как вывезти из помещичьего дома концертный рояль и поставить вместо мостика через ручей.
Быстров протягивает Славушке руку и решительно говорит:
— Бывай!
30
Славушка перебирается по роялю через ручей, отыскивает в траве тропку.
Повыше туман пожиже, темнеют овины и сараи, деревня еще спит, мальчик ныряет в проулок и быстро пересекает улицу.
Вот он и на пути к цели. Предстоит перейти демаркационную линию. По словам Быстрова, это не так-то просто. Как ни беспечен противник, все-таки не настолько беспечен, чтобы не застраховаться от всяких случайностей.
Славушка прошел три или четыре версты, белые не попадались.
Утешался он этим недолго, понимал: добраться до политотдела все равно нелегко.
Как долго будет тянуться эта серая, унылая, пыльная дорога?
Он добрел до изгороди из жердей, за которой ободранные приземистые ветлы, а подальше такие же унылые строения.
По всем признакам это и есть усадьба Антипа Петровича, где Славушке надлежит провести день.
Подошел к воротам. Приперты изнутри кольями. Покричал. Никто не показывался. Посмотрел, не видно ли собак, перепрыгнул через плетень, и сразу из-за сарая показался какой-то дядюх в длинном брезентовом балахоне.
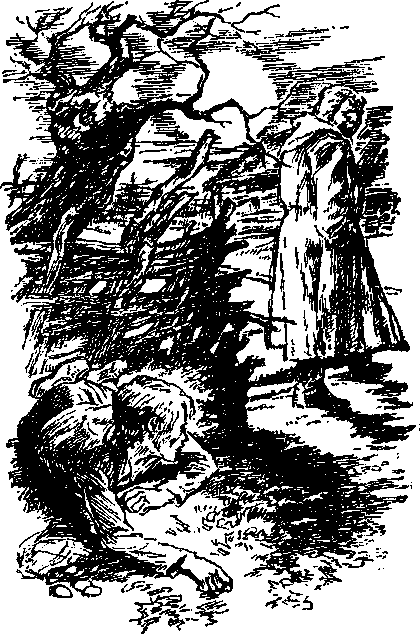 На мальчика уставилось безбородое бабье лицо.
На мальчика уставилось безбородое бабье лицо.
— Тебе чего?
— Антипа Петровича.
— Сдались вы мне…
— Я от Быстрова. Степана Кузьмича.
— Какого Быстрова?
— Председателя Успенского исполкома.
Точно проблеск мысли мелькнул на бесформенном мягком лице, он неожиданно хихикнул и так же неожиданно спросил:
— А он что, жив еще?
Славушка подумал, что это не тот человек, к которому его направил Быстров.
— Вы Антип Петрович?
— Ну я…
— Меня направил к вам Быстров, я иду в Змиевку, день мне надо пробыть у вас, вечером я уйду…
Человек о чем-то думал, как-то очень неприятно думал. Славушке почему-то стало страшно, он решил: если этот человек позовет его в дом, он не пойдет, не знал почему, но не пойдет.
— Куда ж мне тебя деть? — сказал человек. — В дом не пущу, мне бы самому продержаться, ложись где-нибудь у забора, жди…
Он стоял и все смотрел на мальчика, и Славушка почувствовал себя в ловушке, он знал, сейчас нельзя идти к Змиевке, Степан Кузьмич имел какие-то основания запрещать идти этой дорогой днем, и оставаться у Антипа Петровича не хотелось, почему-то неприятно и даже страшно находиться возле него. Сухие жесткие желваки выпирали по обеим сторонам его подбородка, какое-то осминожье лицо… Славушка с опасением огляделся — серый дощатый дом под ржавой железной крышей, серые сараи, вокруг частый плетень, несколько старых яблонь с шершавыми побуревшими листьями… Ему не хотелось здесь оставаться, и некуда больше деться. Славушка вернулся к изгороди, сел у ветлы, прислонился спиной к широкому корявому стволу, положил возле себя на траву сверточек с яйцами и салом. Можно бы пообедать, но есть не хотелось. Антип Петрович постоял, постоял и пошел в дом. Было тихо, какие-то звуки нарушали тишину, но Славушка их не улавливал, они существовали где-то вне его, он только ощущал окружающую его опасность. Пустая дорога где-то тут за плетнем, отжившие деревья и странное это существо в доме. Славушка сидел и не двигался, не спал и не мог встать. Сколько сейчас времени, гадал он. Стоял серый осенний день, хорошо еще, что не было дождя. Когда ожидание стало совсем несносным, из дома выскочила девчонка лет двенадцати в ситцевом розовом платьице, постояла, посмотрела издали и ушла. Спустя еще сколько-то времени появился Антип Петрович, посмотрел и тоже ушел. Надо было думать о предстоящем пути, о Змиевке, о том, как добраться до Орла и дальше Орла, но ни о чем другом в этом загоне, как об этой девочке и Антипе Петровиче, Славушка не мог думать. Кто эта девочка и кто этот человек? Славушка находился в тоскливой осенней пустоте, страх все сильнее охватывал его. Ждал вечера, как избавления, ничего так не хотел, как вечера. По дороге, где-то за его спиной, кто-то проехал, он не посмел встать, оглянуться, посмотреть, он ждал опасности, которая вот-вот появится из дома. Антип Петрович вышел опять, опять ничего не сказал и ушел. Происходило что-то таинственное. В сознании Славушки, в воздухе, который его окружал, вообще в мире существовало лишь одно слово, которого он боялся, оно безмолвно кружило возле него, и оттого становилось еще страшнее. Ему показалось, что осьминожье лицо появилось опять и исчезло. Он не знал, сколько времени он сидел, окруженный серой тишиной, и ждал вечера. Ему показалось, что наступают сумерки, хотя до вечера было еще далеко. Потом он почувствовал, еще немного, и все будет кончено, еще немного, и он утратит всякую волю, ужас подползал к нему со всех сторон. Надо бежать, бежать во что бы то ни стало. Ему казалось, что за ним следят, вот-вот на него накинутся. Он выждал с минуту, взял сверточек в руку и, не отрываясь от земли и не сводя глаз с дома, стал отползать к плетню. Почувствовал, как прижался спиной к плетню, рывком перемахнул через него, упал в траву, вскочил и что было сил побежал к дороге.
Дорога, дорога… Настоящая дорога. Настоящий вечер" Вечер-то, оказывается, уже наступил. Сумерки становились все гуще. Ему захотелось есть, но он решил повременить, отойти подальше от этого чертова хутора.
Он шел довольно долго. Наступила ночь. Небо затянуло облаками, звезды не просвечивали, тьма сгустилась сильнее. Он не понимал, что это был за хутор, что за человек Антип Петрович. Но он был счастлив, что вырвался оттуда. Все стало на свое место.
Слева поля и справа поля, влажная пыль и ночь. Вероятно, уже далеко за полночь. Он чувствует дорогу. В низинах стелется туман, но все хорошо. Дорога тянется под уклон, потом вверх, за обочиной тропка и ниже овражек. В тумане, в туманной тьме, внизу ничего не видно.
Славушка сошел на тропку. Мягче и безопаснее.
Чу! Так и до беды додумаешься. Что-то поскрипывает, поскрипывает, пыхтит, а ты думаешь о своем, ничего не замечаешь, увлекся своими мыслями. Кто-то едет навстречу. На телеге, должно быть. И не на одной. Обоз какой-то.
Кто-то едет. Навстречу. В самом деле едет. Вполне реально едет. Вот уже на расстоянии нескольких шагов…
— Сто-ой!
В руках у незнакомца винтовка.
— Сто-ой!
Кому он кричит? То смотрит на Славушку, то оглядывается назад.
Впереди — скрип, скрип, и тишина, возы остановились, в самом деле остановились.
Еще два шага к Славушке:
— Ты кто такой?
А кто он сам? Белый? Красный?… Пока что темный!
Рассказывать историю о том, что гостил у родственников и теперь возвращается к маме?
— А ты сам кто?
Человек подходит еще ближе и, задыхаясь от нетерпения, вполголоса спрашивает:
— Ты не знаешь, наши еще на Змиевке?
«Наши еще на Змиевке?» Ясное дело, он не из тех, кто наступает сейчас на Змиевку, а из тех, кто готовится ее покинуть.
— Да ты-то кто?
— Боец ЧОНа…
— А что за обоз?
— С оружием.
— А куда вы двигаетесь?
— На Змиевку.
— Да вы же в обратную сторону едете!
— Как в обратную?
— Вы же в Каменку едете, там белые!
— Не может быть?
Бежит назад, и Славушка слышит, как он кричит:
— Поворачивай, поворачивай… Назад! Вам говорят…
Вспыхивают огоньки, крохотные, как светлячки. Перекур. Возчики закуривают цигарки.
Доносятся хрипловатые голоса:
— Чаво?… Чаво тебе ишшо, то вперед, то назад… Говорили ж тебе, што станция не туды, а сюды. Лошади у нас не казенные…
Раздается надсадное кряхтенье, нуканье, тпруканье, скрип колес, и невидимый обоз трогается обратно.
Сопят кони, скрипят телеги, люди покрикивают на лошадей.
— Давай, давай, товарищи! — кричит парень. — Скоро прибудем… — Оборачивается к Славушке: — А теперь познакомимся, — говорит он с неподдельной искренностью и представляется: — Шифрин, Давид.
— Ознобишин.
Пожимают друг другу руки.
— Ты есть хочешь? — спрашивает Славушка.
— Как собака, — со вздохом отвечает Шифрин. — Только я абсолютно пустой.
Славушка молча протягивает ему яйцо.
— Откуда ты взял?
Они на ходу облупливают одно яйцо за другим.
Шифрин сообщает, что он из Орла, член городского райкома комсомола — есть еще железнодорожный райком…
Комсомольцев срочно, по тревоге, собрали в штаб ЧОНа, вооружили и отправили на Змиевку. Со станции их повезли в какое-то село, до вечера продержали в дубовой роще, ждали не то бандитов, не то какого-то восстания. Ничего толком не объяснили, сказали, что операция секретная и никому ничего не следует знать. Вечером ввели в село и разместили в школе. На ужин ничего не дали, сказали, что хлеб за ужин отдадут за завтраком. Ребята улеглись между партами, а когда ночью Шифрин проснулся, в школе никого не оказалось. Его забыли. Забыли разбудить. Сторожиха сказала, что отряд отправился обратно на станцию. Тогда Шифрин взял винтовку и отправился вслед за товарищами.
— А что за обоз?
Шифрин шел себе и шел, было холодно и, признаться, страшновато. А тут навстречу обоз. Он собрался с духом и вышел наперерез. Что за обоз? С оружием. С каким оружием? Мобилизовали, везем на станцию. Какая-то воинская часть, вступившая в деревню, мобилизовала шесть подвод, на телеги погрузили ящики со снарядами и приказали везти на станцию.
Шифрину показалось, что мужики едут не то к белым, не то куда-то еще, но только не на станцию. Шифрин приказал мужикам повернуть. Они пытались возражать, но Шифрин пригрозил расстрелять каждого, кто не подчинится, мужики было загалдели, но потом кто-то сказал «пес с ним!» — и поехали.
— Куда?
— Я думал, что на Змиевку.
— А ты способен кого-нибудь застрелить?
— Не знаю, — признался Шифрин. — Я очень боялся…
Мужикам ничего не стоило накостылять им обоим по шее, однако такая мысль, кажется, даже в голову никому не пришла, не привык мужик обходиться без начальства, кто палку взял, тот и капрал!
Пошли молча, вслушиваясь в монотонный скрип колес.
— Не знаешь, далеко еще до Змиевки? — прервал молчание Шифрин.
Славушка мысленно прикинул:
— Верст пять…
— А сам-то ты идешь по каким делам? — поинтересовался Шифрин.
— По общественным!
— Ты комсомольский работник?
— Я председатель волостного комитета Союза молодежи, — объяснил Славушка не без гордости.
— Ты что-то путаешь, — недоверчиво сказал Шифрин. — В комсомольских организациях нет председателей, есть ответственные секретари…
Шифрин посчитал своим долгом просветить нового знакомого. Устав РКСМ он знал назубок, знал все инструкции и циркуляры, на эту тему он мог говорить без устали.
— А в Орел зачем? — спросил Шифрин, решив, что Ознобишин едет в Орел.
— Я не в Орел.
— А куда?
— Мне нужен политотдел Тринадцатой армии.
— Зачем?
Вот этого он сказать не мог!
— За литературой? — догадался Шифрин. — Сейчас все туда обращаются за литературой…
Так за разговорами дотащились они до Змиевки.
Стояла глубокая ночь.
На станции царила суматоха.
Везде полно солдат, суетится начальство, что-то грузят, что-то выгружают, гудят паровозы…
Едва подводы показались у станции, как подбежали два командира, один в кожаной куртке, другой в длинной кавалерийской шинели.
— Снаряды? Снаряды? — закричал тот, что в шинели. — Где только вы прохлаждались!
— Опоздай еще на полчаса, — гневно добавил тот, что в куртке, — мы отдали бы вас под суд.
Им приказали въехать по деревянному настилу прямо на перрон, на пути стоял поезд, на открытых платформах сидели красноармейцы и ждали ящики со снарядами. Не успели возчики остановиться, как красноармейцы осыпали их такой бранью, что Славушка и Шифрин не посмели раскрыть рта, безропотно помогли перегрузить ящики на платформы и ретировались, чтобы не услышать чего-нибудь в свой адрес еще и от мужиков.
Повыше туман пожиже, темнеют овины и сараи, деревня еще спит, мальчик ныряет в проулок и быстро пересекает улицу.
Вот он и на пути к цели. Предстоит перейти демаркационную линию. По словам Быстрова, это не так-то просто. Как ни беспечен противник, все-таки не настолько беспечен, чтобы не застраховаться от всяких случайностей.
Славушка прошел три или четыре версты, белые не попадались.
Утешался он этим недолго, понимал: добраться до политотдела все равно нелегко.
Как долго будет тянуться эта серая, унылая, пыльная дорога?
Он добрел до изгороди из жердей, за которой ободранные приземистые ветлы, а подальше такие же унылые строения.
По всем признакам это и есть усадьба Антипа Петровича, где Славушке надлежит провести день.
Подошел к воротам. Приперты изнутри кольями. Покричал. Никто не показывался. Посмотрел, не видно ли собак, перепрыгнул через плетень, и сразу из-за сарая показался какой-то дядюх в длинном брезентовом балахоне.
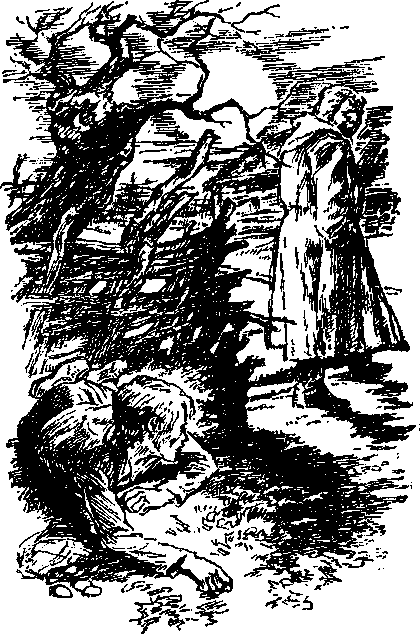
— Тебе чего?
— Антипа Петровича.
— Сдались вы мне…
— Я от Быстрова. Степана Кузьмича.
— Какого Быстрова?
— Председателя Успенского исполкома.
Точно проблеск мысли мелькнул на бесформенном мягком лице, он неожиданно хихикнул и так же неожиданно спросил:
— А он что, жив еще?
Славушка подумал, что это не тот человек, к которому его направил Быстров.
— Вы Антип Петрович?
— Ну я…
— Меня направил к вам Быстров, я иду в Змиевку, день мне надо пробыть у вас, вечером я уйду…
Человек о чем-то думал, как-то очень неприятно думал. Славушке почему-то стало страшно, он решил: если этот человек позовет его в дом, он не пойдет, не знал почему, но не пойдет.
— Куда ж мне тебя деть? — сказал человек. — В дом не пущу, мне бы самому продержаться, ложись где-нибудь у забора, жди…
Он стоял и все смотрел на мальчика, и Славушка почувствовал себя в ловушке, он знал, сейчас нельзя идти к Змиевке, Степан Кузьмич имел какие-то основания запрещать идти этой дорогой днем, и оставаться у Антипа Петровича не хотелось, почему-то неприятно и даже страшно находиться возле него. Сухие жесткие желваки выпирали по обеим сторонам его подбородка, какое-то осминожье лицо… Славушка с опасением огляделся — серый дощатый дом под ржавой железной крышей, серые сараи, вокруг частый плетень, несколько старых яблонь с шершавыми побуревшими листьями… Ему не хотелось здесь оставаться, и некуда больше деться. Славушка вернулся к изгороди, сел у ветлы, прислонился спиной к широкому корявому стволу, положил возле себя на траву сверточек с яйцами и салом. Можно бы пообедать, но есть не хотелось. Антип Петрович постоял, постоял и пошел в дом. Было тихо, какие-то звуки нарушали тишину, но Славушка их не улавливал, они существовали где-то вне его, он только ощущал окружающую его опасность. Пустая дорога где-то тут за плетнем, отжившие деревья и странное это существо в доме. Славушка сидел и не двигался, не спал и не мог встать. Сколько сейчас времени, гадал он. Стоял серый осенний день, хорошо еще, что не было дождя. Когда ожидание стало совсем несносным, из дома выскочила девчонка лет двенадцати в ситцевом розовом платьице, постояла, посмотрела издали и ушла. Спустя еще сколько-то времени появился Антип Петрович, посмотрел и тоже ушел. Надо было думать о предстоящем пути, о Змиевке, о том, как добраться до Орла и дальше Орла, но ни о чем другом в этом загоне, как об этой девочке и Антипе Петровиче, Славушка не мог думать. Кто эта девочка и кто этот человек? Славушка находился в тоскливой осенней пустоте, страх все сильнее охватывал его. Ждал вечера, как избавления, ничего так не хотел, как вечера. По дороге, где-то за его спиной, кто-то проехал, он не посмел встать, оглянуться, посмотреть, он ждал опасности, которая вот-вот появится из дома. Антип Петрович вышел опять, опять ничего не сказал и ушел. Происходило что-то таинственное. В сознании Славушки, в воздухе, который его окружал, вообще в мире существовало лишь одно слово, которого он боялся, оно безмолвно кружило возле него, и оттого становилось еще страшнее. Ему показалось, что осьминожье лицо появилось опять и исчезло. Он не знал, сколько времени он сидел, окруженный серой тишиной, и ждал вечера. Ему показалось, что наступают сумерки, хотя до вечера было еще далеко. Потом он почувствовал, еще немного, и все будет кончено, еще немного, и он утратит всякую волю, ужас подползал к нему со всех сторон. Надо бежать, бежать во что бы то ни стало. Ему казалось, что за ним следят, вот-вот на него накинутся. Он выждал с минуту, взял сверточек в руку и, не отрываясь от земли и не сводя глаз с дома, стал отползать к плетню. Почувствовал, как прижался спиной к плетню, рывком перемахнул через него, упал в траву, вскочил и что было сил побежал к дороге.
Дорога, дорога… Настоящая дорога. Настоящий вечер" Вечер-то, оказывается, уже наступил. Сумерки становились все гуще. Ему захотелось есть, но он решил повременить, отойти подальше от этого чертова хутора.
Он шел довольно долго. Наступила ночь. Небо затянуло облаками, звезды не просвечивали, тьма сгустилась сильнее. Он не понимал, что это был за хутор, что за человек Антип Петрович. Но он был счастлив, что вырвался оттуда. Все стало на свое место.
Слева поля и справа поля, влажная пыль и ночь. Вероятно, уже далеко за полночь. Он чувствует дорогу. В низинах стелется туман, но все хорошо. Дорога тянется под уклон, потом вверх, за обочиной тропка и ниже овражек. В тумане, в туманной тьме, внизу ничего не видно.
Славушка сошел на тропку. Мягче и безопаснее.
Чу! Так и до беды додумаешься. Что-то поскрипывает, поскрипывает, пыхтит, а ты думаешь о своем, ничего не замечаешь, увлекся своими мыслями. Кто-то едет навстречу. На телеге, должно быть. И не на одной. Обоз какой-то.
Кто-то едет. Навстречу. В самом деле едет. Вполне реально едет. Вот уже на расстоянии нескольких шагов…
— Сто-ой!
В руках у незнакомца винтовка.
— Сто-ой!
Кому он кричит? То смотрит на Славушку, то оглядывается назад.
Впереди — скрип, скрип, и тишина, возы остановились, в самом деле остановились.
Еще два шага к Славушке:
— Ты кто такой?
А кто он сам? Белый? Красный?… Пока что темный!
Рассказывать историю о том, что гостил у родственников и теперь возвращается к маме?
— А ты сам кто?
Человек подходит еще ближе и, задыхаясь от нетерпения, вполголоса спрашивает:
— Ты не знаешь, наши еще на Змиевке?
«Наши еще на Змиевке?» Ясное дело, он не из тех, кто наступает сейчас на Змиевку, а из тех, кто готовится ее покинуть.
— Да ты-то кто?
— Боец ЧОНа…
— А что за обоз?
— С оружием.
— А куда вы двигаетесь?
— На Змиевку.
— Да вы же в обратную сторону едете!
— Как в обратную?
— Вы же в Каменку едете, там белые!
— Не может быть?
Бежит назад, и Славушка слышит, как он кричит:
— Поворачивай, поворачивай… Назад! Вам говорят…
Вспыхивают огоньки, крохотные, как светлячки. Перекур. Возчики закуривают цигарки.
Доносятся хрипловатые голоса:
— Чаво?… Чаво тебе ишшо, то вперед, то назад… Говорили ж тебе, што станция не туды, а сюды. Лошади у нас не казенные…
Раздается надсадное кряхтенье, нуканье, тпруканье, скрип колес, и невидимый обоз трогается обратно.
Сопят кони, скрипят телеги, люди покрикивают на лошадей.
— Давай, давай, товарищи! — кричит парень. — Скоро прибудем… — Оборачивается к Славушке: — А теперь познакомимся, — говорит он с неподдельной искренностью и представляется: — Шифрин, Давид.
— Ознобишин.
Пожимают друг другу руки.
— Ты есть хочешь? — спрашивает Славушка.
— Как собака, — со вздохом отвечает Шифрин. — Только я абсолютно пустой.
Славушка молча протягивает ему яйцо.
— Откуда ты взял?
Они на ходу облупливают одно яйцо за другим.
Шифрин сообщает, что он из Орла, член городского райкома комсомола — есть еще железнодорожный райком…
Комсомольцев срочно, по тревоге, собрали в штаб ЧОНа, вооружили и отправили на Змиевку. Со станции их повезли в какое-то село, до вечера продержали в дубовой роще, ждали не то бандитов, не то какого-то восстания. Ничего толком не объяснили, сказали, что операция секретная и никому ничего не следует знать. Вечером ввели в село и разместили в школе. На ужин ничего не дали, сказали, что хлеб за ужин отдадут за завтраком. Ребята улеглись между партами, а когда ночью Шифрин проснулся, в школе никого не оказалось. Его забыли. Забыли разбудить. Сторожиха сказала, что отряд отправился обратно на станцию. Тогда Шифрин взял винтовку и отправился вслед за товарищами.
— А что за обоз?
Шифрин шел себе и шел, было холодно и, признаться, страшновато. А тут навстречу обоз. Он собрался с духом и вышел наперерез. Что за обоз? С оружием. С каким оружием? Мобилизовали, везем на станцию. Какая-то воинская часть, вступившая в деревню, мобилизовала шесть подвод, на телеги погрузили ящики со снарядами и приказали везти на станцию.
Шифрину показалось, что мужики едут не то к белым, не то куда-то еще, но только не на станцию. Шифрин приказал мужикам повернуть. Они пытались возражать, но Шифрин пригрозил расстрелять каждого, кто не подчинится, мужики было загалдели, но потом кто-то сказал «пес с ним!» — и поехали.
— Куда?
— Я думал, что на Змиевку.
— А ты способен кого-нибудь застрелить?
— Не знаю, — признался Шифрин. — Я очень боялся…
Мужикам ничего не стоило накостылять им обоим по шее, однако такая мысль, кажется, даже в голову никому не пришла, не привык мужик обходиться без начальства, кто палку взял, тот и капрал!
Пошли молча, вслушиваясь в монотонный скрип колес.
— Не знаешь, далеко еще до Змиевки? — прервал молчание Шифрин.
Славушка мысленно прикинул:
— Верст пять…
— А сам-то ты идешь по каким делам? — поинтересовался Шифрин.
— По общественным!
— Ты комсомольский работник?
— Я председатель волостного комитета Союза молодежи, — объяснил Славушка не без гордости.
— Ты что-то путаешь, — недоверчиво сказал Шифрин. — В комсомольских организациях нет председателей, есть ответственные секретари…
Шифрин посчитал своим долгом просветить нового знакомого. Устав РКСМ он знал назубок, знал все инструкции и циркуляры, на эту тему он мог говорить без устали.
— А в Орел зачем? — спросил Шифрин, решив, что Ознобишин едет в Орел.
— Я не в Орел.
— А куда?
— Мне нужен политотдел Тринадцатой армии.
— Зачем?
Вот этого он сказать не мог!
— За литературой? — догадался Шифрин. — Сейчас все туда обращаются за литературой…
Так за разговорами дотащились они до Змиевки.
Стояла глубокая ночь.
На станции царила суматоха.
Везде полно солдат, суетится начальство, что-то грузят, что-то выгружают, гудят паровозы…
Едва подводы показались у станции, как подбежали два командира, один в кожаной куртке, другой в длинной кавалерийской шинели.
— Снаряды? Снаряды? — закричал тот, что в шинели. — Где только вы прохлаждались!
— Опоздай еще на полчаса, — гневно добавил тот, что в куртке, — мы отдали бы вас под суд.
Им приказали въехать по деревянному настилу прямо на перрон, на пути стоял поезд, на открытых платформах сидели красноармейцы и ждали ящики со снарядами. Не успели возчики остановиться, как красноармейцы осыпали их такой бранью, что Славушка и Шифрин не посмели раскрыть рта, безропотно помогли перегрузить ящики на платформы и ретировались, чтобы не услышать чего-нибудь в свой адрес еще и от мужиков.
31
На станции скопилось пять или шесть паровозов. На четырех колеях стояли поездные составы. Три паровоза смотрели в сторону Белгорода, один на Орел. По первому пути метался взад-вперед одинокий шалый паровоз. Останавливался у перрона, раздраженно гудел, срывался с места, уходил в темноту, в сторону Белгорода, через несколько минут появлялся опять, снова останавливался, снова гудел и бросался в противоположную сторону. У всех вагонов царила несусветная сутолока. Это были товарные вагоны. Редко где попадались классные, их чаще называли штабными, хотя штабы в них размещались не так уж часто. Люди лезли в вагоны, грузили пулеметы, тюки, мешки, истошно орали, спорили, замолкали и опять принимались кричать.
Мальчики шли от вагона к вагону, на них никто не обращал внимания, и Шифрин заунывно повторял все тот же вопрос:
— Где ЧОН… ЧОН? Где ЧОН?
— А иди ты со своим ЧОНом…
Наконец какой-то железнодорожник сжалился над ними:
— Какой вам еще ЧОН, ребята?
— Орловский, коммунистический отряд. Часть особого назначения. Выходили на поддержку…
Железнодорожник меланхолично свистнул.
— Тю-тю ваш ЧОН! Давно уж в Орле.
— Не может быть!
— Когда еще погрузились! Паровоз, что их возил, давно вернулся…
— Предательство! — возмутился Шифрин. — Бросить своего бойца…
Ну и ночь! В сизый сумрак врисовываются черные квадраты. Чиркнут спичкой, мелькнет вдали тусклый фонарь, и опять ночь черным-черна, и сырость, и грязь, и холод, и все на ощупь.
— Что же делать?
— Знаешь что? — Славушка взял Шифрина за плечо. — Давай рванем?
— Куда?
— На фронт. — В темноте продолжалась исступленная погрузка, все что-то волокли, тащили, поднимали, запихивали в вагоны, матерились и волокли снова. — Чувствуешь, куда?
— На фронт.
— Вот и мы…
— А кто нас возьмет? Кроме того, ты сказал, тебе нужно в политотдел?
— А мы доберемся до политотдела и попросимся.
— Тебе сколько лет?
— Какое это имеет значение!
— Есть постановление — ребят моложе шестнадцати лет в армию не направлять.
— В бою не интересуются возрастом бойцов!
— Верно, но их возрастом интересуются до того, как пошлют в бой.
— Можно и нарушить постановление…
— А комсомольская дисциплина? Да ты и не удержишь винтовки! Попросимся на политработу…
С этим Славушка готов согласиться, быть политруком привлекательней, чем таскать винтовку. Случается, слово разит сильнее пули: «Товарищи! В этот решительный час… Когда решается судьба… Ррродины и ррреволюции! Умрем или…»
— Ты думаешь, могут послать?
— Попробуем прежде найти политотдел.
Они опять идут вдоль вагонов, и никому нет до них дела.
— А если мы вражеские лазутчики? — глубокомысленно замечает Славушка. — Высматривай, сколько влезет?
— А революционное чутье? — возражает Шифрин. — Были бы мы лазутчики, нас давно бы загребли…
Остановились у штабного вагона.
— Вам что, ребята? — интересуется часовой.
— Командира, — строго произносит Шифрин.
— Для чего?
— Мы из Коммунистического союза молодежи.
— Залазьте, — разрешает часовой. — Кличьте Купочкина.
В фонаре над дверью тускло мерцает стеариновая свеча. Стелются черные тени. Кто храпит, кто сопит, кто вовсе не подает признаков жизни. Поди узнай командира!
— Товарищ Купочкин! — неуверенно лепечет Шифрин. — Нам товарища Купочкина!
— Чевой-то? — спрашивает кто-то с верхней полки.
— Нам Купочкина…
— А ну подходьте… — И, когда мальчики подошли: — Вы кто есть?
— Представители РКСМ.
— На фронт проситесь? Ладно, сидайте. Утром разберемся.
— Мы разыскиваем политотдел армии, — произносит Шифрин индифферентным тоном. — Не будете ли вы так любезны?…
— А сюда зачем попали? — Собеседник спускает с полки ноги в громадных яловых сапогах. — Документы есть?
Шифрин протягивает комсомольский билет, но Купочкин даже не берет его в руки, — что можно рассмотреть в таком мраке?
— Ребята вы, ребята… — Он сочувственно рассмеялся. — Куда забрели! Политотдел за Орлом. До него еще… — Осторожно спустился громадный мужчина, поставить мальчиков на плечи друг другу, может быть, и сравняются. — Что с вами делать… — Потянулся, зевнул, и вдруг к выходу. — Ладно!
Выпрыгнул из вагона, затопал по шпалам, Шифрин и Славушка за ним.
Дотопал до паровоза, что глядел в сторону Орла, — паровоз и два вагона.
— Везут в политотдел типографию, — объяснил мальчикам и кулаком забарабанил в стенку.
Дверь отодвинулась.
— Чего?
— Слушай, Снежко, — сказал Купочкин. — Вы скоро?
— Чичас.
— Захвати двух комсомольцев, им до зарезу нужно в политотдел.
— Нехай, — ответствовал Снежко. — Только зараз.
Купочкин подсадил мальчиков.
В теплушке темно.
— Ложись у стенки, — скомандовал, видимо, все тот же Снежко. — И не гугукать, люди спят…
В темноте кто-то сопел. Под ногами шуршала солома. Ребята сели на пол, прижались друг к другу.
— Вот видишь, — шепотом сказал Шифрин.
— Что? — шепотом спросил Славушка.
— Едем в политотдел.
Поезд и вправду вскоре пошел.
Проснулись мальчики от холода. Сквозь оконца под крышей просачивался серый рассвет. Какие-то машины, ящики, тюки, в углу что-то накрыто брезентом. И нигде никаких людей.
Вагон тряхнуло, и поезд остановился.
Славушка вскочил.
Брезент вдруг зашевелился, из-под него вылез молодой парень в ватной телогрейке, только-только пробиваются усы, следом за ним мрачный пожилой солдат в длинной шинели, подпоясанной широким рыжим ремнем.
— Добренького утречка, — сказал парень. — Приехали.
Он подошел к двери, поднатужился…
И не успевает дверь откатиться, как в вагон заглядывает военный в фуражке и суконной гимнастерке, перетянутой портупеей.
— Товарищ Снежко! — выкрикивает он. — Вы что, шутите? Добираетесь третий день!
— Не давали паровоз, — мрачно заявляет парень.
Оказывается, он и есть Снежко.
— Революция не считается с отговорками! — кричит военный в портупее и указывает на мальчиков: — Это кто?
Снежко не теряется:
— Погрузочная команда.
— И со столькими людьми вы не могли вырвать паровоз?!
Снежко оборачивается.
— Смир-но! — командует он. — Товарищ завагит! Типография доставлена, погрузочная команда готова к выгрузке.
— Не заправляй мне баки, Снежко, — усмехается завагит. — Все равно я буду вынужден доложить о вашей безалаберности Розалии Самойловне!
— Не надо! Не надо, товарищ завагит! Нам с Егором и так… — Снежко в отчаянии смотрит на своего спутника в длинной шинели. — Егор, подтверди!
Егор размашисто крестится.
— Беспременно…
— Выгружайтесь! — кричит завагит. — Жив-ва!
Снежко тотчас оборачивается к мальчикам:
— А ну ребят… Начали!
Приходится расплачиваться за проезд, нельзя подвести Снежко, и, наконец, просто надо помочь, двоим тут не справиться.
— Быстрей, — приказывает завагит. — Розалия Самойловна ждет…
Это имя, можно сказать, вдохновляет Снежко. Вагон выгружают за какой-нибудь час. Мальчики трудятся в поте лица.
— Теперь можете быть свободны, — великодушно отпускает их Снежко, созерцая груз на перроне. — На подводу мы как-нибудь сами с Егором…
Шифрин облегченно вздыхает.
— А где политотдел?
— Вон! — указывает Снежко. — За деревьями лавка, а за ней большой дом.
Мальчики шли от вагона к вагону, на них никто не обращал внимания, и Шифрин заунывно повторял все тот же вопрос:
— Где ЧОН… ЧОН? Где ЧОН?
— А иди ты со своим ЧОНом…
Наконец какой-то железнодорожник сжалился над ними:
— Какой вам еще ЧОН, ребята?
— Орловский, коммунистический отряд. Часть особого назначения. Выходили на поддержку…
Железнодорожник меланхолично свистнул.
— Тю-тю ваш ЧОН! Давно уж в Орле.
— Не может быть!
— Когда еще погрузились! Паровоз, что их возил, давно вернулся…
— Предательство! — возмутился Шифрин. — Бросить своего бойца…
Ну и ночь! В сизый сумрак врисовываются черные квадраты. Чиркнут спичкой, мелькнет вдали тусклый фонарь, и опять ночь черным-черна, и сырость, и грязь, и холод, и все на ощупь.
— Что же делать?
— Знаешь что? — Славушка взял Шифрина за плечо. — Давай рванем?
— Куда?
— На фронт. — В темноте продолжалась исступленная погрузка, все что-то волокли, тащили, поднимали, запихивали в вагоны, матерились и волокли снова. — Чувствуешь, куда?
— На фронт.
— Вот и мы…
— А кто нас возьмет? Кроме того, ты сказал, тебе нужно в политотдел?
— А мы доберемся до политотдела и попросимся.
— Тебе сколько лет?
— Какое это имеет значение!
— Есть постановление — ребят моложе шестнадцати лет в армию не направлять.
— В бою не интересуются возрастом бойцов!
— Верно, но их возрастом интересуются до того, как пошлют в бой.
— Можно и нарушить постановление…
— А комсомольская дисциплина? Да ты и не удержишь винтовки! Попросимся на политработу…
С этим Славушка готов согласиться, быть политруком привлекательней, чем таскать винтовку. Случается, слово разит сильнее пули: «Товарищи! В этот решительный час… Когда решается судьба… Ррродины и ррреволюции! Умрем или…»
— Ты думаешь, могут послать?
— Попробуем прежде найти политотдел.
Они опять идут вдоль вагонов, и никому нет до них дела.
— А если мы вражеские лазутчики? — глубокомысленно замечает Славушка. — Высматривай, сколько влезет?
— А революционное чутье? — возражает Шифрин. — Были бы мы лазутчики, нас давно бы загребли…
Остановились у штабного вагона.
— Вам что, ребята? — интересуется часовой.
— Командира, — строго произносит Шифрин.
— Для чего?
— Мы из Коммунистического союза молодежи.
— Залазьте, — разрешает часовой. — Кличьте Купочкина.
В фонаре над дверью тускло мерцает стеариновая свеча. Стелются черные тени. Кто храпит, кто сопит, кто вовсе не подает признаков жизни. Поди узнай командира!
— Товарищ Купочкин! — неуверенно лепечет Шифрин. — Нам товарища Купочкина!
— Чевой-то? — спрашивает кто-то с верхней полки.
— Нам Купочкина…
— А ну подходьте… — И, когда мальчики подошли: — Вы кто есть?
— Представители РКСМ.
— На фронт проситесь? Ладно, сидайте. Утром разберемся.
— Мы разыскиваем политотдел армии, — произносит Шифрин индифферентным тоном. — Не будете ли вы так любезны?…
— А сюда зачем попали? — Собеседник спускает с полки ноги в громадных яловых сапогах. — Документы есть?
Шифрин протягивает комсомольский билет, но Купочкин даже не берет его в руки, — что можно рассмотреть в таком мраке?
— Ребята вы, ребята… — Он сочувственно рассмеялся. — Куда забрели! Политотдел за Орлом. До него еще… — Осторожно спустился громадный мужчина, поставить мальчиков на плечи друг другу, может быть, и сравняются. — Что с вами делать… — Потянулся, зевнул, и вдруг к выходу. — Ладно!
Выпрыгнул из вагона, затопал по шпалам, Шифрин и Славушка за ним.
Дотопал до паровоза, что глядел в сторону Орла, — паровоз и два вагона.
— Везут в политотдел типографию, — объяснил мальчикам и кулаком забарабанил в стенку.
Дверь отодвинулась.
— Чего?
— Слушай, Снежко, — сказал Купочкин. — Вы скоро?
— Чичас.
— Захвати двух комсомольцев, им до зарезу нужно в политотдел.
— Нехай, — ответствовал Снежко. — Только зараз.
Купочкин подсадил мальчиков.
В теплушке темно.
— Ложись у стенки, — скомандовал, видимо, все тот же Снежко. — И не гугукать, люди спят…
В темноте кто-то сопел. Под ногами шуршала солома. Ребята сели на пол, прижались друг к другу.
— Вот видишь, — шепотом сказал Шифрин.
— Что? — шепотом спросил Славушка.
— Едем в политотдел.
Поезд и вправду вскоре пошел.
Проснулись мальчики от холода. Сквозь оконца под крышей просачивался серый рассвет. Какие-то машины, ящики, тюки, в углу что-то накрыто брезентом. И нигде никаких людей.
Вагон тряхнуло, и поезд остановился.
Славушка вскочил.
Брезент вдруг зашевелился, из-под него вылез молодой парень в ватной телогрейке, только-только пробиваются усы, следом за ним мрачный пожилой солдат в длинной шинели, подпоясанной широким рыжим ремнем.
— Добренького утречка, — сказал парень. — Приехали.
Он подошел к двери, поднатужился…
И не успевает дверь откатиться, как в вагон заглядывает военный в фуражке и суконной гимнастерке, перетянутой портупеей.
— Товарищ Снежко! — выкрикивает он. — Вы что, шутите? Добираетесь третий день!
— Не давали паровоз, — мрачно заявляет парень.
Оказывается, он и есть Снежко.
— Революция не считается с отговорками! — кричит военный в портупее и указывает на мальчиков: — Это кто?
Снежко не теряется:
— Погрузочная команда.
— И со столькими людьми вы не могли вырвать паровоз?!
Снежко оборачивается.
— Смир-но! — командует он. — Товарищ завагит! Типография доставлена, погрузочная команда готова к выгрузке.
— Не заправляй мне баки, Снежко, — усмехается завагит. — Все равно я буду вынужден доложить о вашей безалаберности Розалии Самойловне!
— Не надо! Не надо, товарищ завагит! Нам с Егором и так… — Снежко в отчаянии смотрит на своего спутника в длинной шинели. — Егор, подтверди!
Егор размашисто крестится.
— Беспременно…
— Выгружайтесь! — кричит завагит. — Жив-ва!
Снежко тотчас оборачивается к мальчикам:
— А ну ребят… Начали!
Приходится расплачиваться за проезд, нельзя подвести Снежко, и, наконец, просто надо помочь, двоим тут не справиться.
— Быстрей, — приказывает завагит. — Розалия Самойловна ждет…
Это имя, можно сказать, вдохновляет Снежко. Вагон выгружают за какой-нибудь час. Мальчики трудятся в поте лица.
— Теперь можете быть свободны, — великодушно отпускает их Снежко, созерцая груз на перроне. — На подводу мы как-нибудь сами с Егором…
Шифрин облегченно вздыхает.
— А где политотдел?
— Вон! — указывает Снежко. — За деревьями лавка, а за ней большой дом.
32
Станция как станция. Платформа как платформа. С одной стороны туалет, с другой — пакгауз. Колокол. Затхлые помещения. Булыжная площадь. Мужиков человек сто. Домики. Палисадники. Телеги. Лошади у заборов. Но мальчикам все это ни к чему. Товарищи Шифрин и Ознобишин торопятся.
— Ты заметил, как побледнел Снежко? — спрашивает Славушка.
Шифрин иронически жует губами.
— Бесхарактерность!
— А кто такая Розалия Самойловна, как ты считаешь?
— Скорее всего секретарь политотдела, — догадывается Шифрин. — Может доложить и может не доложить…
— О чем?
— О любом происшествии…
Большой деревянный дом. Принадлежал, должно быть, какому-нибудь зажиточному лавочнику. Крыльцо с резным орнаментом. Из дома в дом снуют военные. Сперва не разберешь, кто командир, а кто рядовой красноармеец. Одежда у всех поистрепалась, шинелишки обветшали, сапоги стерлись, но в общем никто не унывает.
На крыльце часовой:
— Куда?
— К начальнику политотдела.
— Документы?
Шифрин предъявляет комсомольский билет, Славушка — удостоверение Успенского волкомпарта.
— Проходите.
В комнате тесно, полно и столов и людей. Писаря или кто? Большая пишущая машинка. Курносый юноша в папахе выстукивает на сером листе, повторяя вслух: «При-ка-зы-ва-ю… Приказываю…» Некто с седыми усами и во френче что-то усердно пишет. Двое спорят: «Я вам говорю… Да вы поймите!» Полевой телефон. «Я вас слушаю… Я вас слушаю…» Еще телефон…
Шифрин вытягивается перед человеком с седыми усами.
— Можно видеть начальника политотдела?
Тот указывает на дверь:
— Туда.
Никто их не замечает, не останавливает.
Шифрин бросает взгляд на Славушку: «Идем, идем…»
Опять столы. Еще больше, чем в первой комнате. Славушка жадно все рассматривает. Стопки книг. Несколько командиров. Это уже определенно командиры. На одном столе два баяна. На другом — початая буханка ржаного хлеба.
Шифрин и здесь подходит к самому пожилому:
— Кто здесь начальник политотдела?
— Скоро будет.
Мальчики замирают у стены. Выгонят или не выгонят? Кажется, они никому не мешают. А может быть, и мешают, но здесь привыкли к посторонним.
Скоро будет. Скоро будет… А его все нет!
Вдруг стук. Дверь! Точно порыв ветра, и частая дробь дождя. Шаги! Дверь нараспашку, и в комнату входят три, нет, четыре человека. Впереди женщина, позади нее двое, нет, трое военных, один в шинели, двое в стеганых куртках. В гимназии была такая преподавательница французского: так скажет «голубчик», что легче сквозь землю провалиться, чем взглянуть на нее и в чем-либо признаться. Знакомая серая дама в сером платье, волосы с проседью и кислая мина на лице, впрочем, не столько кислая, сколько сердитая. Необычная учительница, поверх платья черная кожаная куртка, волосы подстрижены, и на ногах хромовые офицерские сапоги. Нет, таких учительниц Славушка еще не видывал!
Один из двоих, что в стеганых куртках, невысокий, круглолицый, с девическими голубыми глазами, домогается какого-то ответа:
— Розалия Самойловна! Как же все-таки поступить?
— Расстрелять.
Вот что говорит дама в сером! Вот тебе и преподавательница французского языка!
— А кого? — спрашивает человек в стеганой куртке. — Отца или сына?
— Ты заметил, как побледнел Снежко? — спрашивает Славушка.
Шифрин иронически жует губами.
— Бесхарактерность!
— А кто такая Розалия Самойловна, как ты считаешь?
— Скорее всего секретарь политотдела, — догадывается Шифрин. — Может доложить и может не доложить…
— О чем?
— О любом происшествии…
Большой деревянный дом. Принадлежал, должно быть, какому-нибудь зажиточному лавочнику. Крыльцо с резным орнаментом. Из дома в дом снуют военные. Сперва не разберешь, кто командир, а кто рядовой красноармеец. Одежда у всех поистрепалась, шинелишки обветшали, сапоги стерлись, но в общем никто не унывает.
На крыльце часовой:
— Куда?
— К начальнику политотдела.
— Документы?
Шифрин предъявляет комсомольский билет, Славушка — удостоверение Успенского волкомпарта.
— Проходите.
В комнате тесно, полно и столов и людей. Писаря или кто? Большая пишущая машинка. Курносый юноша в папахе выстукивает на сером листе, повторяя вслух: «При-ка-зы-ва-ю… Приказываю…» Некто с седыми усами и во френче что-то усердно пишет. Двое спорят: «Я вам говорю… Да вы поймите!» Полевой телефон. «Я вас слушаю… Я вас слушаю…» Еще телефон…
Шифрин вытягивается перед человеком с седыми усами.
— Можно видеть начальника политотдела?
Тот указывает на дверь:
— Туда.
Никто их не замечает, не останавливает.
Шифрин бросает взгляд на Славушку: «Идем, идем…»
Опять столы. Еще больше, чем в первой комнате. Славушка жадно все рассматривает. Стопки книг. Несколько командиров. Это уже определенно командиры. На одном столе два баяна. На другом — початая буханка ржаного хлеба.
Шифрин и здесь подходит к самому пожилому:
— Кто здесь начальник политотдела?
— Скоро будет.
Мальчики замирают у стены. Выгонят или не выгонят? Кажется, они никому не мешают. А может быть, и мешают, но здесь привыкли к посторонним.
Скоро будет. Скоро будет… А его все нет!
Вдруг стук. Дверь! Точно порыв ветра, и частая дробь дождя. Шаги! Дверь нараспашку, и в комнату входят три, нет, четыре человека. Впереди женщина, позади нее двое, нет, трое военных, один в шинели, двое в стеганых куртках. В гимназии была такая преподавательница французского: так скажет «голубчик», что легче сквозь землю провалиться, чем взглянуть на нее и в чем-либо признаться. Знакомая серая дама в сером платье, волосы с проседью и кислая мина на лице, впрочем, не столько кислая, сколько сердитая. Необычная учительница, поверх платья черная кожаная куртка, волосы подстрижены, и на ногах хромовые офицерские сапоги. Нет, таких учительниц Славушка еще не видывал!
Один из двоих, что в стеганых куртках, невысокий, круглолицый, с девическими голубыми глазами, домогается какого-то ответа:
— Розалия Самойловна! Как же все-таки поступить?
— Расстрелять.
Вот что говорит дама в сером! Вот тебе и преподавательница французского языка!
— А кого? — спрашивает человек в стеганой куртке. — Отца или сына?
