Страница:
Он уходит в оборону:
— А как все-таки попала к тебе моя книжка?
Но Семин не уступает:
— Лучше ты скажи, как к тебе попала эта книжка?
— Был в Колпне, ездил подыскивать помещение для народного дома. Отвели меня ночевать к Федоровым, есть там такой бывший помещик, попалась мне эта книжка на глаза, и они ее мне подарили…
— То есть пытались тебя подкупить?
Слава искренне смеется.
— Хорош подкуп, если я едва не отобрал у них дом!
— Это мне известно, — говорит Семин. — Но этот подарок я не могу рассматривать иначе как попытку дать тебе взятку.
— А ты полегче, — обрывает его Слава. — Я вот пожалуюсь Шабунину! Как ты со мной разговариваешь?
— А как? — удивляется Семин. — Разве я не обязан выяснить все обстоятельства, связанные с этим Гумилевым?
— Все-таки ты скажи, как попала к тебе эта книжка? — настаивает Слава.
— Изволь, — соглашается Семин. — Проходил мимо вашего общежития, зашел посмотреть, как вы живете, заглянул к тебе, увидел на столе книжку, она меня заинтересовала…
— А какое ты имеешь право брать у меня что-нибудь без спросу?
Впервые за весь разговор Семин снисходительно улыбается.
— Но я же не для себя, а для дела.
— Для какого это дела?
— Распространение контрреволюционной литературы.
— Шутишь?
— Нет. — Семин кладет перед собой лист бумаги. — Давай уточним, при каких обстоятельствах попала к тебе эта книжка.
— Это что — допрос?
— Если хочешь — допрос, дело серьезней, чем ты думаешь, даже досадно, что ты сам не разобрался во вражеских происках.
— В чем же это я не разобрался?
— Отвечай лучше по существу, так мы скорее доберемся до истины.
Слава начинает нервничать, впрочем, он давно уже нервничает, — что за странная и глупая история!
Семин записывает вопрос:
— Значит, тебе эту книжку подарили Федоровы!
— Да.
— Кто именно?
А кто, правда, подарил ему эту злосчастную книжку? Федоров? Нет, все-таки не он, зачем же его подводить, тем более что Слава не сомневается в невинном характере подарка.
— Оля.
— Что за Оля?
— Племянница. Племянница Федорова.
— Это еще что за племянница?
— Обыкновенная племянница. Приехала к ним погостить.
— Откуда?
— Что — откуда?
— Откуда приехала?
— Не знаю. Кажется, из Крыма.
— Из Крыма?
— Как будто они сказали, что из Крыма.
— А ты читал эти стихи другим?
— Читал.
— Вот видишь, не только сам, но и другим читал контрреволюционные стихи.
— А что в них контрреволюционного?
— А это не нашего с тобой ума дело, я тебе уже сказал, что этот поэт расстрелян за контрреволюцию.
— Очень жаль.
— Тебе его жаль?
— Жаль, что поэты занимаются контрреволюцией.
— Это тоже не нашего ума дело.
Семин берет новый лист.
— А зачем тебе эта Оля дала книжку?
— Я уже сказал, мне понравились стихи…
— А она не просила тебя передать кому-нибудь эту книжку?
— Для чего?
Семин слегка отодвигается от стола и проникновенно смотрит в глаза Славе.
— Ты честно разговариваешь, Ознобишин?
— Да ты что?! — Слава вспыхивает. — Какие у тебя основания…
— Не ерепенься, не ерепенься, — останавливает его Семин. — Тебя тоже можно было бы привлечь, но Шабунин велел тебя не трогать.
Ах, так вот почему Семин беседует с ним так снисходительно, это Афанасий Петрович верит Славе, Афанасий Петрович, а не Семин…
— Значит, она никому не просила передать книжку?
— Нет.
— А теперь возьми ее и внимательно посмотри на обложку.
Слава смотрит… Нет, он не видит ничего, что могло бы привлечь его внимание.
— В каком году издана книжка?
— В тысяча девятьсот двадцать первом.
— Где?
А ведь не обратил внимания ни на дату, ни на место издания!
— Берлин.
— Вот то-то и оно-то! Как могла эта книжка попасть в Россию? Только через белогвардейцев. Откуда приехала твоя Оля? Соображаешь? Была в Крыму, где находились врангелевцы. Там ее и завербовали. Получила от них книжку, а зачем привезла — предстоит еще докопаться…
Перед Ознобишиным открывается бездна, Славе и самому уже не приходит в голову, что книжка к Оле попала из нейтральных рук или куплена в магазине…
— Вполне возможно, что она прибыла сюда с определенным заданием, — продолжает Семин. — Может быть, это шифр. Может быть, в стихах этих что-нибудь заключено…
— Что же ты собираешься делать? — робко спрашивает Слава.
Он уже верит Семину, уже не допускает иного толкования!
— Начнем следствие, заставим сознаться…
Слава уже забыл, что он только что возмущался тем, что Семин без спроса забрал у него книжку.
— А книжка?
Семин не спеша потянул книжку из его рук.
— Это же материал для следствия…
Он снисходительно смотрит на Славу.
— Что ж, можешь идти. Впредь тебе наука. Подписывай показания, и — никому ни слова.
Слава даже высказывает Семину свое удивление:
— Как это ты до всего докопался?
— А у нас, как в аптеке, точность и быстрота, — самодовольно констатирует Семин.
Растерянный Слава бредет в укомол.
— Созидающий башню сорвется, — вспоминается ему строка из книжки…
И как-то, сначала смутно, а потом все явственнее вспоминаются другие стихи, из-за которых у него тоже были неприятности.
Он помнит эти стихи. «Двенадцать». Поэма малознакомого Блока.
Он поссорился тогда со своими одноклассниками. Но не захотел им уступить и не уступил.
А в стихах, о которых с ним говорил Семин, было что-то вычурное.
За эти стихи он не посмел вступить в бой. И правильно, что не посмел. Он даже рад, что избавился от этих стихов. Жаль только Олю, милую девушку, на которую обрушилась такая беда. Может быть, Семин тоже не хочет неприятностей Оле, а вынужден причинять…
А Семину не жаль ни Олю, ни Славу, он вообще никого не жалеет, Семин выполняет свой служебный долг.
— А как все-таки попала к тебе моя книжка?
Но Семин не уступает:
— Лучше ты скажи, как к тебе попала эта книжка?
— Был в Колпне, ездил подыскивать помещение для народного дома. Отвели меня ночевать к Федоровым, есть там такой бывший помещик, попалась мне эта книжка на глаза, и они ее мне подарили…
— То есть пытались тебя подкупить?
Слава искренне смеется.
— Хорош подкуп, если я едва не отобрал у них дом!
— Это мне известно, — говорит Семин. — Но этот подарок я не могу рассматривать иначе как попытку дать тебе взятку.
— А ты полегче, — обрывает его Слава. — Я вот пожалуюсь Шабунину! Как ты со мной разговариваешь?
— А как? — удивляется Семин. — Разве я не обязан выяснить все обстоятельства, связанные с этим Гумилевым?
— Все-таки ты скажи, как попала к тебе эта книжка? — настаивает Слава.
— Изволь, — соглашается Семин. — Проходил мимо вашего общежития, зашел посмотреть, как вы живете, заглянул к тебе, увидел на столе книжку, она меня заинтересовала…
— А какое ты имеешь право брать у меня что-нибудь без спросу?
Впервые за весь разговор Семин снисходительно улыбается.
— Но я же не для себя, а для дела.
— Для какого это дела?
— Распространение контрреволюционной литературы.
— Шутишь?
— Нет. — Семин кладет перед собой лист бумаги. — Давай уточним, при каких обстоятельствах попала к тебе эта книжка.
— Это что — допрос?
— Если хочешь — допрос, дело серьезней, чем ты думаешь, даже досадно, что ты сам не разобрался во вражеских происках.
— В чем же это я не разобрался?
— Отвечай лучше по существу, так мы скорее доберемся до истины.
Слава начинает нервничать, впрочем, он давно уже нервничает, — что за странная и глупая история!
Семин записывает вопрос:
— Значит, тебе эту книжку подарили Федоровы!
— Да.
— Кто именно?
А кто, правда, подарил ему эту злосчастную книжку? Федоров? Нет, все-таки не он, зачем же его подводить, тем более что Слава не сомневается в невинном характере подарка.
— Оля.
— Что за Оля?
— Племянница. Племянница Федорова.
— Это еще что за племянница?
— Обыкновенная племянница. Приехала к ним погостить.
— Откуда?
— Что — откуда?
— Откуда приехала?
— Не знаю. Кажется, из Крыма.
— Из Крыма?
— Как будто они сказали, что из Крыма.
— А ты читал эти стихи другим?
— Читал.
— Вот видишь, не только сам, но и другим читал контрреволюционные стихи.
— А что в них контрреволюционного?
— А это не нашего с тобой ума дело, я тебе уже сказал, что этот поэт расстрелян за контрреволюцию.
— Очень жаль.
— Тебе его жаль?
— Жаль, что поэты занимаются контрреволюцией.
— Это тоже не нашего ума дело.
Семин берет новый лист.
— А зачем тебе эта Оля дала книжку?
— Я уже сказал, мне понравились стихи…
— А она не просила тебя передать кому-нибудь эту книжку?
— Для чего?
Семин слегка отодвигается от стола и проникновенно смотрит в глаза Славе.
— Ты честно разговариваешь, Ознобишин?
— Да ты что?! — Слава вспыхивает. — Какие у тебя основания…
— Не ерепенься, не ерепенься, — останавливает его Семин. — Тебя тоже можно было бы привлечь, но Шабунин велел тебя не трогать.
Ах, так вот почему Семин беседует с ним так снисходительно, это Афанасий Петрович верит Славе, Афанасий Петрович, а не Семин…
— Значит, она никому не просила передать книжку?
— Нет.
— А теперь возьми ее и внимательно посмотри на обложку.
Слава смотрит… Нет, он не видит ничего, что могло бы привлечь его внимание.
— В каком году издана книжка?
— В тысяча девятьсот двадцать первом.
— Где?
А ведь не обратил внимания ни на дату, ни на место издания!
— Берлин.
— Вот то-то и оно-то! Как могла эта книжка попасть в Россию? Только через белогвардейцев. Откуда приехала твоя Оля? Соображаешь? Была в Крыму, где находились врангелевцы. Там ее и завербовали. Получила от них книжку, а зачем привезла — предстоит еще докопаться…
Перед Ознобишиным открывается бездна, Славе и самому уже не приходит в голову, что книжка к Оле попала из нейтральных рук или куплена в магазине…
— Вполне возможно, что она прибыла сюда с определенным заданием, — продолжает Семин. — Может быть, это шифр. Может быть, в стихах этих что-нибудь заключено…
— Что же ты собираешься делать? — робко спрашивает Слава.
Он уже верит Семину, уже не допускает иного толкования!
— Начнем следствие, заставим сознаться…
Слава уже забыл, что он только что возмущался тем, что Семин без спроса забрал у него книжку.
— А книжка?
Семин не спеша потянул книжку из его рук.
— Это же материал для следствия…
Он снисходительно смотрит на Славу.
— Что ж, можешь идти. Впредь тебе наука. Подписывай показания, и — никому ни слова.
Слава даже высказывает Семину свое удивление:
— Как это ты до всего докопался?
— А у нас, как в аптеке, точность и быстрота, — самодовольно констатирует Семин.
Растерянный Слава бредет в укомол.
— Созидающий башню сорвется, — вспоминается ему строка из книжки…
И как-то, сначала смутно, а потом все явственнее вспоминаются другие стихи, из-за которых у него тоже были неприятности.
Он помнит эти стихи. «Двенадцать». Поэма малознакомого Блока.
Он поссорился тогда со своими одноклассниками. Но не захотел им уступить и не уступил.
Казалось бы, какое отношение имее. Исус Христос к Революции? Однако же Слава почувствовал, что этого Христа гонит вперед ветер Победившей Революции!
В белом венчике из роз -
Впереди — Исус Христос…
А в стихах, о которых с ним говорил Семин, было что-то вычурное.
За эти стихи он не посмел вступить в бой. И правильно, что не посмел. Он даже рад, что избавился от этих стихов. Жаль только Олю, милую девушку, на которую обрушилась такая беда. Может быть, Семин тоже не хочет неприятностей Оле, а вынужден причинять…
А Семину не жаль ни Олю, ни Славу, он вообще никого не жалеет, Семин выполняет свой служебный долг.
30
На этот раз Ознобишина вызвал не Шабунин, а Кузнецов, Афанасий Петрович в отлучке, опять уехал в Куракинскую волость, не могут там угомониться эсеры, все время будоражат мужиков, едва не сорвали весенний сев, «чего, мол, зря сеять, все равно все отберут», и теперь мужики грозили неуплатой продналога: «Не уплатим, и баста, ныне отряд с винтовками против мужиков не пошлют, а пошлют, так у нас обрезы недалеко запрятаны». К тому же у местных эсеров сохранились связи с Москвой. Чуть где перегиб, сразу письмо, а то так и телеграмму в Москву, и оттуда строжайшее указание: «Не допускать, исправить, наказать виновников беззаконий». У всех еще в памяти тамбовское восстание, Антонов убит, а кулацкие шайки еще бродят в тамбовских лесах. Шабунин часто ездит в Куракино — Слава всегда удивляется этому человеку: как бы он ни был возмущен или разгневан, никогда не поднимет голоса, не пригрозит, говорит мягко, убедительно, даже ласково, этот наставник посерьезней Быстрова.
А что касается Кузнецова… Кузнецов резче, категоричнее, чем Шабунин, с Кузнецовым говоришь, и все время такое ощущение, точно он мысленно смотрит на часы. Впрочем, Слава и Кузнецова уважает, человек начитанный, справедливый, зря не накричит.
— Садись, Ознобишин, — скороговорочкой роняет Кузнецов и сразу же: — Что это там у вас происходит в Луковце?
А в Луковце, в Луковской волости, ничего не происходит, в том-то и беда, что ничего не происходит, совсем вяло движется работа, слабая организация…
О том и говорит Кузнецов:
— Что-то не слышно боевых голосов в Луковце, живут, как в девятнадцатом веке.
— Мы собираемся туда, — оправдывается Слава. — Примем меры, расшевелим…
— А удастся? — спрашивает Кузнецов. — Что-то я сомневаюсь!
— Почему же? — бодро возражает Слава. — Мы их расшевелим, сменим руководителей, найдем более инициативных…
— И опять ничего не получится. А ты не обращал внимания, что в Луковце повысилась смертность среди молодежи? Протасова знаешь?
— Это который был секретарем комсомольской ячейки в школе?
— Он самый.
— Так он уже утонул.
— А о Водицыне слышал?
— Нет.
— Вот то-то что нет. Был в Луковце такой комсомолец, не ахти какой активный, но честный парень, принципиальный…
— Почему был?
— А потому, что тоже умер. Врача не вызвали, поболел три дня и помер.
Слава не улавливает связи между этими случаями.
— А сколько всего комсомольцев в Луковце?
— Слабая организация, человек тридцать.
— А было?
— В начале года человек шестьдесят.
— Куда ж половина подевалась?
— Кто уехал, кто женился, а кто просто не захотел больше состоять.
— А связи между этими покойниками и выбывшими ты не улавливаешь?
Слава думает, мучительно думает: один утонул, другой умер от неизвестной болезни, а половину организации будто корова языком слизнула.
— Так вы думаете…
— Я ничего не думаю, — коротко отрезал Кузнецов. — Если бы хоть малейшее подозрение, расследованием занялись бы ЧК или милиция. Но утонул — это утонул, а болезнь… Люди умирают от болезней? И все-таки что-то нас тревожит. Опять же, ехать с каким-либо обследованием бесполезно, да и не скажут никогда луковские мальчишки мне или Афанасию Петровичу, к примеру, что они на самом деле думают. Вот и решили попросить тебя съездить в Луковец. Ты комсомольский руководитель, приехал по делам, клуб посмотреть, школу… Пообщайся с ребятами, поинтересуйся, чем дышат, вернешься, поделишься с нами своими впечатлениями.
Маловероятно, чтобы смерть двух парней могла побудить их сверстников бежать из комсомола…
— Хорошо, я съезжу в Луковец, — послушно говорит Слава.
— Завтра.
— Хорошо, — говорит Слава.
— А оружие у тебя есть? — заботливо спрашивает Кузнецов.
— Есть у меня наган, — говорит Слава. — Только я не очень…
Хотел сказать, что не умеет стрелять, но постеснялся.
— Все-таки захвати револьвер с собой, — советует Кузнецов. — Мало ли что…
На том и закончился разговор, а наутро Слава отправился на конный двор, сказал, что надо в Луковец, запрягли ему в таратайку пегую кобылку, заскочил на минуту домой, прихватил портфель с наинужнейшей литературой, сунул вниз под книжки наган, сверху на сменку чистую рубашку и затрусил по заданному маршруту.
Село тонуло в зелени. Садочки, садочки, мелькнет в купах деревьев бурая солома крыши, и опять садочки, проулки заросли травой, тишина, спокойствие, какая уж там работа, какое там кипение страстей, живи себе потихоньку и не мешай жить другим…
На отлете, за церковью, домик, над крыльцом вывеска вязью, оранжевым по белому: «Волостной комитет РКП(б)», а ниже приколочена гвоздиком картоночка: «Волком РКСМ».
В обоих волкомах ни души, на двери увесистый замок, как на амбаре с зерном, и вокруг крыльца невытоптанная трава.
Потрусил Слава на своей таратайке искать сельсовет — палисадник с кустами давно отцветшего жасмина, в палисаднике выбеленный известью домишко, на крыльце три мужика, все трое дымят цигарками.
— Мне бы председателя…
— А вы кем будете?
— Из Малоархангельска я, из уездного комитета комсомола.
— Это вы насчет чего?
— Да больше по части просвещения. Спектакли там, библиотека…
— Спектаклев у нас давно уже не было.
— А комсомольцев у вас много?
— Ну, этих много, человек десять, должно.
— Как бы мне их найти?
— А вы сами лично кем же являетесь?
— Я секретарь. Секретарь уездного комитета.
— Значит, приехали направлять наших?
— Вообще. Познакомиться с жизнью. Поговорить.
— Понятно.
— А пока бы мне на квартиру куда-нибудь.
— И это можно.
Один из мужиков поехал с ним по селу, остановил лошадь перед белым-белым домом, еще более белым, чем сельсовет, окна в нем чернели, как проруби.
— Заходите, а лошадь сейчас заведем во двор.
— Спросить бы сперва…
— Вам говорят, заходите.
Хозяев оказалось всего двое, муж с женой, благообразные старички.
— Никому вы у нас не помешаете, вся наша поколения разлетелась.
Провожатый из сельсовета распрощался:
— Отдыхайте, соберем вам на завтра комсомольцев… Славу покормили: щи, каша, молоко.
— Не прогневайтесь, не ждали гостя.
— Не знаете, комсомольцев на селе много?
— Какие у нас комсомольцы!
От деда и бабки толку мало.
— Пойду пройдусь.
— В садочек пройдитесь, у нас там благодать.
Слава осматривает двор, а за сараем сад, не садочек с четырьмя яблоньками и рядком вишневых кустов, а настоящий большой сад со множеством обсыпанных плодами яблонь, с высокими вишневыми деревьями, со старыми липами вдоль канав. Жара спала, а медовый аромат плывет еще над курчавой травой. Хорошо бы полакомиться вишнями, созрели, должно быть…
Слава вдохнул в себя пряный медовый запах и пошел через двор на улицу.
— Вы куда? — услышал он сипловатый голос.
Хозяин избы в ситцевой рубахе и суконных синих портках, притулясь у двери, посматривал на гостя с неодобрением, да и в сиплом его голосе тоже звучало неодобрение.
— Хочу пройтись.
— Отдохнули бы лучше, постелили бы мы вам постельку, утро вечера мудренее.
— Да вы что! — снисходительно возразил Слава. — Я с курами вместе не ложусь.
— Как знаете, как знаете…
Слава шел по малонаезженной деревенской улице.
Навстречу деваха, в белой кофте с оборочками, в широкой раздувающейся юбке.
— Здравствуйте!
— Здрасьте…
— Не знаете, комсомольская ячейка у вас есть?
Слава знает, что есть, но это на всякий случай, знает ли девушка, что есть у них на селе ячейка.
— Чего ж ей не быть!
— А поблизости кто из комсомольцев живет?
Пытливый взгляд.
— А вы сами откудова?
— Из уезда я, из уездного комитета.
— У нас много комсомольцев.
— А сама не комсомолка?
— Нет… — Оглянулась по сторонам, негромко: — Комсомолка.
— А тебя как звать?
— Давыдова я, Стеша.
— А меня — Слава. Ознобишин. Может, слышала?
— Нет.
— Куда ж торопишься?
— На ганок.
— Какой ганок?
— Ну, в хоровод, на выгон.
— А мне можно?
— Кто вам не велит! — Опять оглянулась по сторонам. — Только вы сами по себе…
— А комсомольцы там тоже собираются?
— Отчего ж!
Так и дошли до выгона: впереди мелким шажком Стеша Давыдова, а чуть поодаль Слава.
На буром бревне, брошенном на лугу, сидели, прижавшись друг к другу, девушки — восемь? десять? — Слава не успел сосчитать, они разом вскочили навстречу Стеше, засмеялись, принялись тараторить; парни стояли в стороне, их поменьше, один из них лениво перебирал лады двухрядки.
Слава пошел к парням, не очень-то хорошо умел он затевать разговоры, однако деваться некуда.
Поздоровался, спросил:
— Комсомольцы среди вас есть?
— А вам к чему? — поинтересовался гармонист, потом ответил: — Ну, скажем, я, и что?
— Да ничего, — сказал Слава. — Приехал проверить, как тут у вас культурная работа ведется.
Кто-то из парней засмеялся.
— Здесь самое место для проверки, — сказал гармонист. — Каждый вечер танок, сперва припевки, а потом танцы.
— А мне можно в компанию?
— Почему ж нельзя, коли не скучно, — сказал еще кто-то из парней. — Вона сколько девок на выданье!
Девушки частили припевки, гармонист лениво подыгрывал.
Ближние избы тонули во мраке, месяц серебрился в облаках, от садов несло свежестью.
К Славе подсел худенький паренек, похоже, еще более застенчивый, чем Слава.
— Вы зачем к нам?
— Проверить культурную работу, — отвечал Слава. — Библиотеку. Драматический кружок…
— Нет у нас культурной работы, — тихо сказал паренек. — И не будет.
— Почему не будет? — спросил Слава. — Тебя как зовут?
— Василий, Вася, — назвался он. — Давыдовы мы, брат я Стешке Давыдовой.
— А почему не будет?
— Старики не позволят, — сказал Вася. — Нашей Стешке не миновать уходить из комсомола. Не уйдешь из комсомола, говорят родители, никакого приданого за тобой не дадим.
— Ну и пусть не дают, — сказал Слава. — Обойдется и без приданого.
— Нельзя, — жалостно сказал Вася. — Кто ж возьмет без приданого?
Девки все пели и пели, не столько даже пели, сколько выкрикивали отдельные слова.
Слава вдруг решился, обстановка к тому располагала, сидели они с Васей в стороне, никто им не мешал.
— А с чего это Прохоров утонул? А потом Водицын…
— Не знаю. Судьба.
Гармонист заиграл веселее, с переливами, девушки танцевали краковяк, отводя локти назад, притопывая каблучками.
— Знаете что? — сказал вдруг Вася. — Поезжайте-ка вы завтра обратно, а?
— Чего так? — удивился Слава. — Я у вас поживу.
Он поежился от ночной сырости.
— Пойду, — сказал он, на душе у него стало вдруг тревожно и смутно, и он пожалел, что оставил наган в портфеле. — Одному тут идти неопасно?
— Зачем, ребята у нас добрые, — сказал Вася. — Я вас маленько провожу.
Месяц скрылся в облаках, по сторонам шелестели деревья.
Слава пытался расспрашивать своего спутника, кто и как живет здесь, в Луковце, почему такая вялая у них организация, но Вася не знал или не умел объяснить, отделывался короткими ответами «не знаю» да «не знаю», и неожиданно, ни с то ни с сего сказал:
— В темноте у нас не убьют, ночью смерть вроде убийства… — Помолчал минуту-другую и сказал: — У нас если убьют, так при солнце, чтоб ни на кого ничего не подумали… — И оборвал разговор: — Вон ваша изба, идите. — И отстал, свернул в сторону.
Не хотелось Славе возвращаться в избу, а куда денешься? Постучал.
Открыл дед.
— Загулялись…
Зачиркал спичкой, засветил лампу, постель гостю постлана на нетопленой лежанке, на столе крынка и тарелка, прикрытые рушником.
— Поужинайте молочком с оладьями.
Есть не хотелось. Слава поблагодарил, положил под подушку портфель, лег, старик тут же задул лампу, Слава осторожно сунул руку в портфель, наган на месте, стало поспокойнее.
А тоска все не проходила, чудилась опасность, казалось, кто-то сидит в углу…
Проснулся он от яркого света, раннее летнее солнце лило сквозь стекла радостное розовое сияние, от ночных страхов не осталось следа, старики хозяева еще спали, и сейчас Слава понимал, что никакой многозначительности в покашливаниях старика не было. Спать не хотелось, уж очень великолепно сияло утро. Слава тихо спрыгнул с лежанки, вышел в сени, умылся под рукомойником, пошел в сад, сейчас, пока не наступил рабочий день, хорошо побыть с природой наедине.
Липы распушились в небе, и под сенью царственных красавиц тянулись вверх высокие вишневые деревья, на верхушках которых заманчиво алели крупные ягоды. Невозможно сдержать искушение, да и кто в шестнадцать лет удержится от такого соблазна! Слава забыл, что он ответственный работник уездного масштаба… Мальчишка, которому в пору обтрясывать чужие яблоки и общипывать чужие вишни! Да и не так уж он накажет своих хозяев, если нарвет горсть-другую…
А как залезть?
До веток с ягодами с земли не дотянуться, стволы тонковаты, полезешь — обломятся, а ягод хочется!
Полез Слава на липу, выбрал, что поближе к вишням, с ветки на ветку: выгнулся, зацепить, притянуть…
Жужжат пчелы, чирикают невидимые птахи, солнце льется сквозь зелень, такой замечательный день, все хорошо и светло…
И вдруг — голоса! Мужские бранчливые голоса. Откуда они доносятся? Из-за сарая?…
Еще заглянет кто-нибудь в сад! Вот когда Слава вспомнил, что он секретарь укомола. Залез в чужой сад рвать вишни… Лишь бы не заметили! Слава подтянулся повыше, спрятался в листву, благо она густая-густая…
Даже дыхание сдерживает, точно могут услышать!
Так и есть, идут…
Пятеро или шестеро, солидные дядьки, бородатые, усатые, серьезные такие, и с ними старик хозяин. У двух или трех веревки в руках…
Чего они ищут?
Идут между яблонь, заглядывают в канаву…
— Да здеся он, здеся, куды ему деться, — бормочет дед. — Не ходил он на улицу, я б уследил…
О ком это он?
«Да это же обо мне, — думает Слава. — Зачем я им понадобился?»
— Да где же он? — сердится один из мужиков на хозяина. — Язви тя в душу, не мог присмотреть!
— Да здеся он, в саду, куды ж ему деться, убей меня бог.
Слава прижимается к стволу.
Он начинает понимать Кузнецова: Прохоров утонул, Водицын помер от неизвестной болезни, на селе тишина, комсомольцы боятся назваться комсомольцами, нападет какая-нибудь хворь и на Славу…
«А если меня найдут?» — думает он.
Надо было захватить с собой наган, хоть какая-то все же защита…
У двух мужиков в руках оброти.
— Да где ж ён?
— А ты за кусты глянь!
— Вот тебе и добыли!
— Была бы оброть, а коня добудем!
Это его ищут, и оброти для него припасли, накинут через голову, и конец тебе, товарищ Ознобишин…
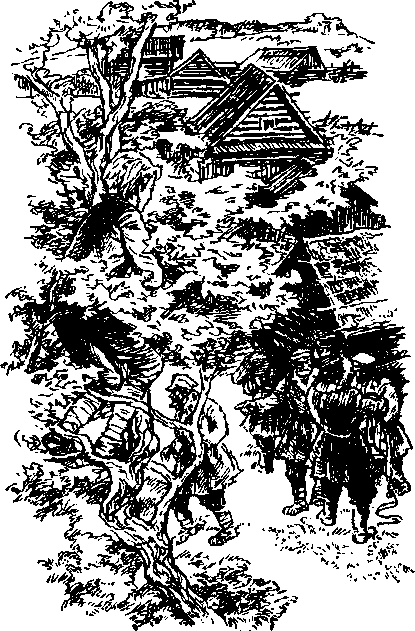 Его ищут по всему саду, заглядывают через забор, но никто не догадывается поглядеть вверх, поискать меж ветвей.
Его ищут по всему саду, заглядывают через забор, но никто не догадывается поглядеть вверх, поискать меж ветвей.
Молчи, Ознобишин, не дыши!
— Упустил ты его, старый черт, — говорит кто-то.
— Куда он денется! — говорит другой. — Лошадка его на месте.
Гурьбой уходят обратно за сарай, голоса стихают…
Но ты молчи, молчи, не шевелись, можешь не можешь, а продержись до вечера, ночью выберешься…
Однако он не белка, не так-то просто прокуковать на ветке весь божий день!
Время тянется медленно, не слышно больше ничьих голосов, должно быть, ушли, ищут по другим местам.
Кузнецов как в воду глядел. Мешал этим мужикам Прохоров, мешал Водицын, теперь приехал будоражить людей какой-то ферт из Малоархангельска…
Кто-то прыгает с забора!
Да это Васька! Тот самый Василий, что провожал его ночью…
Слава не дышит.
Васька осторожно слоняется по саду.
— Эй, ты… Как тебя… Ознобишин! Славка!… Покажься…
Зовет, но совсем негромко, точно сам таится.
— Да не бойся ты…
Эх, была не была, нельзя всем не верить!
Слава осторожно раздвигает ветви, просовывает сквозь них голову.
— Чего тебе?
Васька замирает, кажется, он перепуган еще больше, чем Слава.
— Убивать тебя приходили!
— Я пережду.
Не надо бы это говорить, вдруг выдаст?
— Ты что? Найдут, догадаются, уходить надо.
— А как лошадь вывести?
— Догонят тебя с лошадью…
Василий Давыдов… Вчера секретарь укомола понятия о нем не имел, а с сегодняшнего дня запомнит на всю жизнь.
— Убьют они нас с тобой…
Василий боится, по нему видно, он и не скрывает этого, и все же пришел спасать.
— Что же ты предлагаешь?
— Покуда те по селу рыщут, конопляниками до ложбинки, а там в рощу — и давай бог ноги!
— Запутаюсь…
— А я тебя провожу.
Василий рискует головой.
Стеной стоит конопля, темно-зеленая, густая, укрытие для ухажеров и дезертиров!
Страх подгоняет, а осторожность придерживает, пробираются не спеша, заметить их в зарослях конопли невозможно.
Ложбинка.
Вся на виду, да ничего не поделаешь.
— Теперь беги…
Василий хлопает Славу по плечу и уползает подальше в коноплю.
Слава бежит, открыто бежит, самое опасное перебежать ложбину, но вот и поросль молодых дубков, и орешник, и, продираясь сквозь кусты, бежит Слава, Луковец позади, уже далеко позади, а в соседнюю деревню охотники за черепами не сунутся.
Все-таки он старался держаться в тени, страх сильнее разума, старался идти не по самой дороге, а по обочине, чуть что — и в кусты!
Слава проходит какую-то деревеньку, доходит до Губкина. Здесь ни прятаться, ни скрываться незачем, здесь его знают, и он всех знает, ему находят подводу, и к вечеру он въезжает в Малоархангельск.
Сразу в уездный комитет партии!
Идет к Кузнецову, заглядывает по пути в приемную, там посетители, суета, значит, Шабунин вернулся, но посылал Славу Кузнецов, перед ним и нужно отчитаться о поездке.
Кузнецов за столом, обложенный книгами, сочиняет очередной доклад.
— Вернулся? — спрашивает Кузнецов. — Что-то скоро?
Ознобишин улыбается — сейчас улыбается, а утром было не до улыбок.
— Пришлось поторопиться.
— Так много неотложных дел в укомоле? — не без иронии спрашивает Кузнецов.
— Да, пожалуй, что и в укомоле, — соглашается Слава.
— А что в Луковце? — интересуется Кузнецов. — Удалось что-нибудь прояснить? Что говорят?
— А ничего не говорят.
— Так-таки ничего?
— Ничего.
— Похоронили и забыли?
— Похоронили, но не забыли. Молчат.
— Что-то ты загадками говоришь.
— Убили Прохорова и Водицына.
Кузнецов недоверчиво смотрит на Ознобишина.
— Ты рассказы о Шерлоке Холмсе читал?
— Читал.
— Суток не провел в Луковце, а уже во всем разобрался.
— Чего уж разбираться, коли меня самого убить хотели.
— Тебе не показалось?
— Чего уж казаться. Пришли душить. Открыто, утром…
Кузнецов обе руки на стол, вонзил глаза в Ознобишина:
— Ну-ка, ну-ка…
Слава рассказал все, как было.
Кузнецов помрачнел.
— Значит, не обмануло нас наше чутье… — Он ласково посмотрел на Ознобишина. — Молодец! Что думаешь дальше?
А что касается Кузнецова… Кузнецов резче, категоричнее, чем Шабунин, с Кузнецовым говоришь, и все время такое ощущение, точно он мысленно смотрит на часы. Впрочем, Слава и Кузнецова уважает, человек начитанный, справедливый, зря не накричит.
— Садись, Ознобишин, — скороговорочкой роняет Кузнецов и сразу же: — Что это там у вас происходит в Луковце?
А в Луковце, в Луковской волости, ничего не происходит, в том-то и беда, что ничего не происходит, совсем вяло движется работа, слабая организация…
О том и говорит Кузнецов:
— Что-то не слышно боевых голосов в Луковце, живут, как в девятнадцатом веке.
— Мы собираемся туда, — оправдывается Слава. — Примем меры, расшевелим…
— А удастся? — спрашивает Кузнецов. — Что-то я сомневаюсь!
— Почему же? — бодро возражает Слава. — Мы их расшевелим, сменим руководителей, найдем более инициативных…
— И опять ничего не получится. А ты не обращал внимания, что в Луковце повысилась смертность среди молодежи? Протасова знаешь?
— Это который был секретарем комсомольской ячейки в школе?
— Он самый.
— Так он уже утонул.
— А о Водицыне слышал?
— Нет.
— Вот то-то что нет. Был в Луковце такой комсомолец, не ахти какой активный, но честный парень, принципиальный…
— Почему был?
— А потому, что тоже умер. Врача не вызвали, поболел три дня и помер.
Слава не улавливает связи между этими случаями.
— А сколько всего комсомольцев в Луковце?
— Слабая организация, человек тридцать.
— А было?
— В начале года человек шестьдесят.
— Куда ж половина подевалась?
— Кто уехал, кто женился, а кто просто не захотел больше состоять.
— А связи между этими покойниками и выбывшими ты не улавливаешь?
Слава думает, мучительно думает: один утонул, другой умер от неизвестной болезни, а половину организации будто корова языком слизнула.
— Так вы думаете…
— Я ничего не думаю, — коротко отрезал Кузнецов. — Если бы хоть малейшее подозрение, расследованием занялись бы ЧК или милиция. Но утонул — это утонул, а болезнь… Люди умирают от болезней? И все-таки что-то нас тревожит. Опять же, ехать с каким-либо обследованием бесполезно, да и не скажут никогда луковские мальчишки мне или Афанасию Петровичу, к примеру, что они на самом деле думают. Вот и решили попросить тебя съездить в Луковец. Ты комсомольский руководитель, приехал по делам, клуб посмотреть, школу… Пообщайся с ребятами, поинтересуйся, чем дышат, вернешься, поделишься с нами своими впечатлениями.
Маловероятно, чтобы смерть двух парней могла побудить их сверстников бежать из комсомола…
— Хорошо, я съезжу в Луковец, — послушно говорит Слава.
— Завтра.
— Хорошо, — говорит Слава.
— А оружие у тебя есть? — заботливо спрашивает Кузнецов.
— Есть у меня наган, — говорит Слава. — Только я не очень…
Хотел сказать, что не умеет стрелять, но постеснялся.
— Все-таки захвати револьвер с собой, — советует Кузнецов. — Мало ли что…
На том и закончился разговор, а наутро Слава отправился на конный двор, сказал, что надо в Луковец, запрягли ему в таратайку пегую кобылку, заскочил на минуту домой, прихватил портфель с наинужнейшей литературой, сунул вниз под книжки наган, сверху на сменку чистую рубашку и затрусил по заданному маршруту.
Село тонуло в зелени. Садочки, садочки, мелькнет в купах деревьев бурая солома крыши, и опять садочки, проулки заросли травой, тишина, спокойствие, какая уж там работа, какое там кипение страстей, живи себе потихоньку и не мешай жить другим…
На отлете, за церковью, домик, над крыльцом вывеска вязью, оранжевым по белому: «Волостной комитет РКП(б)», а ниже приколочена гвоздиком картоночка: «Волком РКСМ».
В обоих волкомах ни души, на двери увесистый замок, как на амбаре с зерном, и вокруг крыльца невытоптанная трава.
Потрусил Слава на своей таратайке искать сельсовет — палисадник с кустами давно отцветшего жасмина, в палисаднике выбеленный известью домишко, на крыльце три мужика, все трое дымят цигарками.
— Мне бы председателя…
— А вы кем будете?
— Из Малоархангельска я, из уездного комитета комсомола.
— Это вы насчет чего?
— Да больше по части просвещения. Спектакли там, библиотека…
— Спектаклев у нас давно уже не было.
— А комсомольцев у вас много?
— Ну, этих много, человек десять, должно.
— Как бы мне их найти?
— А вы сами лично кем же являетесь?
— Я секретарь. Секретарь уездного комитета.
— Значит, приехали направлять наших?
— Вообще. Познакомиться с жизнью. Поговорить.
— Понятно.
— А пока бы мне на квартиру куда-нибудь.
— И это можно.
Один из мужиков поехал с ним по селу, остановил лошадь перед белым-белым домом, еще более белым, чем сельсовет, окна в нем чернели, как проруби.
— Заходите, а лошадь сейчас заведем во двор.
— Спросить бы сперва…
— Вам говорят, заходите.
Хозяев оказалось всего двое, муж с женой, благообразные старички.
— Никому вы у нас не помешаете, вся наша поколения разлетелась.
Провожатый из сельсовета распрощался:
— Отдыхайте, соберем вам на завтра комсомольцев… Славу покормили: щи, каша, молоко.
— Не прогневайтесь, не ждали гостя.
— Не знаете, комсомольцев на селе много?
— Какие у нас комсомольцы!
От деда и бабки толку мало.
— Пойду пройдусь.
— В садочек пройдитесь, у нас там благодать.
Слава осматривает двор, а за сараем сад, не садочек с четырьмя яблоньками и рядком вишневых кустов, а настоящий большой сад со множеством обсыпанных плодами яблонь, с высокими вишневыми деревьями, со старыми липами вдоль канав. Жара спала, а медовый аромат плывет еще над курчавой травой. Хорошо бы полакомиться вишнями, созрели, должно быть…
Слава вдохнул в себя пряный медовый запах и пошел через двор на улицу.
— Вы куда? — услышал он сипловатый голос.
Хозяин избы в ситцевой рубахе и суконных синих портках, притулясь у двери, посматривал на гостя с неодобрением, да и в сиплом его голосе тоже звучало неодобрение.
— Хочу пройтись.
— Отдохнули бы лучше, постелили бы мы вам постельку, утро вечера мудренее.
— Да вы что! — снисходительно возразил Слава. — Я с курами вместе не ложусь.
— Как знаете, как знаете…
Слава шел по малонаезженной деревенской улице.
Навстречу деваха, в белой кофте с оборочками, в широкой раздувающейся юбке.
— Здравствуйте!
— Здрасьте…
— Не знаете, комсомольская ячейка у вас есть?
Слава знает, что есть, но это на всякий случай, знает ли девушка, что есть у них на селе ячейка.
— Чего ж ей не быть!
— А поблизости кто из комсомольцев живет?
Пытливый взгляд.
— А вы сами откудова?
— Из уезда я, из уездного комитета.
— У нас много комсомольцев.
— А сама не комсомолка?
— Нет… — Оглянулась по сторонам, негромко: — Комсомолка.
— А тебя как звать?
— Давыдова я, Стеша.
— А меня — Слава. Ознобишин. Может, слышала?
— Нет.
— Куда ж торопишься?
— На ганок.
— Какой ганок?
— Ну, в хоровод, на выгон.
— А мне можно?
— Кто вам не велит! — Опять оглянулась по сторонам. — Только вы сами по себе…
— А комсомольцы там тоже собираются?
— Отчего ж!
Так и дошли до выгона: впереди мелким шажком Стеша Давыдова, а чуть поодаль Слава.
На буром бревне, брошенном на лугу, сидели, прижавшись друг к другу, девушки — восемь? десять? — Слава не успел сосчитать, они разом вскочили навстречу Стеше, засмеялись, принялись тараторить; парни стояли в стороне, их поменьше, один из них лениво перебирал лады двухрядки.
Слава пошел к парням, не очень-то хорошо умел он затевать разговоры, однако деваться некуда.
Поздоровался, спросил:
— Комсомольцы среди вас есть?
— А вам к чему? — поинтересовался гармонист, потом ответил: — Ну, скажем, я, и что?
— Да ничего, — сказал Слава. — Приехал проверить, как тут у вас культурная работа ведется.
Кто-то из парней засмеялся.
— Здесь самое место для проверки, — сказал гармонист. — Каждый вечер танок, сперва припевки, а потом танцы.
— А мне можно в компанию?
— Почему ж нельзя, коли не скучно, — сказал еще кто-то из парней. — Вона сколько девок на выданье!
Девушки частили припевки, гармонист лениво подыгрывал.
Слава сел на край бревна.
Не ходи, маманя, в баню,
Мой миленок тут как тут,
Пока сходишь, мама, в баню,
Меня со двору сведут!
Ближние избы тонули во мраке, месяц серебрился в облаках, от садов несло свежестью.
К Славе подсел худенький паренек, похоже, еще более застенчивый, чем Слава.
— Вы зачем к нам?
— Проверить культурную работу, — отвечал Слава. — Библиотеку. Драматический кружок…
— Нет у нас культурной работы, — тихо сказал паренек. — И не будет.
— Почему не будет? — спросил Слава. — Тебя как зовут?
— Василий, Вася, — назвался он. — Давыдовы мы, брат я Стешке Давыдовой.
— А почему не будет?
— Старики не позволят, — сказал Вася. — Нашей Стешке не миновать уходить из комсомола. Не уйдешь из комсомола, говорят родители, никакого приданого за тобой не дадим.
— Ну и пусть не дают, — сказал Слава. — Обойдется и без приданого.
— Нельзя, — жалостно сказал Вася. — Кто ж возьмет без приданого?
Девки все пели и пели, не столько даже пели, сколько выкрикивали отдельные слова.
Слава вдруг решился, обстановка к тому располагала, сидели они с Васей в стороне, никто им не мешал.
— А с чего это Прохоров утонул? А потом Водицын…
— Не знаю. Судьба.
Гармонист заиграл веселее, с переливами, девушки танцевали краковяк, отводя локти назад, притопывая каблучками.
— Знаете что? — сказал вдруг Вася. — Поезжайте-ка вы завтра обратно, а?
— Чего так? — удивился Слава. — Я у вас поживу.
Он поежился от ночной сырости.
— Пойду, — сказал он, на душе у него стало вдруг тревожно и смутно, и он пожалел, что оставил наган в портфеле. — Одному тут идти неопасно?
— Зачем, ребята у нас добрые, — сказал Вася. — Я вас маленько провожу.
Месяц скрылся в облаках, по сторонам шелестели деревья.
Слава пытался расспрашивать своего спутника, кто и как живет здесь, в Луковце, почему такая вялая у них организация, но Вася не знал или не умел объяснить, отделывался короткими ответами «не знаю» да «не знаю», и неожиданно, ни с то ни с сего сказал:
— В темноте у нас не убьют, ночью смерть вроде убийства… — Помолчал минуту-другую и сказал: — У нас если убьют, так при солнце, чтоб ни на кого ничего не подумали… — И оборвал разговор: — Вон ваша изба, идите. — И отстал, свернул в сторону.
Не хотелось Славе возвращаться в избу, а куда денешься? Постучал.
Открыл дед.
— Загулялись…
Зачиркал спичкой, засветил лампу, постель гостю постлана на нетопленой лежанке, на столе крынка и тарелка, прикрытые рушником.
— Поужинайте молочком с оладьями.
Есть не хотелось. Слава поблагодарил, положил под подушку портфель, лег, старик тут же задул лампу, Слава осторожно сунул руку в портфель, наган на месте, стало поспокойнее.
А тоска все не проходила, чудилась опасность, казалось, кто-то сидит в углу…
Проснулся он от яркого света, раннее летнее солнце лило сквозь стекла радостное розовое сияние, от ночных страхов не осталось следа, старики хозяева еще спали, и сейчас Слава понимал, что никакой многозначительности в покашливаниях старика не было. Спать не хотелось, уж очень великолепно сияло утро. Слава тихо спрыгнул с лежанки, вышел в сени, умылся под рукомойником, пошел в сад, сейчас, пока не наступил рабочий день, хорошо побыть с природой наедине.
Липы распушились в небе, и под сенью царственных красавиц тянулись вверх высокие вишневые деревья, на верхушках которых заманчиво алели крупные ягоды. Невозможно сдержать искушение, да и кто в шестнадцать лет удержится от такого соблазна! Слава забыл, что он ответственный работник уездного масштаба… Мальчишка, которому в пору обтрясывать чужие яблоки и общипывать чужие вишни! Да и не так уж он накажет своих хозяев, если нарвет горсть-другую…
А как залезть?
До веток с ягодами с земли не дотянуться, стволы тонковаты, полезешь — обломятся, а ягод хочется!
Полез Слава на липу, выбрал, что поближе к вишням, с ветки на ветку: выгнулся, зацепить, притянуть…
Жужжат пчелы, чирикают невидимые птахи, солнце льется сквозь зелень, такой замечательный день, все хорошо и светло…
И вдруг — голоса! Мужские бранчливые голоса. Откуда они доносятся? Из-за сарая?…
Еще заглянет кто-нибудь в сад! Вот когда Слава вспомнил, что он секретарь укомола. Залез в чужой сад рвать вишни… Лишь бы не заметили! Слава подтянулся повыше, спрятался в листву, благо она густая-густая…
Даже дыхание сдерживает, точно могут услышать!
Так и есть, идут…
Пятеро или шестеро, солидные дядьки, бородатые, усатые, серьезные такие, и с ними старик хозяин. У двух или трех веревки в руках…
Чего они ищут?
Идут между яблонь, заглядывают в канаву…
— Да здеся он, здеся, куды ему деться, — бормочет дед. — Не ходил он на улицу, я б уследил…
О ком это он?
«Да это же обо мне, — думает Слава. — Зачем я им понадобился?»
— Да где же он? — сердится один из мужиков на хозяина. — Язви тя в душу, не мог присмотреть!
— Да здеся он, в саду, куды ж ему деться, убей меня бог.
Слава прижимается к стволу.
Он начинает понимать Кузнецова: Прохоров утонул, Водицын помер от неизвестной болезни, на селе тишина, комсомольцы боятся назваться комсомольцами, нападет какая-нибудь хворь и на Славу…
«А если меня найдут?» — думает он.
Надо было захватить с собой наган, хоть какая-то все же защита…
У двух мужиков в руках оброти.
— Да где ж ён?
— А ты за кусты глянь!
— Вот тебе и добыли!
— Была бы оброть, а коня добудем!
Это его ищут, и оброти для него припасли, накинут через голову, и конец тебе, товарищ Ознобишин…
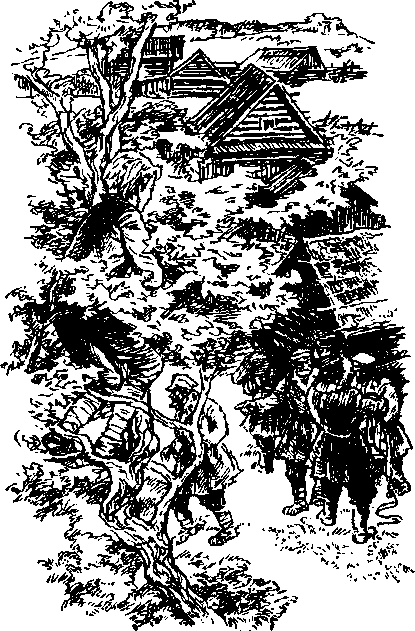
Молчи, Ознобишин, не дыши!
— Упустил ты его, старый черт, — говорит кто-то.
— Куда он денется! — говорит другой. — Лошадка его на месте.
Гурьбой уходят обратно за сарай, голоса стихают…
Но ты молчи, молчи, не шевелись, можешь не можешь, а продержись до вечера, ночью выберешься…
Однако он не белка, не так-то просто прокуковать на ветке весь божий день!
Время тянется медленно, не слышно больше ничьих голосов, должно быть, ушли, ищут по другим местам.
Кузнецов как в воду глядел. Мешал этим мужикам Прохоров, мешал Водицын, теперь приехал будоражить людей какой-то ферт из Малоархангельска…
Кто-то прыгает с забора!
Да это Васька! Тот самый Василий, что провожал его ночью…
Слава не дышит.
Васька осторожно слоняется по саду.
— Эй, ты… Как тебя… Ознобишин! Славка!… Покажься…
Зовет, но совсем негромко, точно сам таится.
— Да не бойся ты…
Эх, была не была, нельзя всем не верить!
Слава осторожно раздвигает ветви, просовывает сквозь них голову.
— Чего тебе?
Васька замирает, кажется, он перепуган еще больше, чем Слава.
— Убивать тебя приходили!
— Я пережду.
Не надо бы это говорить, вдруг выдаст?
— Ты что? Найдут, догадаются, уходить надо.
— А как лошадь вывести?
— Догонят тебя с лошадью…
Василий Давыдов… Вчера секретарь укомола понятия о нем не имел, а с сегодняшнего дня запомнит на всю жизнь.
— Убьют они нас с тобой…
Василий боится, по нему видно, он и не скрывает этого, и все же пришел спасать.
— Что же ты предлагаешь?
— Покуда те по селу рыщут, конопляниками до ложбинки, а там в рощу — и давай бог ноги!
— Запутаюсь…
— А я тебя провожу.
Василий рискует головой.
Стеной стоит конопля, темно-зеленая, густая, укрытие для ухажеров и дезертиров!
Страх подгоняет, а осторожность придерживает, пробираются не спеша, заметить их в зарослях конопли невозможно.
Ложбинка.
Вся на виду, да ничего не поделаешь.
— Теперь беги…
Василий хлопает Славу по плечу и уползает подальше в коноплю.
Слава бежит, открыто бежит, самое опасное перебежать ложбину, но вот и поросль молодых дубков, и орешник, и, продираясь сквозь кусты, бежит Слава, Луковец позади, уже далеко позади, а в соседнюю деревню охотники за черепами не сунутся.
Все-таки он старался держаться в тени, страх сильнее разума, старался идти не по самой дороге, а по обочине, чуть что — и в кусты!
Слава проходит какую-то деревеньку, доходит до Губкина. Здесь ни прятаться, ни скрываться незачем, здесь его знают, и он всех знает, ему находят подводу, и к вечеру он въезжает в Малоархангельск.
Сразу в уездный комитет партии!
Идет к Кузнецову, заглядывает по пути в приемную, там посетители, суета, значит, Шабунин вернулся, но посылал Славу Кузнецов, перед ним и нужно отчитаться о поездке.
Кузнецов за столом, обложенный книгами, сочиняет очередной доклад.
— Вернулся? — спрашивает Кузнецов. — Что-то скоро?
Ознобишин улыбается — сейчас улыбается, а утром было не до улыбок.
— Пришлось поторопиться.
— Так много неотложных дел в укомоле? — не без иронии спрашивает Кузнецов.
— Да, пожалуй, что и в укомоле, — соглашается Слава.
— А что в Луковце? — интересуется Кузнецов. — Удалось что-нибудь прояснить? Что говорят?
— А ничего не говорят.
— Так-таки ничего?
— Ничего.
— Похоронили и забыли?
— Похоронили, но не забыли. Молчат.
— Что-то ты загадками говоришь.
— Убили Прохорова и Водицына.
Кузнецов недоверчиво смотрит на Ознобишина.
— Ты рассказы о Шерлоке Холмсе читал?
— Читал.
— Суток не провел в Луковце, а уже во всем разобрался.
— Чего уж разбираться, коли меня самого убить хотели.
— Тебе не показалось?
— Чего уж казаться. Пришли душить. Открыто, утром…
Кузнецов обе руки на стол, вонзил глаза в Ознобишина:
— Ну-ка, ну-ка…
Слава рассказал все, как было.
Кузнецов помрачнел.
— Значит, не обмануло нас наше чутье… — Он ласково посмотрел на Ознобишина. — Молодец! Что думаешь дальше?
