Страница:
— Девушек тоже надо привлекать, — оправдался Слава. — Женская в общем тема…
— Ну что она там начирикает? — Кузнецов поморщился, предложил: — Возьмись-ка лучше ты сам?
— Я и так выступлю, — возразил Слава.
— Поручи кому-нибудь другому, — предложил Кузнецов. — Хотя бы Ушакову, он сам у вас как девушка…
Слава не согласился с Кузнецовым, ему хотелось, чтобы доклад делала девушка, — договорились, что будут два докладчика.
По городу расклеили плакаты, рисовали их все работники укомола.
— Семья и коммунистическое общество, — диктовал Слава.
Ушаков переставил слова:
— Коммунистическое общество и семья.
Слава не придал перестановке слов большого значения.
— Не все ли равно?
Никто не ожидал, что на диспут придет так много народа, — пришла работающая молодежь, пришли школьники, много учителей, зал партийного клуба заполнен до отказа, хотя приходить не обязывали никого.
Собрание вели Ознобишин и Железнов, для солидности пригласили в президиум директоров обеих школ, с опозданием появился Кузнецов, сел рядом с учителями.
— Вступительное слово предоставляется работнику укомола товарищу Вержбловской.
Раскрасневшаяся, смущающаяся, поднялась она на трибуну, в белой блузке с черным бархатным бантиком.
Увы, Кузнецов не ошибся: Франя чирикала…
На этот раз она действительно прочла брошюру Коллонтай, ее она и повторяла.
Свободные чувства, союз двух, никакого принуждения ни по закону, ни по семейным обстоятельствам, дети ничем не связывают родителей, для детей построят тысячи интернатов…
Диспут, может быть, и провалился бы, ограничься его организатор своей выдвиженкой…
Но Ушаков — это уже другой коленкор!
Его не занимал вопрос, какие обязательства накладывает на мужчин и женщин физическая близость… Он не зря переставил слова. Каким будет коммунистическое общество. Вот что его интересовало! И, лишь представив себе это отдаленное общество, можно представить, каковы будут его институты.
Этот деревенский паренек был совсем не так прост, как казался, и начитан немногим меньше Ознобишина.
— Мы не можем еще с большей достоверностью сказать, каким будет коммунистическое общество, — говорил Ушаков. — Мы можем лишь определить его главные особенности. Уже несколько столетий назад лучшие умы человечества думали о том, каким будет раскрепощенное человеческое общество, избавленное от власти собственности и эксплуатации человека человеком. Четыреста лет назад англичанин Томас Мор написал замечательную книгу «Утопия», столетие спустя итальянец Кампанелла написал «Город Солнца», через двести лет появились книги Фурье и Сен-Симона…
Он называл имена великих утопистов. Откуда он их взял? Да из того же источника, из которого черпал свои познания Слава. В те годы Госиздат заполнил страну книгами прогрессивных мыслителей всех времен и народов. «Город Солнца» и «Утопия» лежали на столах у многих комсомольских работников…
— Семья? — спрашивал Ушаков. — Что определяет общественные и семейные отношения? Прежде всего политический и экономический уклад общества. Представьте себе, упразднена частная собственность, устранено социальное неравенство, труд стал внутренней потребностью человека. Кампанелла мечтал именно о таком обществе! И написал книгу о городе, жители которого руководствуются этими принципами. А сто лет назад, когда декабристы пытались уничтожить в России самодержавие, французский мыслитель Фурье высказал предположение, что в будущем коммунистическом обществе развитие производительных сил сотрет грани между умственным и физическим трудом…
Кузнецов улыбался, никогда Слава не подумал бы, что Кузнецов способен так счастливо улыбаться, и не замечал, что и сам он улыбается так же счастливо и радостно.
Вот ради чего они все, собравшиеся в этом зале, жили и боролись, вот почему стремились на фронты гражданской войны, ловили дезертиров, искали запрятанный кулаками хлеб и экономили каждую каплю керосина!
И слушали Ушакова совсем не так, как Франю.
— А теперь представьте себе общество, о котором мечтали Маркс и Энгельс и которое мы теперь создаем, и подумайте, сохранится ли семья в таком обществе? Разумеется, сохранится. Счастливый человек не откажется от своего ребенка, не откажется же он от самого себя, потому что ребенок — это его собственное и более совершенное воплощение. А если человек любит своего ребенка, значит, любит и женщину, родившую этого ребенка, потому что гармонический человек будущего будет просто не способен искать легких и временных связей.
Слава знал, что Никита Ушаков еще не ухаживает за девушками, ни в кого не влюблен, для него любовь еще отвлеченное понятие, но именно такие чистые и уверенные в себе люди и создают хорошие семьи.
Ушаков категоричен, и, боже мой, какие же споры разгорелись в зале!
Как будут воспитываться дети и какими должны быть отношения между супругами, имеет ли право мужчина разойтись с женой, если у нее от него дети, кто из супругов должен обеспечивать семью, какие обязательства возникают у общества по отношению к семье и, наконец, существует ли любовь и что такое счастье…
И вдруг Славе открылось, до чего же все они выросли. Оказывается, не один Ушаков читал Кампанеллу…
И вспомнился Славе разговор о будущем года два назад на крыльце Успенской школы. Как они тогда были наивны! А сегодня ребята так и чешут: какой будет труд, как повлияет на человеческие отношения покорение природы, что нужно для гармонического развития личности… Не все, но многие спорили вровень с Ушаковым, и многие из тех, что выступали сегодня в клубе, еще покажут себя!
— Ты будешь выступать? — спросил Кузнецов.
Слава пожал плечами:
— Зачем?
— А я скажу несколько слов.
Кузнецов поднялся на трибуну, но заговорил не столько на семейные темы, сколько возвращал своих слушателей к заботам сегодняшнего дня:
— Заглядывать в завтрашний день, конечно, надо, но не забывайте и о сегодняшнем, семьи надо не разрушать, а крепить, так легче и дружнее работается, а дел у нас по горло…
Даже Кузнецов остался доволен диспутом и, что редко случалось, на прощание крепко и одобрительно пожал руки и Ушакову и Ознобишину.
Никита и Слава вышли на улицу.
— А ты, оказывается, много читаешь, — похвалил Слава Ушакова.
— Я бы еще больше читал, да времени не хватает, — огорченно отозвался Никита. — Уж больно много у меня дома хлопот…
И заторопился к себе в деревню, он никогда не оставался ночевать в городе.
Слава услышал за своей спиной перебор каблучков, его догоняла Франя.
— До чего хорошо прошло! — защебетала она. — Как ты думаешь, Кузнецову понравился мой доклад?
Она принялась делиться впечатлениями, точно Ознобишин не был участником диспута.
— Я зайду к тебе? — неожиданно предложила ему Франя.
Она никогда не заходила к Славе, и ему польстило ее внимание.
— Зайдем, — согласился он.
Тихонько, чтобы не разбудить Эмму Артуровну, миновали зал, вошли в темную комнату.
Слава повернул выключатель, лампочка осветила кое-как застеленную кровать и разбросанные по столу газеты.
— Как у тебя неуютно! — пробормотала Франя.
— Извини, — сказал Слава. — Не успеваю убраться.
Франя присела на кровать.
«Нет, все-таки она хорошенькая», — подумал Слава, посматривая то на Франю, то на обои.
— Помнишь, как ты привез мне конфеты?
— А зачем ты обманывала Сергея? — упрекнул ее Слава.
— Чем же это я его обманывала?
— А тем, что делала вид, будто влюблена в него, я сам это видел.
— Видел то, чего не было! — Франя рассердилась. — И вообще, если хочешь, любить можно сто раз!
— Любовь бывает только один раз в жизни!
Франя пожала плечами.
— Ты еще маленький и ничего не понимаешь.
— И сколько же раз ты уже любила? — поинтересовался Слава.
— Я? — Франя ласково ему улыбнулась. — Дурашка, представь, я еще ни разу никого не любила.
Слава в смущении отвернулся к окну.
— А меня ты мог бы полюбить? — неожиданно спросила его Франя.
Он не знал, что ей на это сказать, диспут на такую скользкую тему куда легче было вести в клубе, он и в самом деле не знал, может ли он полюбить Франю, она ему нравилась и не нравилась, иногда он ею любовался, а иногда она чем-то ужасно его раздражала.
— А ты сам любил кого-нибудь?
— Нет, — признался Слава. — Когда же мне было…
— И сейчас ни в кого не влюблен? — допытывалась Франя.
— Нет, — с отчаянием повторил Слава.
— А почему? — капризно спросила Франя.
Тогда Слава повернулся к ней и, глядя в ее широко раскрытые овечьи глаза, нерешительно сказал:
— Потому, что я… еще не понимаю… ну, понимаешь, я еще не понимаю, что такое любовь.
— Ну что она там начирикает? — Кузнецов поморщился, предложил: — Возьмись-ка лучше ты сам?
— Я и так выступлю, — возразил Слава.
— Поручи кому-нибудь другому, — предложил Кузнецов. — Хотя бы Ушакову, он сам у вас как девушка…
Слава не согласился с Кузнецовым, ему хотелось, чтобы доклад делала девушка, — договорились, что будут два докладчика.
По городу расклеили плакаты, рисовали их все работники укомола.
— Семья и коммунистическое общество, — диктовал Слава.
Ушаков переставил слова:
— Коммунистическое общество и семья.
Слава не придал перестановке слов большого значения.
— Не все ли равно?
Никто не ожидал, что на диспут придет так много народа, — пришла работающая молодежь, пришли школьники, много учителей, зал партийного клуба заполнен до отказа, хотя приходить не обязывали никого.
Собрание вели Ознобишин и Железнов, для солидности пригласили в президиум директоров обеих школ, с опозданием появился Кузнецов, сел рядом с учителями.
— Вступительное слово предоставляется работнику укомола товарищу Вержбловской.
Раскрасневшаяся, смущающаяся, поднялась она на трибуну, в белой блузке с черным бархатным бантиком.
Увы, Кузнецов не ошибся: Франя чирикала…
На этот раз она действительно прочла брошюру Коллонтай, ее она и повторяла.
Свободные чувства, союз двух, никакого принуждения ни по закону, ни по семейным обстоятельствам, дети ничем не связывают родителей, для детей построят тысячи интернатов…
Диспут, может быть, и провалился бы, ограничься его организатор своей выдвиженкой…
Но Ушаков — это уже другой коленкор!
Его не занимал вопрос, какие обязательства накладывает на мужчин и женщин физическая близость… Он не зря переставил слова. Каким будет коммунистическое общество. Вот что его интересовало! И, лишь представив себе это отдаленное общество, можно представить, каковы будут его институты.
Этот деревенский паренек был совсем не так прост, как казался, и начитан немногим меньше Ознобишина.
— Мы не можем еще с большей достоверностью сказать, каким будет коммунистическое общество, — говорил Ушаков. — Мы можем лишь определить его главные особенности. Уже несколько столетий назад лучшие умы человечества думали о том, каким будет раскрепощенное человеческое общество, избавленное от власти собственности и эксплуатации человека человеком. Четыреста лет назад англичанин Томас Мор написал замечательную книгу «Утопия», столетие спустя итальянец Кампанелла написал «Город Солнца», через двести лет появились книги Фурье и Сен-Симона…
Он называл имена великих утопистов. Откуда он их взял? Да из того же источника, из которого черпал свои познания Слава. В те годы Госиздат заполнил страну книгами прогрессивных мыслителей всех времен и народов. «Город Солнца» и «Утопия» лежали на столах у многих комсомольских работников…
— Семья? — спрашивал Ушаков. — Что определяет общественные и семейные отношения? Прежде всего политический и экономический уклад общества. Представьте себе, упразднена частная собственность, устранено социальное неравенство, труд стал внутренней потребностью человека. Кампанелла мечтал именно о таком обществе! И написал книгу о городе, жители которого руководствуются этими принципами. А сто лет назад, когда декабристы пытались уничтожить в России самодержавие, французский мыслитель Фурье высказал предположение, что в будущем коммунистическом обществе развитие производительных сил сотрет грани между умственным и физическим трудом…
Кузнецов улыбался, никогда Слава не подумал бы, что Кузнецов способен так счастливо улыбаться, и не замечал, что и сам он улыбается так же счастливо и радостно.
Вот ради чего они все, собравшиеся в этом зале, жили и боролись, вот почему стремились на фронты гражданской войны, ловили дезертиров, искали запрятанный кулаками хлеб и экономили каждую каплю керосина!
И слушали Ушакова совсем не так, как Франю.
— А теперь представьте себе общество, о котором мечтали Маркс и Энгельс и которое мы теперь создаем, и подумайте, сохранится ли семья в таком обществе? Разумеется, сохранится. Счастливый человек не откажется от своего ребенка, не откажется же он от самого себя, потому что ребенок — это его собственное и более совершенное воплощение. А если человек любит своего ребенка, значит, любит и женщину, родившую этого ребенка, потому что гармонический человек будущего будет просто не способен искать легких и временных связей.
Слава знал, что Никита Ушаков еще не ухаживает за девушками, ни в кого не влюблен, для него любовь еще отвлеченное понятие, но именно такие чистые и уверенные в себе люди и создают хорошие семьи.
Ушаков категоричен, и, боже мой, какие же споры разгорелись в зале!
Как будут воспитываться дети и какими должны быть отношения между супругами, имеет ли право мужчина разойтись с женой, если у нее от него дети, кто из супругов должен обеспечивать семью, какие обязательства возникают у общества по отношению к семье и, наконец, существует ли любовь и что такое счастье…
И вдруг Славе открылось, до чего же все они выросли. Оказывается, не один Ушаков читал Кампанеллу…
И вспомнился Славе разговор о будущем года два назад на крыльце Успенской школы. Как они тогда были наивны! А сегодня ребята так и чешут: какой будет труд, как повлияет на человеческие отношения покорение природы, что нужно для гармонического развития личности… Не все, но многие спорили вровень с Ушаковым, и многие из тех, что выступали сегодня в клубе, еще покажут себя!
— Ты будешь выступать? — спросил Кузнецов.
Слава пожал плечами:
— Зачем?
— А я скажу несколько слов.
Кузнецов поднялся на трибуну, но заговорил не столько на семейные темы, сколько возвращал своих слушателей к заботам сегодняшнего дня:
— Заглядывать в завтрашний день, конечно, надо, но не забывайте и о сегодняшнем, семьи надо не разрушать, а крепить, так легче и дружнее работается, а дел у нас по горло…
Даже Кузнецов остался доволен диспутом и, что редко случалось, на прощание крепко и одобрительно пожал руки и Ушакову и Ознобишину.
Никита и Слава вышли на улицу.
— А ты, оказывается, много читаешь, — похвалил Слава Ушакова.
— Я бы еще больше читал, да времени не хватает, — огорченно отозвался Никита. — Уж больно много у меня дома хлопот…
И заторопился к себе в деревню, он никогда не оставался ночевать в городе.
Слава услышал за своей спиной перебор каблучков, его догоняла Франя.
— До чего хорошо прошло! — защебетала она. — Как ты думаешь, Кузнецову понравился мой доклад?
Она принялась делиться впечатлениями, точно Ознобишин не был участником диспута.
— Я зайду к тебе? — неожиданно предложила ему Франя.
Она никогда не заходила к Славе, и ему польстило ее внимание.
— Зайдем, — согласился он.
Тихонько, чтобы не разбудить Эмму Артуровну, миновали зал, вошли в темную комнату.
Слава повернул выключатель, лампочка осветила кое-как застеленную кровать и разбросанные по столу газеты.
— Как у тебя неуютно! — пробормотала Франя.
— Извини, — сказал Слава. — Не успеваю убраться.
Франя присела на кровать.
«Нет, все-таки она хорошенькая», — подумал Слава, посматривая то на Франю, то на обои.
— Помнишь, как ты привез мне конфеты?
— А зачем ты обманывала Сергея? — упрекнул ее Слава.
— Чем же это я его обманывала?
— А тем, что делала вид, будто влюблена в него, я сам это видел.
— Видел то, чего не было! — Франя рассердилась. — И вообще, если хочешь, любить можно сто раз!
— Любовь бывает только один раз в жизни!
Франя пожала плечами.
— Ты еще маленький и ничего не понимаешь.
— И сколько же раз ты уже любила? — поинтересовался Слава.
— Я? — Франя ласково ему улыбнулась. — Дурашка, представь, я еще ни разу никого не любила.
Слава в смущении отвернулся к окну.
— А меня ты мог бы полюбить? — неожиданно спросила его Франя.
Он не знал, что ей на это сказать, диспут на такую скользкую тему куда легче было вести в клубе, он и в самом деле не знал, может ли он полюбить Франю, она ему нравилась и не нравилась, иногда он ею любовался, а иногда она чем-то ужасно его раздражала.
— А ты сам любил кого-нибудь?
— Нет, — признался Слава. — Когда же мне было…
— И сейчас ни в кого не влюблен? — допытывалась Франя.
— Нет, — с отчаянием повторил Слава.
— А почему? — капризно спросила Франя.
Тогда Слава повернулся к ней и, глядя в ее широко раскрытые овечьи глаза, нерешительно сказал:
— Потому, что я… еще не понимаю… ну, понимаешь, я еще не понимаю, что такое любовь.
23
Никто в укомоле не приходил на работу к определенному часу, да и часов ни у кого не было, поднимались вместе с петухами, ели что придется и бежали на службу.
Слава пришел к себе в кабинет… Кладовки у малоархангельских мещан побольше. А Железнов не прочь хоть на часок завладеть этим кабинетом.
К нему тотчас вошла Франя, она пришла на работу еще раньше.
— Вчерашняя почта.
Положила перед Славой зеленую картонную папку с белыми, завязанными бантиком тесемками и перечислила наизусть:
— Две инструкции, пять циркуляров, шесть заявлений и одно письмо.
— От кого?
— Личное, тебе.
Редко кто получал в укомоле личные письма.
Слава раскрыл папку, письмо лежало поверх остальных бумаг, серый конвертик без марки, письма чаще доставлялись с оказиями, чем по почте.
«От какой-нибудь барышни», — подумал Слава, местные девицы писали иногда записочки Ознобишину.
Надорвал конверт. Листок из ученической тетрадки.
«Слава! Иван Фомич скончался. Похороны послезавтра…» Господи, Иван Фомич!… И дальше: «Ему хотелось бы…» Зачеркнуто. «Мне хотелось бы…» Зачеркнуто. И подпись: «Ирина Власьевна». Все письмо. Две строки.
Слава провел рукой по глазам.
— Когда пришло письмо?
— Вчера.
— Почему сразу не передала?
— Разве что-нибудь срочное?
— А кто принес?
— Какой-то мужик.
Слава побежал в соседнюю комнату к Железнову и Ушакову.
— Ребята, я уезжаю… — Он не сумел бы объяснить, почему ему необходимо ехать. Не смог бы объяснить им, кто это Иван Фомич. Учитель из Успенского. Мало ли учителей…
— Что-нибудь случилось?
— Да… — Не мог объяснить. — Мама… — Поправился: — Мать заболела… — Болезнь матери уважительная причина. — Я вернусь через два дня…
— Откуда ты знаешь, сколько ты там пробудешь, — сказал Ушаков. — Разве можно поручиться…
Железнов предложил:
— Достать тебе лошадь?
— Не надо.
Неудобно просить казенную лошадь для личных надобностей.
Слава побежал на базар. Там не могла не быть приезжих из Успенской волости. Они и были. Из Каланчи, из Критова, из Козловки.
За церковью шла небойкая торговля. Картофелем, холстом, коноплей, свининой. Торговали осторожно, как бы из-под полы, отвыкли уже от свободной торговли.
Слава вглядывался в незнакомые лица. Не может быть, чтобы его никто не знал. Вот бабенка, курносая и, похоже, злая, с узкими поджатыми губами, в ситцевом платке в белый горошек.
— Мотя!
— Узнали?
Мужики как-то обидели ее при дележе покоса, она нажаловалась Быстрову, и тот вместе со Славой заехал в Каланчу и восстановил справедливость.
— Ты скоро домой?
— Доторгую и поеду.
— Захватишь меня?
Расторговалась она не скоро, Слава терпеливо ждал, хотя внутри у него все кипело. Дотемна проехали только полдороги. Мотя боялась ехать в темноте, остановились у чьей-то избы, решили ночевать в телеге, однако холод загнал их в избу, на рассвете тронулись дальше.
Славе хотелось спросить Мотю, слышала ли она о смерти Ивана Фомича, его знали во всей округе, но так и не спросил.
В Каланче Мотя остановилась перед своей избой, пригласила:
— Заходи, Миколаич, накормлю, пообедаешь.
Звала от чистого сердца, но Слава спешил, спрыгнул с телеги, зашагал пешком — до Успенского оставалась самая малость.
Только наедине с собой, посреди пустой проселочной дороги, он стал ощущать безмерность своей потери. Майское утро овевало и поля, и придорожные ветлы, и непросохшую от ночной сырости дорогу душистым влажным теплом. Парит, но не знойко, как в июле, а нежно, мягко, добро. Хорошо жить! А человека нет, нет большого, умного и доброго человека. Слава идет быстрее.
У церкви стояло двое мужиков да несколько баб. Слава удивился, Никитина должны были хоронить все, кто его знал, жители всех окрестных деревень и сел.
Бирюзовые купола над церковью, смертная вокруг тишина.
Слава провел пальцем за воротом, душно, воздуха не хватает, обдернул курточку, подтянулся, — никто не пришел, так я пришел, — пришел сказать Ивану Фомичу спасибо за все, что от него получил и не получил, — поднялся на паперть, и, бог ты мой, как же это я мог подумать, что никто не пришел, — все пришли, пришли жители всех деревень, что разбросаны поблизости от Успенского.
Церковь полным-полна — от притвора до алтаря — мужиков, баб, девок и ребят, ребят всех возрастов видимо-невидимо!
Провожают Ивана Фомича! Лучший учитель…
Льется дневной чистый свет, светлыми полосами растекается над головами, горят свечи, много свечей, пред тобой, Господи Иисусе Христе, пред тобой, Матерь Пресвятая Богородица перед всеми вами, святые наши заступники…
Слава обдернул курточку и ступил в притвор.
Вот он, Иван Фомич, в просторном, ладно сбитом дубовом гробу. Лежит головой к алтарю, гроб накрыт парчовым покровом, по углам четыре подсвечника, текут со свечей восковые слезы…
Встал Слава справа, все глядят на него — пришел-таки отдать последний долг, а сам он не смотрит ни на кого.
Отец Валерий, мужик мужиком, а дело знает, справляет похороны по наилучшему чину, не пожалел ни ладана, ни свечей, знай себе омахивает новопреставленного раба божия Иоанна серебряным кадилом, поднимает душистые облака, перед аналоем дьякон, отец Кузьма, возглашает вечную память, вторят ему на клиросе сестры Тарховы, все, кто пел когда-либо в церковном хоре, собрались сегодня отдать последний долг Ивану Фомичу, проводить его надгробным рыданием.
«И ведь правильно, что Ивана Фомича отпевают в церкви, — думает Слава. — Простой русский мужик — и до чего же вознесся…»
До чего же красиво отпевают директора деревенской гимназии…
Отучил ты нас и алгебре, и геометрии, и литературе…
Иван Фомич в мундире, плечи обтянуты черным сукном, зеленый кант вьется по вороту и прячется под черной бородой…
— Вечная память, вечная память, вечная память, — возглашает отец Кузьма.
— Вечная память, вечная память, вечная память, — вторит хор.
Все, как положено, думает Слава. Торжественно шествует русский мужик по синим облакам в рай…
Тысячелетие прошло с той поры, как Русь приняла христианскую веру. Многие города и страны объехали посланцы великого князя Владимира и нигде не нашли веры красивее, чем в Византии.
Ныне кончается эта вера, на смену ей приходит другая, более совершенная — тысячу лет верили христиане в жизнь, которой не знали, а теперь, на смену ей, приходит жизнь познанная, красивая, жизнь на земле.
Уходит Иван Фомич, ни до чего ему уже нет дела, все презрел, все оставлено — и просторный дом помещиков Озеровых, и деревенская гимназия, и постоянные тяжбы с мужиками, и откормленные свиньи, и собрание русских классиков…
— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!
Льются-переливаются женские голоса на клиросе.
Отец Кузьма подает отцу Валерию кадило. Идет отец Валерий вокруг гроба, взмахивает кадилом. Не пожалел дьякон ладана. Синий дым клубится в воздухе.
Взгляд Славы устремляется вверх, под самый купол. Как чудесна все-таки высота!
Отец Валерий все машет и машет кадилом.
— Со святыми упокой, Христе, души раб твоих, праотец, отец и братии наших, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!
Жизнь бесконечная… Всякой жизни приходит конец. Пришел конец Ивану Фомичу. Отпоют, попрощаются, зароют… Как бы не так! Он будет жить! Школа никуда не денется, не пропадет. От помещиков Озеровы" воспоминания не останется, а школа будет существовать. Будут жить и действовать его ученики. Я буду жить. Зря, что ли, спорили мы с ним о Блоке! Не поспорили бы, не вступил бы я в комсомол…
Как ужасно поет коричневая старуха! Все время фальшивит. Дочери отца Тархова поют чисто, радостно.
Слава пришел к себе в кабинет… Кладовки у малоархангельских мещан побольше. А Железнов не прочь хоть на часок завладеть этим кабинетом.
К нему тотчас вошла Франя, она пришла на работу еще раньше.
— Вчерашняя почта.
Положила перед Славой зеленую картонную папку с белыми, завязанными бантиком тесемками и перечислила наизусть:
— Две инструкции, пять циркуляров, шесть заявлений и одно письмо.
— От кого?
— Личное, тебе.
Редко кто получал в укомоле личные письма.
Слава раскрыл папку, письмо лежало поверх остальных бумаг, серый конвертик без марки, письма чаще доставлялись с оказиями, чем по почте.
«От какой-нибудь барышни», — подумал Слава, местные девицы писали иногда записочки Ознобишину.
Надорвал конверт. Листок из ученической тетрадки.
«Слава! Иван Фомич скончался. Похороны послезавтра…» Господи, Иван Фомич!… И дальше: «Ему хотелось бы…» Зачеркнуто. «Мне хотелось бы…» Зачеркнуто. И подпись: «Ирина Власьевна». Все письмо. Две строки.
Слава провел рукой по глазам.
— Когда пришло письмо?
— Вчера.
— Почему сразу не передала?
— Разве что-нибудь срочное?
— А кто принес?
— Какой-то мужик.
Слава побежал в соседнюю комнату к Железнову и Ушакову.
— Ребята, я уезжаю… — Он не сумел бы объяснить, почему ему необходимо ехать. Не смог бы объяснить им, кто это Иван Фомич. Учитель из Успенского. Мало ли учителей…
— Что-нибудь случилось?
— Да… — Не мог объяснить. — Мама… — Поправился: — Мать заболела… — Болезнь матери уважительная причина. — Я вернусь через два дня…
— Откуда ты знаешь, сколько ты там пробудешь, — сказал Ушаков. — Разве можно поручиться…
Железнов предложил:
— Достать тебе лошадь?
— Не надо.
Неудобно просить казенную лошадь для личных надобностей.
Слава побежал на базар. Там не могла не быть приезжих из Успенской волости. Они и были. Из Каланчи, из Критова, из Козловки.
За церковью шла небойкая торговля. Картофелем, холстом, коноплей, свининой. Торговали осторожно, как бы из-под полы, отвыкли уже от свободной торговли.
Слава вглядывался в незнакомые лица. Не может быть, чтобы его никто не знал. Вот бабенка, курносая и, похоже, злая, с узкими поджатыми губами, в ситцевом платке в белый горошек.
— Мотя!
— Узнали?
Мужики как-то обидели ее при дележе покоса, она нажаловалась Быстрову, и тот вместе со Славой заехал в Каланчу и восстановил справедливость.
— Ты скоро домой?
— Доторгую и поеду.
— Захватишь меня?
Расторговалась она не скоро, Слава терпеливо ждал, хотя внутри у него все кипело. Дотемна проехали только полдороги. Мотя боялась ехать в темноте, остановились у чьей-то избы, решили ночевать в телеге, однако холод загнал их в избу, на рассвете тронулись дальше.
Славе хотелось спросить Мотю, слышала ли она о смерти Ивана Фомича, его знали во всей округе, но так и не спросил.
В Каланче Мотя остановилась перед своей избой, пригласила:
— Заходи, Миколаич, накормлю, пообедаешь.
Звала от чистого сердца, но Слава спешил, спрыгнул с телеги, зашагал пешком — до Успенского оставалась самая малость.
Только наедине с собой, посреди пустой проселочной дороги, он стал ощущать безмерность своей потери. Майское утро овевало и поля, и придорожные ветлы, и непросохшую от ночной сырости дорогу душистым влажным теплом. Парит, но не знойко, как в июле, а нежно, мягко, добро. Хорошо жить! А человека нет, нет большого, умного и доброго человека. Слава идет быстрее.
У церкви стояло двое мужиков да несколько баб. Слава удивился, Никитина должны были хоронить все, кто его знал, жители всех окрестных деревень и сел.
Бирюзовые купола над церковью, смертная вокруг тишина.
Слава провел пальцем за воротом, душно, воздуха не хватает, обдернул курточку, подтянулся, — никто не пришел, так я пришел, — пришел сказать Ивану Фомичу спасибо за все, что от него получил и не получил, — поднялся на паперть, и, бог ты мой, как же это я мог подумать, что никто не пришел, — все пришли, пришли жители всех деревень, что разбросаны поблизости от Успенского.
Церковь полным-полна — от притвора до алтаря — мужиков, баб, девок и ребят, ребят всех возрастов видимо-невидимо!
Провожают Ивана Фомича! Лучший учитель…
Льется дневной чистый свет, светлыми полосами растекается над головами, горят свечи, много свечей, пред тобой, Господи Иисусе Христе, пред тобой, Матерь Пресвятая Богородица перед всеми вами, святые наши заступники…
Слава обдернул курточку и ступил в притвор.
Вот он, Иван Фомич, в просторном, ладно сбитом дубовом гробу. Лежит головой к алтарю, гроб накрыт парчовым покровом, по углам четыре подсвечника, текут со свечей восковые слезы…
Встал Слава справа, все глядят на него — пришел-таки отдать последний долг, а сам он не смотрит ни на кого.
Отец Валерий, мужик мужиком, а дело знает, справляет похороны по наилучшему чину, не пожалел ни ладана, ни свечей, знай себе омахивает новопреставленного раба божия Иоанна серебряным кадилом, поднимает душистые облака, перед аналоем дьякон, отец Кузьма, возглашает вечную память, вторят ему на клиросе сестры Тарховы, все, кто пел когда-либо в церковном хоре, собрались сегодня отдать последний долг Ивану Фомичу, проводить его надгробным рыданием.
«И ведь правильно, что Ивана Фомича отпевают в церкви, — думает Слава. — Простой русский мужик — и до чего же вознесся…»
До чего же красиво отпевают директора деревенской гимназии…
Отучил ты нас и алгебре, и геометрии, и литературе…
Иван Фомич в мундире, плечи обтянуты черным сукном, зеленый кант вьется по вороту и прячется под черной бородой…
— Вечная память, вечная память, вечная память, — возглашает отец Кузьма.
— Вечная память, вечная память, вечная память, — вторит хор.
Все, как положено, думает Слава. Торжественно шествует русский мужик по синим облакам в рай…
Тысячелетие прошло с той поры, как Русь приняла христианскую веру. Многие города и страны объехали посланцы великого князя Владимира и нигде не нашли веры красивее, чем в Византии.
Ныне кончается эта вера, на смену ей приходит другая, более совершенная — тысячу лет верили христиане в жизнь, которой не знали, а теперь, на смену ей, приходит жизнь познанная, красивая, жизнь на земле.
Уходит Иван Фомич, ни до чего ему уже нет дела, все презрел, все оставлено — и просторный дом помещиков Озеровых, и деревенская гимназия, и постоянные тяжбы с мужиками, и откормленные свиньи, и собрание русских классиков…
Он уважать себя заставил! Все село собралось хоронить Ивана Фомича, Коричневая старуха, которую Слава и в глаза-то никогда не видал, стоит обок и плачет. Устинов Филипп Макарович крестится размашисто, широко, истово, впрочем, ему можно, он беспартийный, ему подобает стоять в церкви и провожать Ивана Фомича, соблюдая установленные правила. Ирина Власьевна, опухшая и постаревшая, смотрит не на мужа, а куда-то вперед. Смотрит пристально, неотступно, скорбно. Попросят ее теперь выселиться из школы… Слава давно уже не видел Ирины Власьевны и не может отвести от нее глаз. На ней серая кофта и черная юбка, кофта поверх юбки. Попросят из школы! А куда она пойдет? Ни Митрофан Фомич, ни Дмитрий Фомич не возьмут ее, каждый сам за себя. Придется ей перевестись в какую-нибудь начальную школу, думает Слава. Надо будет сказать об этом Зернову. Ничего, не пропадет Ирина Власьевна.
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил…
— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!
Льются-переливаются женские голоса на клиросе.
Отец Кузьма подает отцу Валерию кадило. Идет отец Валерий вокруг гроба, взмахивает кадилом. Не пожалел дьякон ладана. Синий дым клубится в воздухе.
Взгляд Славы устремляется вверх, под самый купол. Как чудесна все-таки высота!
Отец Валерий все машет и машет кадилом.
— Со святыми упокой, Христе, души раб твоих, праотец, отец и братии наших, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!
Жизнь бесконечная… Всякой жизни приходит конец. Пришел конец Ивану Фомичу. Отпоют, попрощаются, зароют… Как бы не так! Он будет жить! Школа никуда не денется, не пропадет. От помещиков Озеровы" воспоминания не останется, а школа будет существовать. Будут жить и действовать его ученики. Я буду жить. Зря, что ли, спорили мы с ним о Блоке! Не поспорили бы, не вступил бы я в комсомол…
Как ужасно поет коричневая старуха! Все время фальшивит. Дочери отца Тархова поют чисто, радостно.
24
Слава совсем было отрешился от всего, что его окружало, как вдруг откуда-то из-под купола упал солнечный луч и коснулся его лица…
Слава оглянулся как раз в тот самый момент, когда в церковь вошла Маруся Денисова.
Она медленно шла по каменным плитам, прижимая к груди цветущие яблоневые ветви.
Нежные бело-розовые цветы дышали весенней истомой, источали еле ощутимый сладковатый аромат, лепестки дрожали…
Маруся медленно шла по церкви, прижимая к груди цветы, и вдруг — неожиданно, сразу, внезапно — Славу пронзила мысль, что он любит… Любит Марусю!
Раньше он даже подумать не мог, что может кого-нибудь полюбить, любовь настигла его в тот момент, когда Маруся приблизилась к гробу.
Она обошла аналой, поднялась на ступеньку, стала в ногах Ивана Фомича, чуть наклонилась вперед и положила цветы.
Нет в мире ничего прекраснее этих розово-белых цветов. Слава сразу ощутил всю прелесть и красоту… Цветов или Маруси? Никогда не видел он ее такой… Такой красивой! Видел множество раз, но не замечал ни ее горделивой осанки, ни разлетевшихся к вискам коричневых бровей, ни узких больших глаз, ни синего их блеска, ни пушистых прядок на висках, ни строгих тонких губ, ни румянца на смуглых щеках, ни легких рук, обтянутых голубеньким ситцем…
Румянец заливает щеки, но Слава этого не чувствует, товарищу Ознобишину не подобает краснеть. Как, впрочем, не подобает и обращать внимание на девушек… Да еще во время заупокойной службы!
— Прощайтесь, — негромко произносит отец Валерий.
Первой подходит Ирина Власьевна. В лице у нее ни кровинки. Но не плачет. Губы стиснуты, точно они на замке. Наклоняется к мужу.
Вот и Дмитрий Фомич подходит, и Устинов, и Введенский…
Кто-то смотрит на Славу, он понимает, его черед.
Прощайте, Иван Фомич…
Слава толкает кого-то, кто стоит позади него, но не оборачивается.
— Простите, — говорит он и подходит к Марусе.
— Здравствуй…
— Здравствуй, Слава…
Они рядом, как два школьника, как два ученика.
Слава чуть касается ее руки.
— Где это ты обломала яблони?
— Возле школы, — шепчет Маруся. — Яблокам на них все равно не бывать, обдерут и ребята и телята.
Она права, с тех покалеченных яблонь, что растут перед школой, никто еще не дождался ни яблока, не успеют появиться завязи, как ребятишки обобьют палками.
Легкое замешательство, и вот уже плывет Иван Фомич на холстах в свой последний путь.
Стоят Слава и Маруся у могилы…
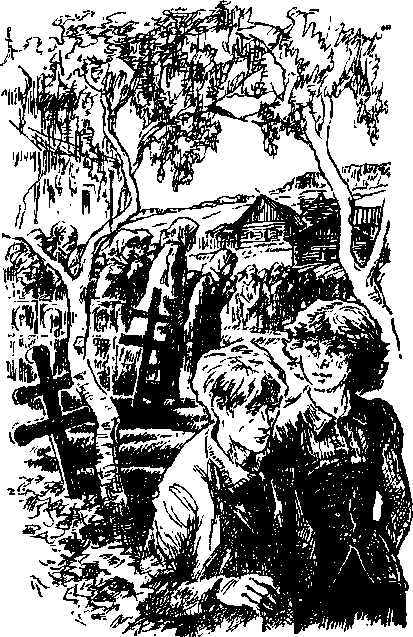 Последние возгласы певчих, последний взмах кадила, последний крик…
Последние возгласы певчих, последний взмах кадила, последний крик…
Ирина Власьевна приглашает всех на поминки, поминальный обед братья устраивают у Митрофана Фомича, там уж загодя припасена не одна четверть самогона, наварено и нажарено столько, чтобы все разошлись со сладкой думой о покойнике.
— Пойдем? — спрашивает Слава, и Маруся понимает, не к Митрофану Фомичу зовет он ее, они прячутся за березу и скрываются меж крестов, темных, обветренных, обветшалых.
Где-то здесь закопан Полиман, деревенский дурачок, расстрелянный проезжим трибуналом.
Но Слава о дурачке даже не вспоминает, иная мысль, острая и хмельная звенит в его голове.
Как же не замечал он Марусю? Вместе учились, ходили в один класс, сидели неподалеку, и — не замечал, не замечал, а сейчас заслонила все на свете?
— А знаешь, Маруся, я часто о тебе вспоминаю, — говорит Слава…
Ни разу, ни разу не вспомнил он о ней в Малоархангельске!
— Знаю, — говорит Маруся.
Откуда она может знать?
Они выбираются из частокола крестов, ноги тонут в густой траве.
— Ты любишь стихи? — спрашивает Слава.
— Не знаю, — отвечает Маруся.
Не сговариваясь, переступают заросшую травой канаву.
— Смотри, — говорит Маруся. — Как сильно цветет земляника.
— А ты умеешь варить варенье? — спрашивает Слава.
— Не знаю, — отвечает Маруся. — Дома у нас не варят варенья.
— А у меня мама очень хорошо варит, — говорит Слава.
— А она научит меня? — спрашивает Маруся.
— Конечно, — говорит Слава.
И опять молча бродят в березовой рощице.
— Мне пора, — говорит Маруся. — А то заругаются, скоро корову доить.
— Хорошо, — соглашается Слава. — Пойдем.
— Нет, ты погоди, — говорит Маруся. — Пойдем порознь, а то неудобно…
Она уходит, и Слава один уже слоняется между берез и думает, какое это странное чувство — любовь.
Слава оглянулся как раз в тот самый момент, когда в церковь вошла Маруся Денисова.
Она медленно шла по каменным плитам, прижимая к груди цветущие яблоневые ветви.
Нежные бело-розовые цветы дышали весенней истомой, источали еле ощутимый сладковатый аромат, лепестки дрожали…
Маруся медленно шла по церкви, прижимая к груди цветы, и вдруг — неожиданно, сразу, внезапно — Славу пронзила мысль, что он любит… Любит Марусю!
Раньше он даже подумать не мог, что может кого-нибудь полюбить, любовь настигла его в тот момент, когда Маруся приблизилась к гробу.
Она обошла аналой, поднялась на ступеньку, стала в ногах Ивана Фомича, чуть наклонилась вперед и положила цветы.
Нет в мире ничего прекраснее этих розово-белых цветов. Слава сразу ощутил всю прелесть и красоту… Цветов или Маруси? Никогда не видел он ее такой… Такой красивой! Видел множество раз, но не замечал ни ее горделивой осанки, ни разлетевшихся к вискам коричневых бровей, ни узких больших глаз, ни синего их блеска, ни пушистых прядок на висках, ни строгих тонких губ, ни румянца на смуглых щеках, ни легких рук, обтянутых голубеньким ситцем…
Румянец заливает щеки, но Слава этого не чувствует, товарищу Ознобишину не подобает краснеть. Как, впрочем, не подобает и обращать внимание на девушек… Да еще во время заупокойной службы!
— Прощайтесь, — негромко произносит отец Валерий.
Первой подходит Ирина Власьевна. В лице у нее ни кровинки. Но не плачет. Губы стиснуты, точно они на замке. Наклоняется к мужу.
Вот и Дмитрий Фомич подходит, и Устинов, и Введенский…
Кто-то смотрит на Славу, он понимает, его черед.
Прощайте, Иван Фомич…
Слава толкает кого-то, кто стоит позади него, но не оборачивается.
— Простите, — говорит он и подходит к Марусе.
— Здравствуй…
— Здравствуй, Слава…
Они рядом, как два школьника, как два ученика.
Слава чуть касается ее руки.
— Где это ты обломала яблони?
— Возле школы, — шепчет Маруся. — Яблокам на них все равно не бывать, обдерут и ребята и телята.
Она права, с тех покалеченных яблонь, что растут перед школой, никто еще не дождался ни яблока, не успеют появиться завязи, как ребятишки обобьют палками.
Легкое замешательство, и вот уже плывет Иван Фомич на холстах в свой последний путь.
Стоят Слава и Маруся у могилы…
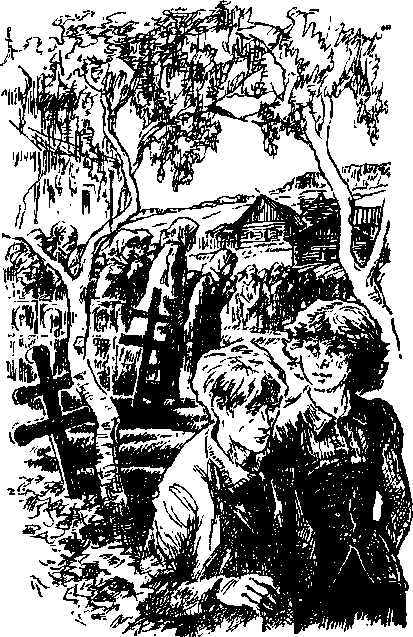
Ирина Власьевна приглашает всех на поминки, поминальный обед братья устраивают у Митрофана Фомича, там уж загодя припасена не одна четверть самогона, наварено и нажарено столько, чтобы все разошлись со сладкой думой о покойнике.
— Пойдем? — спрашивает Слава, и Маруся понимает, не к Митрофану Фомичу зовет он ее, они прячутся за березу и скрываются меж крестов, темных, обветренных, обветшалых.
Где-то здесь закопан Полиман, деревенский дурачок, расстрелянный проезжим трибуналом.
Но Слава о дурачке даже не вспоминает, иная мысль, острая и хмельная звенит в его голове.
Как же не замечал он Марусю? Вместе учились, ходили в один класс, сидели неподалеку, и — не замечал, не замечал, а сейчас заслонила все на свете?
— А знаешь, Маруся, я часто о тебе вспоминаю, — говорит Слава…
Ни разу, ни разу не вспомнил он о ней в Малоархангельске!
— Знаю, — говорит Маруся.
Откуда она может знать?
Они выбираются из частокола крестов, ноги тонут в густой траве.
— Ты любишь стихи? — спрашивает Слава.
— Не знаю, — отвечает Маруся.
Не сговариваясь, переступают заросшую травой канаву.
— Смотри, — говорит Маруся. — Как сильно цветет земляника.
— А ты умеешь варить варенье? — спрашивает Слава.
— Не знаю, — отвечает Маруся. — Дома у нас не варят варенья.
— А у меня мама очень хорошо варит, — говорит Слава.
— А она научит меня? — спрашивает Маруся.
— Конечно, — говорит Слава.
И опять молча бродят в березовой рощице.
— Мне пора, — говорит Маруся. — А то заругаются, скоро корову доить.
— Хорошо, — соглашается Слава. — Пойдем.
— Нет, ты погоди, — говорит Маруся. — Пойдем порознь, а то неудобно…
Она уходит, и Слава один уже слоняется между берез и думает, какое это странное чувство — любовь.
25
Слава еще спал, когда за ним притопал Григорий.
Вера Васильевна разбудила сына:
— За тобой из исполкома.
— О, господи, — вздохнул Слава. — Не терпится, все равно ведь зайду…
Надо возвращаться в Малоархангельск, но в исполком он обязательно зашел бы — Успенский волисполком для него все равно, что родной дом.
— Кому я там понадобился, дядя Гриша?
— Данилочкину, кому ж еще! Церковь идут грабить, вот и приглашает тебя разделить удовольствие.
— Какую еще церковь?
Слава не понял сначала, подумал, что собираются идти в церковь с обыском, такое случалось, — прятали в церквах и оружие, и хлеб, однако отец Валерий вряд ли на это способен, человек принципиальный, богу служит, но в грязные дела не ввязывается.
Григорий снисходительно покачал головой: неужели непонятно?
— Ценности идут отбирать. Серебро, золото. Да ты что, Вячеслав Миколаич? Неужели не знаешь?
Слава хлопнул себя по лбу, как это он не сообразил: еще ранней весной опубликован декрет ВЦИКа об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих…
Постепенно, от церкви к церкви, шло это изъятие. Слава сам читал секретные сводки о том, как оно проходило. Не обходилось без инцидентов, а местами так и серьезных волнений. Патриарх Тихон призвал верующих противиться изъятию ценностей из церквей, и всякие темные элементы пользовались случаем возбудить людей против Советской власти.
Не без волнений проходило изъятие ценностей и в Малоархангельском уезде: в Куракине мужики избили милиционера, а в Луковце подожгли церковь, пусть все пропадет, а не отдадим…
Солнце по-полуденному припекло землю, а окна в исполкоме закрыты, от духоты можно задохнуться, но почему-то никому не приходит в голову распахнуть рамы, не до того, должно быть, все в исполкоме побаиваются предстоящего испытания.
Из-за стола, за которым еще не так давно сидел Быстров, навстречу Ознобишину ковыляет Данилочкин.
— Что ж, Вячеслав Николаевич, церковь посетил, а исполком стороной обходишь?
Слава подошел к Дмитрию Фомичу, тот сидел за своим дамским столиком грузный и сонный, впервые Славу поразило несоответствие этого стола и нынешнего его владельца; удивительно, как эта принадлежность дамского будуара выдерживает тяжесть мужицкой руки.
Голова Никитина низко опущена.
«Переживает смерть брата? — думает Слава. — Сразу не поймешь…»
Тут Дмитрий Фомич скользнул по Ознобишину взглядом, глаза у него блестят, он не произносит ни слова и отводит глаза в сторону.
— Получили указание изъять из церквей ценности, — продолжает тем временем Данилочкин. — Собирались позавчера, да не хотели мешать похоронам. Хотим попросить тебя, товарищ Ознобишин, поприсутствовать вместе с нами.
Отказать Данилочкину Слава не может.
— Пошли, комиссия уже там…
В комиссию входили Данилочкин, Еремеев, который ввязывался во все дела, связанные с реквизициями и обысками, Устинов от сельсовета, Введенский от учителей — сын священника, он был как бы гарантией тому, что не будет допущено никаких злоупотреблений, и, наконец, Григорий, сторож волисполкома.
— А Григорий от кого? — удивился Слава.
— От общественности, — серьезно произнес Данилочкин. — Мужики ему верят больше, чем мне.
Перед церковью множество старух, до них уже дошел слух об изъятии.
Еремеев, Устинов и Введенский на паперти, старухи на лужке за оградой.
Вера Васильевна разбудила сына:
— За тобой из исполкома.
— О, господи, — вздохнул Слава. — Не терпится, все равно ведь зайду…
Надо возвращаться в Малоархангельск, но в исполком он обязательно зашел бы — Успенский волисполком для него все равно, что родной дом.
— Кому я там понадобился, дядя Гриша?
— Данилочкину, кому ж еще! Церковь идут грабить, вот и приглашает тебя разделить удовольствие.
— Какую еще церковь?
Слава не понял сначала, подумал, что собираются идти в церковь с обыском, такое случалось, — прятали в церквах и оружие, и хлеб, однако отец Валерий вряд ли на это способен, человек принципиальный, богу служит, но в грязные дела не ввязывается.
Григорий снисходительно покачал головой: неужели непонятно?
— Ценности идут отбирать. Серебро, золото. Да ты что, Вячеслав Миколаич? Неужели не знаешь?
Слава хлопнул себя по лбу, как это он не сообразил: еще ранней весной опубликован декрет ВЦИКа об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих…
Постепенно, от церкви к церкви, шло это изъятие. Слава сам читал секретные сводки о том, как оно проходило. Не обходилось без инцидентов, а местами так и серьезных волнений. Патриарх Тихон призвал верующих противиться изъятию ценностей из церквей, и всякие темные элементы пользовались случаем возбудить людей против Советской власти.
Не без волнений проходило изъятие ценностей и в Малоархангельском уезде: в Куракине мужики избили милиционера, а в Луковце подожгли церковь, пусть все пропадет, а не отдадим…
Солнце по-полуденному припекло землю, а окна в исполкоме закрыты, от духоты можно задохнуться, но почему-то никому не приходит в голову распахнуть рамы, не до того, должно быть, все в исполкоме побаиваются предстоящего испытания.
Из-за стола, за которым еще не так давно сидел Быстров, навстречу Ознобишину ковыляет Данилочкин.
— Что ж, Вячеслав Николаевич, церковь посетил, а исполком стороной обходишь?
Слава подошел к Дмитрию Фомичу, тот сидел за своим дамским столиком грузный и сонный, впервые Славу поразило несоответствие этого стола и нынешнего его владельца; удивительно, как эта принадлежность дамского будуара выдерживает тяжесть мужицкой руки.
Голова Никитина низко опущена.
«Переживает смерть брата? — думает Слава. — Сразу не поймешь…»
Тут Дмитрий Фомич скользнул по Ознобишину взглядом, глаза у него блестят, он не произносит ни слова и отводит глаза в сторону.
— Получили указание изъять из церквей ценности, — продолжает тем временем Данилочкин. — Собирались позавчера, да не хотели мешать похоронам. Хотим попросить тебя, товарищ Ознобишин, поприсутствовать вместе с нами.
Отказать Данилочкину Слава не может.
— Пошли, комиссия уже там…
В комиссию входили Данилочкин, Еремеев, который ввязывался во все дела, связанные с реквизициями и обысками, Устинов от сельсовета, Введенский от учителей — сын священника, он был как бы гарантией тому, что не будет допущено никаких злоупотреблений, и, наконец, Григорий, сторож волисполкома.
— А Григорий от кого? — удивился Слава.
— От общественности, — серьезно произнес Данилочкин. — Мужики ему верят больше, чем мне.
Перед церковью множество старух, до них уже дошел слух об изъятии.
Еремеев, Устинов и Введенский на паперти, старухи на лужке за оградой.
