Страница:
Филиппыч не стал препираться и прямым ходом отправился в исполком.
— Куда ж это годится? Взбесилась баба! Я на Астаховых не один год горб ломаю, а эта… без году неделю в доме и уже гонит из него всех?
Филиппыч не бывал в исполкоме, никого в нем не знал, но Данилочкин встретил его сочувственно. Данилочкин всегда бывал в курсе всех новостей, выслушал Филиппыча и велел возвращаться в Дуровку, никуда не отлучаться и ждать вызова.
Позвал Терешкина, служившего секретарем в земельном отделе, и послал к Марье Софроновне:
— Передай этой помещице, на днях разберем ее дело на земельной комиссии, а до тех пор пусть не самоуправничает.
На заседание вызвали Марью Софроновну, Веру Васильевну и Филиппа Ильича. Все Астаховы и все друг другу не родня.
Не хотелось идти Вере Васильевне, но шутить с Данилочкиным тоже нельзя, он строго-настрого предупредил ее через посыльного, чтобы она не вздумала отсутствовать.
Пошел с матерью и Слава, знал, что мать растеряется, что такие разбирательства ей не по нутру, своим присутствием хотел облегчить ей участие в этой неприятной процедуре.
— Марья Софроновна Астахова? Здесь. Вера Васильевна Астахова? Здесь. Филипп Ильич Астахов? Здесь. Можете садиться. Волостная земельная комиссия приступает к рассмотрению вопроса о разделе имущества, оставшегося после гражданина Астахова Павла Федоровича…
Слава отделился от стены, подошел к столу комиссии.
— Позвольте мне заменить мать, — обратился он с просьбой. — Самой ей не хочется участвовать в этом споре.
Славе тоже не хотелось участвовать в предстоящем споре, но еще больше хотелось избавить мать от возможных оскорблений со стороны Марьи Софроновны.
— Это еще чего? — рассердился Данилочкин. — Товарищ Ознобишин, идите-ка на свое место. Ваша мать не какая-нибудь неграмотная баба, а у-чи-тель-ни-ца! Вам понятно? Может постоять за себя, а вы здесь человек посторонний.
Дмитрий Фомич положил перед Данилочкиным список.
— По описи волземотдела за гражданином Астаховым числятся: дом в селе Успенском, два сарая, два амбара…
Последовало подробное перечисление всех построек и скота в хозяйстве Астаховых.
Данилочкин ткнул пальцем в сторону Марьи Софроновны:
— Какие у вас пожелания, гражданка Астахова?
— Нет у меня никаких пожеланиев, — отвечала та. — Как я есть полноправная жена, прошу охранить меня от этих коршунов… — Бросила злобный взгляд на Филиппыча, на Веру Васильевну. — Я, может, этого дня двадцать лет ждала…
— Не могли вы ждать двадцать лет, — оборвал ее Данилочкин. — Потому как вследствие маловозрастности не могли вы двадцать лет назад быть в каких-нибудь сношениях со своим мужем.
Данилочкин испытующе посмотрел на ответчиков.
— А вы, гражданин Астахов, что скажете?
— А чего говорить? — сказал Филиппыч. — Вот я действительно двадцать лет трублю у Астаховых, гоняли меня и в хвост, и в гриву, хутор-то, почитай, только благодаря мне и сохранился, так как вы полагаете, неужели я за свой труд не заработал избу с коровой?
— Как мы полагаем, мы еще скажем, — ответил Данилочкин. — Но, промежду прочим, отмечу, что каждый участник хозяйства, вложивший в него свой труд, имеет право на свою долю.
Слава вновь отошел от стены, вспомнил вдруг Федосея, уж если кто и вкладывал свой труд…
— Позвольте…
— Ну чего вам еще, товарищ Ознобишин? — с раздражением перебил его Данилочкин. — Негоже вам ввязываться в этот спор!
— Да я не о матери, — с досадою произнес Слава. — У Астаховых в прямом смысле есть батраки, Федосей и Надежда чуть не двадцать лет трудятся в этом хозяйстве, они-то уж действительно вложили в него про рву труда…
— Это вы правильно, — немедля согласился Данилочкин. — Наше упущение, их тоже следует вызвать, как их фамилия?
Слава не знал ни их фамилии, ни отчества, Федосей и Федосей, Надежда и Надежда…
Послали за Федосеем.
Данилочкин только хмыкнул при виде чудища с волосами.
— Вы кто есть?
— Мы — работники.
— У кого работники?
— У покойника.
— Какого еще покойника?
— У покойника Павла Федоровича жили в работниках, а сейчас у ихней супруги.
— Давно?
— Да, почитай, с двадцать годков.
— Так вот, коли ваш бывший хозяин скончался, имеете ли вы какую-нибудь претензию на его имущество?
— Какую ж пре… Хлеб нам еще за этот год должны.
— Вас как зовут?
— Федос.
— А полностью, полностью — имя, фамилия, отчество.
— Федос Сорока.
— А по отчеству?
Федосей ухмыльнулся.
— А по отчеству нас не зовут.
— А все-таки?
Федосей снова ухмыльнулся.
— Прокопьев…
— Так вот, гражданин Сорока Федосей Прокопьевич, ваш бывший хозяин, гражданин Астахов, скончался, имеете ли вы к нему какую-либо претензию?
— Я ж сказал, — сказал Федосей. — Хлеб он еще мне с женой должен.
— Вы должны ему хлеб? — Данилочкин повернулся к Марье Софроновне.
— Ничего я ему не должна, мало ли чего люди выдумают!
— Побойся бога! — Федосей даже руками всплеснул. — Не знаешь — не говори…
— Испугал ты ее богом! — Данилочкин опять хмыкнул и обратился к Филиппычу: — А вы чего просите?
— Ну, хоть амбар какой, сторожку в Дуровке, — попросил Филиппыч. — Куда ж мне деваться? И корову, — добавил он. — Хоть черную. Она хоть и яловая, я возьму.
— Ничего я ему не дам! — закричала Марья Софроновна. — Так любой потребует…
— А вы не кричите, мы не глухие, — оборвал ее Данилочкин и обратился затем к Вере Васильевне: — А вы, гражданка Астахова, что должно прийтись на вашу часть?
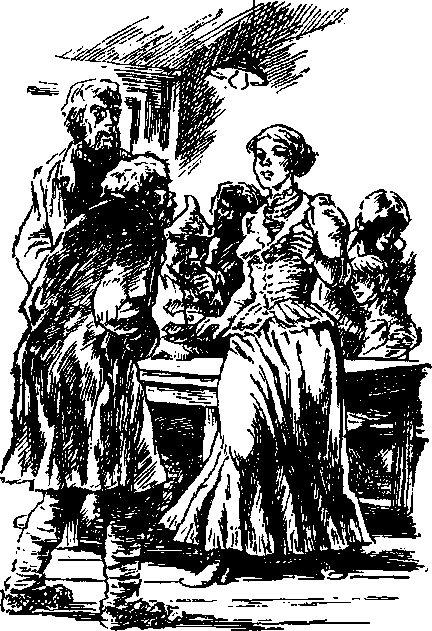 Ох как хотелось Славе ответить вместо мамы: да пропади они пропадом, все эти сараи и амбары, ничего нам не нужно, проживем без астаховских хором, заработаем себе на жизнь сами! Понимал, маме трудно спорить, если она и попросит чего, сделает это ради Пети…
Ох как хотелось Славе ответить вместо мамы: да пропади они пропадом, все эти сараи и амбары, ничего нам не нужно, проживем без астаховских хором, заработаем себе на жизнь сами! Понимал, маме трудно спорить, если она и попросит чего, сделает это ради Пети…
— Ничего, — тихо произнесла Вера Васильевна. — Я ни на что не претендую.
— То есть как ничего? — изумился Данилочкин. — У вас законное право, ваш покойный муж такой же совладелец, а младший сын тоже имеет право на долю, он вложил в хозяйство немало труда.
— Я понимаю, — тихо, но настойчиво повторила Вера Васильевна. — Но ни мне, ни моим сыновьям ничего не надо, я — учительница, в хозяйстве я не работала, а сын мой не хотел есть хлеб даром…
— Вы все-таки подумайте, — еще раз сказал Данилочкин, — это называется… Как это называется? — обернулся он к Никитину.
— Широкими жестами, — подсказал тот.
«Сейчас мама сдастся, — подумал Слава, — согласится что-нибудь взять, чтобы обеспечить нас на первое время».
Но Вера Васильевна не сдалась.
— Нет, — сказала она. — Я от всего отказываюсь.
— Вы это заявляете твердо и решительно? — еще раз спросил Данилочкин. — Это называется…
— Твердо и решительно, — повторила Вера Васильевна. — Ни мне, ни моим детям не нужно того, что мы не заработали.
— Пенять потом будете на себя…
Члены комиссии склонились над списком.
— Ну вот что, волостная комиссия… — начал было Данилочкин, но Дмитрий Фомич потянул Данилочкина к себе и зашептал что-то на ухо.
Данилочкин согласно кивнул.
— Решение волостной земельной комиссии будет объявлено завтра, — объявил он. — Кто интересуется, может сюда прийти.
На том судоговорение закончилось, а утром Данилочкин огласил решение: принимая во внимание долголетнюю работу Астахова Филиппа Ильича в хозяйстве, отписать на его имя все постройки на хуторе при деревне Дуровке, одну корову и одну лошадь; сад, имеющий промышленное значение, из частного владения изъять и передать в пользование Дуровскому сельскому Совету; Сороке Федосею Прокопьевичу совместно с женой Надеждой Кузьминичной в возмещение долголетней работы в качестве наемных рабочих выделить из построек, находящихся в селе Успенском, один амбар, расположенный рядом с пасекой, и одну корову; гражданке Астаховой Вере Васильевне, вследствие ее отказа от имущества, ничего не выделять; остальные постройки и скот, находящиеся в селе Успенском, переходят в собственность Астаховой Марьи Софроновны.
— Правильно говорят, что вы грабительская власть, — заявила Марья Софроновна. — Придется вам на том свете горячими угольками подавиться!
— Гражданка Астахова, призываю к порядку! — грозно прикрикнул на нее Данилочкин. — Не забывайтесь!
— С вами забудешься! — продолжала Марья Софроновна. — Испугалась я тебя, старый хрен!
— Вы оштрафованы! — завопил Данилочкин. — Штрафую вас на десять пудов ржи!
Марья Софроновна ничего больше не высказала в исполкоме, а то и вправду оштрафуют на десять пудов, рванула на улицу так, что задрожали двери, а выбежав наружу, запустила такую матерщину, что даже Филиппыч крякнул от удивления.
Но этим ее неприятности не закончились.
— Эй, Машка! — заговорил с ней без обычной почтительности Филиппыч. — Заруби себе на носу: ко мне в Дуровку ни ногой, делать тебе там больше нечего!
Марья Софроновна задохнулась:
— Так это ж моя имения!
— Твоя имения у тебя под подолом, а все остальное — общественная собственность!
Вне себя она бросилась в дом.
— Вы! — объявила она Вере Васильевне, шипя от злости. — Слышали? Вашего тут ничего нет, убирайтесь куда хотите, а не то Коська выкинет!
Слава растерялся — идти просить помощи у Данилочкина?
Но Вера Васильевна сама нашла выход, посоветовалась с Зерновым, зашла к почтмейстерше, у той пустовала комната, и хотя почтмейстерша могла при случае и выгодно продать, и выгодно купить, на этот раз, прослышав о том, что Вера Васильевна вынуждена уйти из дома, сдала комнату за божескую цену.
Сыновья перетащили вещички, перенесли из астаховского дома кровать, диван, несколько стульев, и Марья Софроновна не сказала по поводу вещей ни слова.
Не у дел очутился Петя, не на кого стало работать. Положение спас Филиппыч.
— Одному мне не справиться, пока не женюсь, — сказал он Пете. — Живи пока на хуторе, за работу я расплачусь, обеспечу вас с матерью и яблоками и капустой на всю зиму.
Услышав о переезде, Данилочкин вызвал Славу.
— Передай матери, пусть не волнуется, — сказал он. — Пусть не бросает школу, обеспечим ее дровами.
Но больше всего Славу удивил Федосей.
Когда ему объявили, что исполком присудил Сорокам амбар и корову, он никак не мог сразу взять это в толк. Наконец до него дошло. Два дня он ходил возле выделенного амбара, все что-то вымерял, присматривался. Спросил Марью Софроновну, какую из трех коров она отдает. Марья Софроновна указала на черную, яловую, облюбованную Филиппычем.
Коня, на котором Слава и Петя приехали из Малоархангельска, Федосей держал у соседей и раза по два в день приносил актированному коню свежескошенной травы, а то так и чуток овса, если удавалось отсыпать от хозяйских лошадей.
И вот в ближайшее утро Федосей исчез. Марья Софроновна не нашла на кухне Надежды, а затем не доискалась и Федосея. Вечером были дома, а утром не стало. Вместе с ними исчезли и черная корова, и серый конь. Но самое удивительное заключалось в том, что исчез амбар. На месте амбара зияла черная прогалина.
Когда и как Федосей успел разобрать и вывезти амбар, так и осталось загадкой. Ни с кем не попрощался, никому ничего не сказал, и куда уехал — тоже никто не знал.
Дом Астаховых кончился.
— Куда ж это годится? Взбесилась баба! Я на Астаховых не один год горб ломаю, а эта… без году неделю в доме и уже гонит из него всех?
Филиппыч не бывал в исполкоме, никого в нем не знал, но Данилочкин встретил его сочувственно. Данилочкин всегда бывал в курсе всех новостей, выслушал Филиппыча и велел возвращаться в Дуровку, никуда не отлучаться и ждать вызова.
Позвал Терешкина, служившего секретарем в земельном отделе, и послал к Марье Софроновне:
— Передай этой помещице, на днях разберем ее дело на земельной комиссии, а до тех пор пусть не самоуправничает.
На заседание вызвали Марью Софроновну, Веру Васильевну и Филиппа Ильича. Все Астаховы и все друг другу не родня.
Не хотелось идти Вере Васильевне, но шутить с Данилочкиным тоже нельзя, он строго-настрого предупредил ее через посыльного, чтобы она не вздумала отсутствовать.
Пошел с матерью и Слава, знал, что мать растеряется, что такие разбирательства ей не по нутру, своим присутствием хотел облегчить ей участие в этой неприятной процедуре.
— Марья Софроновна Астахова? Здесь. Вера Васильевна Астахова? Здесь. Филипп Ильич Астахов? Здесь. Можете садиться. Волостная земельная комиссия приступает к рассмотрению вопроса о разделе имущества, оставшегося после гражданина Астахова Павла Федоровича…
Слава отделился от стены, подошел к столу комиссии.
— Позвольте мне заменить мать, — обратился он с просьбой. — Самой ей не хочется участвовать в этом споре.
Славе тоже не хотелось участвовать в предстоящем споре, но еще больше хотелось избавить мать от возможных оскорблений со стороны Марьи Софроновны.
— Это еще чего? — рассердился Данилочкин. — Товарищ Ознобишин, идите-ка на свое место. Ваша мать не какая-нибудь неграмотная баба, а у-чи-тель-ни-ца! Вам понятно? Может постоять за себя, а вы здесь человек посторонний.
Дмитрий Фомич положил перед Данилочкиным список.
— По описи волземотдела за гражданином Астаховым числятся: дом в селе Успенском, два сарая, два амбара…
Последовало подробное перечисление всех построек и скота в хозяйстве Астаховых.
Данилочкин ткнул пальцем в сторону Марьи Софроновны:
— Какие у вас пожелания, гражданка Астахова?
— Нет у меня никаких пожеланиев, — отвечала та. — Как я есть полноправная жена, прошу охранить меня от этих коршунов… — Бросила злобный взгляд на Филиппыча, на Веру Васильевну. — Я, может, этого дня двадцать лет ждала…
— Не могли вы ждать двадцать лет, — оборвал ее Данилочкин. — Потому как вследствие маловозрастности не могли вы двадцать лет назад быть в каких-нибудь сношениях со своим мужем.
Данилочкин испытующе посмотрел на ответчиков.
— А вы, гражданин Астахов, что скажете?
— А чего говорить? — сказал Филиппыч. — Вот я действительно двадцать лет трублю у Астаховых, гоняли меня и в хвост, и в гриву, хутор-то, почитай, только благодаря мне и сохранился, так как вы полагаете, неужели я за свой труд не заработал избу с коровой?
— Как мы полагаем, мы еще скажем, — ответил Данилочкин. — Но, промежду прочим, отмечу, что каждый участник хозяйства, вложивший в него свой труд, имеет право на свою долю.
Слава вновь отошел от стены, вспомнил вдруг Федосея, уж если кто и вкладывал свой труд…
— Позвольте…
— Ну чего вам еще, товарищ Ознобишин? — с раздражением перебил его Данилочкин. — Негоже вам ввязываться в этот спор!
— Да я не о матери, — с досадою произнес Слава. — У Астаховых в прямом смысле есть батраки, Федосей и Надежда чуть не двадцать лет трудятся в этом хозяйстве, они-то уж действительно вложили в него про рву труда…
— Это вы правильно, — немедля согласился Данилочкин. — Наше упущение, их тоже следует вызвать, как их фамилия?
Слава не знал ни их фамилии, ни отчества, Федосей и Федосей, Надежда и Надежда…
Послали за Федосеем.
Данилочкин только хмыкнул при виде чудища с волосами.
— Вы кто есть?
— Мы — работники.
— У кого работники?
— У покойника.
— Какого еще покойника?
— У покойника Павла Федоровича жили в работниках, а сейчас у ихней супруги.
— Давно?
— Да, почитай, с двадцать годков.
— Так вот, коли ваш бывший хозяин скончался, имеете ли вы какую-нибудь претензию на его имущество?
— Какую ж пре… Хлеб нам еще за этот год должны.
— Вас как зовут?
— Федос.
— А полностью, полностью — имя, фамилия, отчество.
— Федос Сорока.
— А по отчеству?
Федосей ухмыльнулся.
— А по отчеству нас не зовут.
— А все-таки?
Федосей снова ухмыльнулся.
— Прокопьев…
— Так вот, гражданин Сорока Федосей Прокопьевич, ваш бывший хозяин, гражданин Астахов, скончался, имеете ли вы к нему какую-либо претензию?
— Я ж сказал, — сказал Федосей. — Хлеб он еще мне с женой должен.
— Вы должны ему хлеб? — Данилочкин повернулся к Марье Софроновне.
— Ничего я ему не должна, мало ли чего люди выдумают!
— Побойся бога! — Федосей даже руками всплеснул. — Не знаешь — не говори…
— Испугал ты ее богом! — Данилочкин опять хмыкнул и обратился к Филиппычу: — А вы чего просите?
— Ну, хоть амбар какой, сторожку в Дуровке, — попросил Филиппыч. — Куда ж мне деваться? И корову, — добавил он. — Хоть черную. Она хоть и яловая, я возьму.
— Ничего я ему не дам! — закричала Марья Софроновна. — Так любой потребует…
— А вы не кричите, мы не глухие, — оборвал ее Данилочкин и обратился затем к Вере Васильевне: — А вы, гражданка Астахова, что должно прийтись на вашу часть?
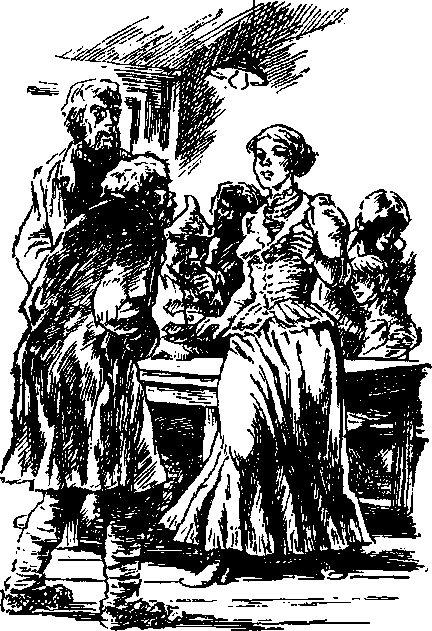
— Ничего, — тихо произнесла Вера Васильевна. — Я ни на что не претендую.
— То есть как ничего? — изумился Данилочкин. — У вас законное право, ваш покойный муж такой же совладелец, а младший сын тоже имеет право на долю, он вложил в хозяйство немало труда.
— Я понимаю, — тихо, но настойчиво повторила Вера Васильевна. — Но ни мне, ни моим сыновьям ничего не надо, я — учительница, в хозяйстве я не работала, а сын мой не хотел есть хлеб даром…
— Вы все-таки подумайте, — еще раз сказал Данилочкин, — это называется… Как это называется? — обернулся он к Никитину.
— Широкими жестами, — подсказал тот.
«Сейчас мама сдастся, — подумал Слава, — согласится что-нибудь взять, чтобы обеспечить нас на первое время».
Но Вера Васильевна не сдалась.
— Нет, — сказала она. — Я от всего отказываюсь.
— Вы это заявляете твердо и решительно? — еще раз спросил Данилочкин. — Это называется…
— Твердо и решительно, — повторила Вера Васильевна. — Ни мне, ни моим детям не нужно того, что мы не заработали.
— Пенять потом будете на себя…
Члены комиссии склонились над списком.
— Ну вот что, волостная комиссия… — начал было Данилочкин, но Дмитрий Фомич потянул Данилочкина к себе и зашептал что-то на ухо.
Данилочкин согласно кивнул.
— Решение волостной земельной комиссии будет объявлено завтра, — объявил он. — Кто интересуется, может сюда прийти.
На том судоговорение закончилось, а утром Данилочкин огласил решение: принимая во внимание долголетнюю работу Астахова Филиппа Ильича в хозяйстве, отписать на его имя все постройки на хуторе при деревне Дуровке, одну корову и одну лошадь; сад, имеющий промышленное значение, из частного владения изъять и передать в пользование Дуровскому сельскому Совету; Сороке Федосею Прокопьевичу совместно с женой Надеждой Кузьминичной в возмещение долголетней работы в качестве наемных рабочих выделить из построек, находящихся в селе Успенском, один амбар, расположенный рядом с пасекой, и одну корову; гражданке Астаховой Вере Васильевне, вследствие ее отказа от имущества, ничего не выделять; остальные постройки и скот, находящиеся в селе Успенском, переходят в собственность Астаховой Марьи Софроновны.
— Правильно говорят, что вы грабительская власть, — заявила Марья Софроновна. — Придется вам на том свете горячими угольками подавиться!
— Гражданка Астахова, призываю к порядку! — грозно прикрикнул на нее Данилочкин. — Не забывайтесь!
— С вами забудешься! — продолжала Марья Софроновна. — Испугалась я тебя, старый хрен!
— Вы оштрафованы! — завопил Данилочкин. — Штрафую вас на десять пудов ржи!
Марья Софроновна ничего больше не высказала в исполкоме, а то и вправду оштрафуют на десять пудов, рванула на улицу так, что задрожали двери, а выбежав наружу, запустила такую матерщину, что даже Филиппыч крякнул от удивления.
Но этим ее неприятности не закончились.
— Эй, Машка! — заговорил с ней без обычной почтительности Филиппыч. — Заруби себе на носу: ко мне в Дуровку ни ногой, делать тебе там больше нечего!
Марья Софроновна задохнулась:
— Так это ж моя имения!
— Твоя имения у тебя под подолом, а все остальное — общественная собственность!
Вне себя она бросилась в дом.
— Вы! — объявила она Вере Васильевне, шипя от злости. — Слышали? Вашего тут ничего нет, убирайтесь куда хотите, а не то Коська выкинет!
Слава растерялся — идти просить помощи у Данилочкина?
Но Вера Васильевна сама нашла выход, посоветовалась с Зерновым, зашла к почтмейстерше, у той пустовала комната, и хотя почтмейстерша могла при случае и выгодно продать, и выгодно купить, на этот раз, прослышав о том, что Вера Васильевна вынуждена уйти из дома, сдала комнату за божескую цену.
Сыновья перетащили вещички, перенесли из астаховского дома кровать, диван, несколько стульев, и Марья Софроновна не сказала по поводу вещей ни слова.
Не у дел очутился Петя, не на кого стало работать. Положение спас Филиппыч.
— Одному мне не справиться, пока не женюсь, — сказал он Пете. — Живи пока на хуторе, за работу я расплачусь, обеспечу вас с матерью и яблоками и капустой на всю зиму.
Услышав о переезде, Данилочкин вызвал Славу.
— Передай матери, пусть не волнуется, — сказал он. — Пусть не бросает школу, обеспечим ее дровами.
Но больше всего Славу удивил Федосей.
Когда ему объявили, что исполком присудил Сорокам амбар и корову, он никак не мог сразу взять это в толк. Наконец до него дошло. Два дня он ходил возле выделенного амбара, все что-то вымерял, присматривался. Спросил Марью Софроновну, какую из трех коров она отдает. Марья Софроновна указала на черную, яловую, облюбованную Филиппычем.
Коня, на котором Слава и Петя приехали из Малоархангельска, Федосей держал у соседей и раза по два в день приносил актированному коню свежескошенной травы, а то так и чуток овса, если удавалось отсыпать от хозяйских лошадей.
И вот в ближайшее утро Федосей исчез. Марья Софроновна не нашла на кухне Надежды, а затем не доискалась и Федосея. Вечером были дома, а утром не стало. Вместе с ними исчезли и черная корова, и серый конь. Но самое удивительное заключалось в том, что исчез амбар. На месте амбара зияла черная прогалина.
Когда и как Федосей успел разобрать и вывезти амбар, так и осталось загадкой. Ни с кем не попрощался, никому ничего не сказал, и куда уехал — тоже никто не знал.
Дом Астаховых кончился.
50
— На дворе август, — напомнила Вера Васильевна.
Слава и сам знал, что на дворе август.
— Ты куда собираешься?
А вот этого Слава не знал. На дворе август, а из укомпарта ничего. Слов на ветер Шабунин не бросает, но… Забыл? Дел у него невпроворот, что ему Ознобишин! А напомнить о себе не позволяло самолюбие.
Почта стояла на пересечении дорог, от церкви к реке, от волисполкома к Народному дому, посетители редко заходили в Успенское почтовое отделение. Почтмейстерша копалась в огороде, Петя помогал Филиппычу на хуторе, в доме царила тишина, и ничто не мешало разговорам Веры Васильевны со Славой.
О чем она говорила с сыном? О будущем? Каким-то оно будет?
Одно лето, а как неодинаково шло оно, это лето, даже для одной семьи. Петя весь в круговороте полевых работ, трудится с охотою, особенно после того, как хозяином хутора стал Филиппыч, держится с Петей, как с ровней, да еще обещал осенью, после обмолота, расплатиться полной мерой, по совести, и Петя старается, на один мамин заработок зиму не проживешь, в чем-то Петя старше Славы, на собственном опыте узнал цену тяжелого крестьянского труда. Вера Васильевна тоже готовится к зиме, никаких программ из Наркомпроса не присылают, а Зернов требует от нее «программу занятий», книжек надо достать для чтения в классе, помещичьи библиотеки разошлись по рукам, истреблены по невежеству, но кое-где книги сохранились, и с помощью учеников Вера Васильевна находит в избах томики Малерба, Мольера, Монтескье, хотя один бог ведает, для чего нужен ей Монтескье. Надо подумать и о том, во что одеваться и чем питаться, кое-что перешить, а кое-что и купить, хотя покупательские способности Веры Васильевны весьма ограниченны, надо достать бочку, чтоб наквасить капусты, сварить банку-другую варенья, да мало ли чего еще надо, что поминутно вспоминается и что невозможно запомнить. Покинув астаховский дом, Вера Васильевна повеселела, жить хоть и труднее, но теперь ей уже не приходится смотреть на жизнь из-под чьей-то руки, приходится надеяться лишь на самоё себя, и от этого больше в себе уверенности. Что касается Славы…
Чудное у него лето, из одной колеи выбился, а в другую не попал. Он привык работать для общества, а этим летом приходится работать только на себя.
Вернулся из Малоархангельска и сразу почувствовал себя не в своей тарелке, от него отвыкли в Успенском, Ознобишин в Успенском теперь хоть и не чужой, но и не свой.
А Данилочкин твердит одно:
— Учись, учись.
В Успенское приехал инструктор укомпарта Кислицын, Слава встречался с ним в Малоархангельске. Пожилой и неразговорчивый Кислицын до того, как перейти на партийную работу, служил землемером, в укомпарте занимался вопросами сельского хозяйства.
Как-то вечером, вернувшись домой, Слава увидел Кислицына с почтмейстершей на скамейке у входа на почту.
— Ба, кого я вижу! — воскликнул Кислицын. — Товарищу Ознобишину привет!
— Вы ко мне?
— Нет, нет, приехал по поводу уборочной кампании, а сюда попутно зашел, узнать, как работает почта.
Судя по истомленному виду почтмейстерши, Кислицын замучил ее расспросами.
— А как ты поживаешь, товарищ Ознобишин? — поинтересовался Кислицын и похлопал ладонью по скамейке, приглашая Славу сесть.
Разговорчивостью Кислицын не отличался, а тут вдруг засыпал Славу вопросами: как живет, как относится к нему волкомпарт, не загружают ли поручениями, готовится ли в университет…
Вера Васильевна позвала пить чай, Кислицын отказался:
— Благодарствуйте, пора в исполком, и так задержался, вижу, товарищ Ознобишин идет, ну как не поговорить…
Слава, однако, в случайность встречи не поверил.
— А вам ничего не говорили обо мне в укоме? — спросил Слава. — Относительно путевки там или еще чего?
— Чего не слышал, того не слышал. Просто думаю, что тебе сейчас самое святое дело — учиться.
Кислицын зашагал к волисполкому, а Слава остался сидеть на скамеечке.
Время шло, а Слава все не мог решить, кем ему стать — дипломатом или адвокатом, или же, как советовал, Шабунин, идти во врачи.
Не оставляла его в покое и Вера Васильевна:
— Слава, иди пить чай!
— Ах, мамочка…
Придвигала кружку с молоком.
— Ты же звала пить чай?
— Молоко полезнее.
Слава подчинялся, пил молоко, топтался возле вешалки, потом решительно надевал куртку, ночью бывало прохладно, особенно если они с Марусей проводили ночь на берегу Озерны.
Вера Васильевна обязательно спрашивала:
— Ты к Марусе?
— А куда ж еще, — неизменно отвечал Слава.
— Ах, Слава, — вздыхала Вера Васильевна, — тебе надо готовиться.
— Я беспокоюсь о тебе.
— А ты не беспокойся.
— Надо думать о своем будущем.
— О моем будущем позаботится укомпарт.
— Тебя там забыли…
Мама права, соглашался про себя Слава, и шел к Марусе.
Она его хоть и ждала, но не сидела без дела, когда он приходил, она или доила корову, или вместе с отцом готовила резку для скота, или прибирала в сенях, но приближение Славы угадывала, выбегала навстречу, звала в избу, ставила перед ним крынку с молоком.
— Попей парного.
Слава отказывался, Маруся обижалась:
— Гребуешь?
В угоду Марусе он снова пил молоко.
Потом уходили через конопляник в поле, сидели где-нибудь на меже или спускались к реке, искали место потемнее, прятались в тени ракиты, плеск реки заглушал голоса, и все равно старались говорить шепотом.
Слава несмело целовал Марусю в щеку, в шею, целовал руку, руку она отдергивала, потом сама целовала в губы, у Славы кружилась голова, но Маруся вдруг отстранялась, — только что они гадали, долетят ли когда-нибудь до Луны люди, — и строго спрашивала:
— К экзаменам готовишься?
— Готовлюсь, — сердито отвечал Слава.
— Ты уж постарайся, — повторяла Маруся. — Не то провалишься…
Славе становилось скучно, он сам отодвигался от Маруси — она будет поить его молоком и заставлять учиться.
Становилось прохладно, они снова прижимались друг к другу, на мгновение тьма становилась непроницаемой, и вдруг черное небо делалось серым, по воде ползли беловатые клочья тумана, начинала посвистывать невидимая птица, и Маруся серьезно говорила:
— Пора, скоро корову выгонять, а ты поспи и садись заниматься, на дворе август…
Маруся повторяла Веру Васильевну.
Слава шел домой, сперва вдоль Озерны, потом поверху, — туман рассеивался, все в природе обретало истинный цвет, голубело небо, зеленела трава, сияла киноварью крыша волисполкома.
Вот и почта, временный его дом, дверь в контору заперта двумя болтами, не выломать никому, почтмейстерша блюдет порядок, зато оконные рамы распахнуты, залезай и забирай хоть всю корреспонденцию.
Слава влез в окно и тихо прошел на жилую половину.
В комнате тишина. Петя посапывал на коечке у стены, пришел на ночь домой, и мама тоже как будто спала.
Слава осторожно сел за стол, спать не хотелось, придвинул учебники — надо наверстывать время, потраченное на прогулки при луне, — эх вы, синусы-косинусы…
Но мама, оказывается, не спала.
— Выпей молока, — вполголоса сказала Вера Васильевна. — Поспи и берись за учебники.
«О, господи…» — мысленно простонал Слава.
— Хорошо, — ответил он матери. — Я не хочу молока, я не хочу спать, ты же видишь, я занимаюсь.
Через полчаса он все-таки лег, не слышал, ни как встала Вера Васильевна, ни как уходил на хутор Петя.
Его разбудило постукивание каких-то деревяшек…
Слава прислушался. Постукивал кто-то в конторе. Голосов не слышно, Анна Васильевна копалась в огороде. Слава выглянул за дверь. Григорий.
— Где почтмейстерша? — спросил он. — Да не ищи, не ищи ее, я за тобой, Дмитрий Фомич послал…
— Случилось что?
— Бумага пришла для тебя…
Слава стремглав побежал в исполком через капустное поле.
Дмитрий Фомич со значительным видом вручил Славе пакет:
— Вячеславу Николаевичу Ознобишину из укомпарта!
Нет, не забыли его, Афанасий Петрович хозяин своему слову!
Путевка. Направление в Московский государственный университет.
И записка:
«…задержали путевку в губкоме. Собирайся! Опоздание на несколько дней не имеет значения, место забронировано, ты послан по партийной разверстке. Факультет соответствует особенностям твоего характера. Вспомни наш разговор: политика — коварная профессия… С ком. приветом…»
«Последний привет от Шабунина, — думает Слава. — Теперь он окончательно отпускает меня от себя».
— Вызывают на работу? — поинтересовался Дмитрий Фомич.
— Посылают учиться…
Слава побежал к Вере Васильевне.
— Мама, еду в Москву!
— А куда?
— На медицинский!
— Ты рад?
— Не знаю.
— А я рада. Такая хорошая профессия…
Начались сборы. А какие сборы? Выстирать и погладить две рубашки, начистить сапоги да лепешек на дорогу напечь?
Слава заторопился к Марусе.
— Уезжаю!
Маруся вздрогнула.
— О-ох!…
И больше ничего.
Долго сидели молча. Сказать надо было много, а слов не находилось. Марусе не хотелось оставаться одной, а Слава рвался уже в другой мир.
Вечером об отъезде брата узнал Петя.
— Опять бросаешь нас с мамой? — пошутил он. — Смотри не пропади…
Всю ночь Слава проговорил с матерью. Он возвращался в знакомую Москву и в то же время в Москву, которой не знал, где еще нужно отыскать свое место.
Московский университет. Сколько поколений Ознобишиных вышли из-под его сводов! Как-то встретит он Славу? Где остановиться? Вера Васильевна давно не писала деду, и дед не писал дочери. Жив ли он? Идти за помощью к Арсеньевым не хотелось, да и не пойдет он к ним. Николай Сергеевич Ознобишин не одобрил бы сына, если бы он прибегнул к протекции. А как быть самой Вере Васильевне? Пете тоже надо учиться. Вера Васильевна начала припоминать. Нашелся родственник в Петровской академии. Илья Анатольевич. Профессор. Надо зайти к нему, посоветоваться. Да и самой Вере Васильевне мало смысла оставаться в деревне. Зернов часто дает понять, что иностранные языки крестьянским детям ни к чему, умели бы пахать да косить, французский язык — это язык русских аристократов. Да и невозможно вечно находиться в зависимости от Анны Васильевны. Пусть Слава сходит в школу, где преподавала Вера Васильевна. Частная гимназия Хвостовой. Теперь она, вероятно, тоже называется школой второй ступени. Если ее возьмут обратно, Вера Васильевна вернулась бы…
Порешили на том, что Слава едет к деду, в общежитие проситься не будет, а на будущее лето Вера Васильевна и Петя тоже переберутся в Москву.
Утром надо было идти искать лошадь. Просить Данилочкина? Гужевая повинность отменена, своих лошадей исполком не имеет, только затруднять просьбами. Марью Софроновну просить бесполезно. У Филиппыча обмолот, неудобно…
Слава вспомнил о Денисовых и поймал себя на мысли о том, что в разговорах о Москве Вера Васильевна и сам Слава обошлись в будущей жизни без Маруси.
Неловко стало Славе в душе…
Днем зашел к Марусе.
— У кого бы нанять лошадь?
— Подожди…
Она нашла во дворе отца, поговорила, вернулась.
— Я сама отвезу тебя.
— Ты не обернешься за один день.
— Переночую на станции.
— Может, захватим Петю?
— Нет, я одна. Одна хочу проводить тебя.
Вторую половину дня Слава ходил по знакомым и прощался.
Ничто не изменилось в исполкоме за пять лет, Данилочкин сидит за письменным столом Быстрова, на том же обтянутом черной кожей диване, разве что кожа еще больше пообтрепалась и стерлась, по-прежнему сидит за своим дамским столиком Дмитрий Фомич.
Но душа у волисполкома другая, нет уже сквозняков, окна закрыты, все спокойно, уравновешенно, прочно.
— Улетаешь? — спрашивает Дмитрий Фомич. — Ушел Иван Фомич, улетаешь ты…
— Не тревожься за мать, — утешает Славу Данилочкин. — Поддержим…
На заре к почте подъезжает Маруся. Гнедая денисовская кобылка запряжена в легкие дрожки, Маруся в материнском плисовом жакете, для Славы на случай дождя брезентовый плащ.
Вера Васильевна видит в окне Марусю.
— Уже!
Долгие проводы — лишние слезы. Мама ничего не говорит. Держит себя в руках. Будит младшего сына.
— Петя, Слава уезжает!
Петя вскакивает, он привык рано вставать.
Слава обнимает мать, брата, выходит из дома, секунду колеблется и, хотя мама смотрит в окно, целует Марусю в щеку.
Она вопросительно взглядывает на Славу:
— Поехали?
Мягким движением отдает вожжи Славе и уступает место перед собой.
Ничего не сказано, они даже не думают об этом, но в этом движении исконный уклад деревенской жизни, женщина уступает мужчине первое место: ты хозяин, ты и вези.
Не успевает Слава сесть, как лошадка срывается с места, а он еще подергивает вожжами: скорее, скорее — это он тоже не осознает, спешит оставить Успенское.
Капустное поле, церковь, погост…
Многое он здесь оставляет! Здесь в школе возле церкви впервые увидел Степана Кузьмича, здесь неустрашимый Быстров спас дерзкую бабенку от озверевших мужиков, здесь хоронили Ивана Фомича, здесь, на ступеньках школы, они, первые комсомольцы, мечтали о необыкновенном будущем…
Простите меня!
Побежали орловские золотые поля…
Далеко, в голубой бездне, курчавые облака. Барашки. То несутся, то замедляют бег. Сизые, лиловатые, белые. Собьются в отару, закроют солнце и опять разбегутся.
А ведь такие хорошие стихи, думает Слава. Но Маруся почему-то не в настроении. Впрочем, понятно почему. Но зачем растравлять себе душу?
Кобылка бежит с завидной лихостью. Сыта, ладна, ухожена. Бежит себе, только пыль из-под копыт. По обочинам зеленая травка ковриками скатывается в канавы.
Слава и сам знал, что на дворе август.
— Ты куда собираешься?
А вот этого Слава не знал. На дворе август, а из укомпарта ничего. Слов на ветер Шабунин не бросает, но… Забыл? Дел у него невпроворот, что ему Ознобишин! А напомнить о себе не позволяло самолюбие.
Почта стояла на пересечении дорог, от церкви к реке, от волисполкома к Народному дому, посетители редко заходили в Успенское почтовое отделение. Почтмейстерша копалась в огороде, Петя помогал Филиппычу на хуторе, в доме царила тишина, и ничто не мешало разговорам Веры Васильевны со Славой.
О чем она говорила с сыном? О будущем? Каким-то оно будет?
Одно лето, а как неодинаково шло оно, это лето, даже для одной семьи. Петя весь в круговороте полевых работ, трудится с охотою, особенно после того, как хозяином хутора стал Филиппыч, держится с Петей, как с ровней, да еще обещал осенью, после обмолота, расплатиться полной мерой, по совести, и Петя старается, на один мамин заработок зиму не проживешь, в чем-то Петя старше Славы, на собственном опыте узнал цену тяжелого крестьянского труда. Вера Васильевна тоже готовится к зиме, никаких программ из Наркомпроса не присылают, а Зернов требует от нее «программу занятий», книжек надо достать для чтения в классе, помещичьи библиотеки разошлись по рукам, истреблены по невежеству, но кое-где книги сохранились, и с помощью учеников Вера Васильевна находит в избах томики Малерба, Мольера, Монтескье, хотя один бог ведает, для чего нужен ей Монтескье. Надо подумать и о том, во что одеваться и чем питаться, кое-что перешить, а кое-что и купить, хотя покупательские способности Веры Васильевны весьма ограниченны, надо достать бочку, чтоб наквасить капусты, сварить банку-другую варенья, да мало ли чего еще надо, что поминутно вспоминается и что невозможно запомнить. Покинув астаховский дом, Вера Васильевна повеселела, жить хоть и труднее, но теперь ей уже не приходится смотреть на жизнь из-под чьей-то руки, приходится надеяться лишь на самоё себя, и от этого больше в себе уверенности. Что касается Славы…
Чудное у него лето, из одной колеи выбился, а в другую не попал. Он привык работать для общества, а этим летом приходится работать только на себя.
Вернулся из Малоархангельска и сразу почувствовал себя не в своей тарелке, от него отвыкли в Успенском, Ознобишин в Успенском теперь хоть и не чужой, но и не свой.
А Данилочкин твердит одно:
— Учись, учись.
В Успенское приехал инструктор укомпарта Кислицын, Слава встречался с ним в Малоархангельске. Пожилой и неразговорчивый Кислицын до того, как перейти на партийную работу, служил землемером, в укомпарте занимался вопросами сельского хозяйства.
Как-то вечером, вернувшись домой, Слава увидел Кислицына с почтмейстершей на скамейке у входа на почту.
— Ба, кого я вижу! — воскликнул Кислицын. — Товарищу Ознобишину привет!
— Вы ко мне?
— Нет, нет, приехал по поводу уборочной кампании, а сюда попутно зашел, узнать, как работает почта.
Судя по истомленному виду почтмейстерши, Кислицын замучил ее расспросами.
— А как ты поживаешь, товарищ Ознобишин? — поинтересовался Кислицын и похлопал ладонью по скамейке, приглашая Славу сесть.
Разговорчивостью Кислицын не отличался, а тут вдруг засыпал Славу вопросами: как живет, как относится к нему волкомпарт, не загружают ли поручениями, готовится ли в университет…
Вера Васильевна позвала пить чай, Кислицын отказался:
— Благодарствуйте, пора в исполком, и так задержался, вижу, товарищ Ознобишин идет, ну как не поговорить…
Слава, однако, в случайность встречи не поверил.
— А вам ничего не говорили обо мне в укоме? — спросил Слава. — Относительно путевки там или еще чего?
— Чего не слышал, того не слышал. Просто думаю, что тебе сейчас самое святое дело — учиться.
Кислицын зашагал к волисполкому, а Слава остался сидеть на скамеечке.
Время шло, а Слава все не мог решить, кем ему стать — дипломатом или адвокатом, или же, как советовал, Шабунин, идти во врачи.
Не оставляла его в покое и Вера Васильевна:
— Слава, иди пить чай!
— Ах, мамочка…
Придвигала кружку с молоком.
— Ты же звала пить чай?
— Молоко полезнее.
Слава подчинялся, пил молоко, топтался возле вешалки, потом решительно надевал куртку, ночью бывало прохладно, особенно если они с Марусей проводили ночь на берегу Озерны.
Вера Васильевна обязательно спрашивала:
— Ты к Марусе?
— А куда ж еще, — неизменно отвечал Слава.
— Ах, Слава, — вздыхала Вера Васильевна, — тебе надо готовиться.
— Считаешь меня стрекозой?
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
— Я беспокоюсь о тебе.
— А ты не беспокойся.
— Надо думать о своем будущем.
— О моем будущем позаботится укомпарт.
— Тебя там забыли…
Мама права, соглашался про себя Слава, и шел к Марусе.
Она его хоть и ждала, но не сидела без дела, когда он приходил, она или доила корову, или вместе с отцом готовила резку для скота, или прибирала в сенях, но приближение Славы угадывала, выбегала навстречу, звала в избу, ставила перед ним крынку с молоком.
— Попей парного.
Слава отказывался, Маруся обижалась:
— Гребуешь?
В угоду Марусе он снова пил молоко.
Потом уходили через конопляник в поле, сидели где-нибудь на меже или спускались к реке, искали место потемнее, прятались в тени ракиты, плеск реки заглушал голоса, и все равно старались говорить шепотом.
Слава несмело целовал Марусю в щеку, в шею, целовал руку, руку она отдергивала, потом сама целовала в губы, у Славы кружилась голова, но Маруся вдруг отстранялась, — только что они гадали, долетят ли когда-нибудь до Луны люди, — и строго спрашивала:
— К экзаменам готовишься?
— Готовлюсь, — сердито отвечал Слава.
— Ты уж постарайся, — повторяла Маруся. — Не то провалишься…
Славе становилось скучно, он сам отодвигался от Маруси — она будет поить его молоком и заставлять учиться.
Становилось прохладно, они снова прижимались друг к другу, на мгновение тьма становилась непроницаемой, и вдруг черное небо делалось серым, по воде ползли беловатые клочья тумана, начинала посвистывать невидимая птица, и Маруся серьезно говорила:
— Пора, скоро корову выгонять, а ты поспи и садись заниматься, на дворе август…
Маруся повторяла Веру Васильевну.
Слава шел домой, сперва вдоль Озерны, потом поверху, — туман рассеивался, все в природе обретало истинный цвет, голубело небо, зеленела трава, сияла киноварью крыша волисполкома.
Вот и почта, временный его дом, дверь в контору заперта двумя болтами, не выломать никому, почтмейстерша блюдет порядок, зато оконные рамы распахнуты, залезай и забирай хоть всю корреспонденцию.
Слава влез в окно и тихо прошел на жилую половину.
В комнате тишина. Петя посапывал на коечке у стены, пришел на ночь домой, и мама тоже как будто спала.
Слава осторожно сел за стол, спать не хотелось, придвинул учебники — надо наверстывать время, потраченное на прогулки при луне, — эх вы, синусы-косинусы…
Но мама, оказывается, не спала.
— Выпей молока, — вполголоса сказала Вера Васильевна. — Поспи и берись за учебники.
«О, господи…» — мысленно простонал Слава.
— Хорошо, — ответил он матери. — Я не хочу молока, я не хочу спать, ты же видишь, я занимаюсь.
Через полчаса он все-таки лег, не слышал, ни как встала Вера Васильевна, ни как уходил на хутор Петя.
Его разбудило постукивание каких-то деревяшек…
Слава прислушался. Постукивал кто-то в конторе. Голосов не слышно, Анна Васильевна копалась в огороде. Слава выглянул за дверь. Григорий.
— Где почтмейстерша? — спросил он. — Да не ищи, не ищи ее, я за тобой, Дмитрий Фомич послал…
— Случилось что?
— Бумага пришла для тебя…
Слава стремглав побежал в исполком через капустное поле.
Дмитрий Фомич со значительным видом вручил Славе пакет:
— Вячеславу Николаевичу Ознобишину из укомпарта!
Нет, не забыли его, Афанасий Петрович хозяин своему слову!
Путевка. Направление в Московский государственный университет.
И записка:
«…задержали путевку в губкоме. Собирайся! Опоздание на несколько дней не имеет значения, место забронировано, ты послан по партийной разверстке. Факультет соответствует особенностям твоего характера. Вспомни наш разговор: политика — коварная профессия… С ком. приветом…»
«Последний привет от Шабунина, — думает Слава. — Теперь он окончательно отпускает меня от себя».
— Вызывают на работу? — поинтересовался Дмитрий Фомич.
— Посылают учиться…
Слава побежал к Вере Васильевне.
— Мама, еду в Москву!
— А куда?
— На медицинский!
— Ты рад?
— Не знаю.
— А я рада. Такая хорошая профессия…
Начались сборы. А какие сборы? Выстирать и погладить две рубашки, начистить сапоги да лепешек на дорогу напечь?
Слава заторопился к Марусе.
— Уезжаю!
Маруся вздрогнула.
— О-ох!…
И больше ничего.
Долго сидели молча. Сказать надо было много, а слов не находилось. Марусе не хотелось оставаться одной, а Слава рвался уже в другой мир.
Вечером об отъезде брата узнал Петя.
— Опять бросаешь нас с мамой? — пошутил он. — Смотри не пропади…
Всю ночь Слава проговорил с матерью. Он возвращался в знакомую Москву и в то же время в Москву, которой не знал, где еще нужно отыскать свое место.
Московский университет. Сколько поколений Ознобишиных вышли из-под его сводов! Как-то встретит он Славу? Где остановиться? Вера Васильевна давно не писала деду, и дед не писал дочери. Жив ли он? Идти за помощью к Арсеньевым не хотелось, да и не пойдет он к ним. Николай Сергеевич Ознобишин не одобрил бы сына, если бы он прибегнул к протекции. А как быть самой Вере Васильевне? Пете тоже надо учиться. Вера Васильевна начала припоминать. Нашелся родственник в Петровской академии. Илья Анатольевич. Профессор. Надо зайти к нему, посоветоваться. Да и самой Вере Васильевне мало смысла оставаться в деревне. Зернов часто дает понять, что иностранные языки крестьянским детям ни к чему, умели бы пахать да косить, французский язык — это язык русских аристократов. Да и невозможно вечно находиться в зависимости от Анны Васильевны. Пусть Слава сходит в школу, где преподавала Вера Васильевна. Частная гимназия Хвостовой. Теперь она, вероятно, тоже называется школой второй ступени. Если ее возьмут обратно, Вера Васильевна вернулась бы…
Порешили на том, что Слава едет к деду, в общежитие проситься не будет, а на будущее лето Вера Васильевна и Петя тоже переберутся в Москву.
Утром надо было идти искать лошадь. Просить Данилочкина? Гужевая повинность отменена, своих лошадей исполком не имеет, только затруднять просьбами. Марью Софроновну просить бесполезно. У Филиппыча обмолот, неудобно…
Слава вспомнил о Денисовых и поймал себя на мысли о том, что в разговорах о Москве Вера Васильевна и сам Слава обошлись в будущей жизни без Маруси.
Неловко стало Славе в душе…
Днем зашел к Марусе.
— У кого бы нанять лошадь?
— Подожди…
Она нашла во дворе отца, поговорила, вернулась.
— Я сама отвезу тебя.
— Ты не обернешься за один день.
— Переночую на станции.
— Может, захватим Петю?
— Нет, я одна. Одна хочу проводить тебя.
Вторую половину дня Слава ходил по знакомым и прощался.
Ничто не изменилось в исполкоме за пять лет, Данилочкин сидит за письменным столом Быстрова, на том же обтянутом черной кожей диване, разве что кожа еще больше пообтрепалась и стерлась, по-прежнему сидит за своим дамским столиком Дмитрий Фомич.
Но душа у волисполкома другая, нет уже сквозняков, окна закрыты, все спокойно, уравновешенно, прочно.
— Улетаешь? — спрашивает Дмитрий Фомич. — Ушел Иван Фомич, улетаешь ты…
— Не тревожься за мать, — утешает Славу Данилочкин. — Поддержим…
На заре к почте подъезжает Маруся. Гнедая денисовская кобылка запряжена в легкие дрожки, Маруся в материнском плисовом жакете, для Славы на случай дождя брезентовый плащ.
Вера Васильевна видит в окне Марусю.
— Уже!
Долгие проводы — лишние слезы. Мама ничего не говорит. Держит себя в руках. Будит младшего сына.
— Петя, Слава уезжает!
Петя вскакивает, он привык рано вставать.
Слава обнимает мать, брата, выходит из дома, секунду колеблется и, хотя мама смотрит в окно, целует Марусю в щеку.
Она вопросительно взглядывает на Славу:
— Поехали?
Мягким движением отдает вожжи Славе и уступает место перед собой.
Ничего не сказано, они даже не думают об этом, но в этом движении исконный уклад деревенской жизни, женщина уступает мужчине первое место: ты хозяин, ты и вези.
Не успевает Слава сесть, как лошадка срывается с места, а он еще подергивает вожжами: скорее, скорее — это он тоже не осознает, спешит оставить Успенское.
Капустное поле, церковь, погост…
Многое он здесь оставляет! Здесь в школе возле церкви впервые увидел Степана Кузьмича, здесь неустрашимый Быстров спас дерзкую бабенку от озверевших мужиков, здесь хоронили Ивана Фомича, здесь, на ступеньках школы, они, первые комсомольцы, мечтали о необыкновенном будущем…
Простите меня!
Побежали орловские золотые поля…
Далеко, в голубой бездне, курчавые облака. Барашки. То несутся, то замедляют бег. Сизые, лиловатые, белые. Собьются в отару, закроют солнце и опять разбегутся.
— Не нужно стихов, — говорит Маруся, — своих слов, что ли, у тебя нет?
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы…
А ведь такие хорошие стихи, думает Слава. Но Маруся почему-то не в настроении. Впрочем, понятно почему. Но зачем растравлять себе душу?
Кобылка бежит с завидной лихостью. Сыта, ладна, ухожена. Бежит себе, только пыль из-под копыт. По обочинам зеленая травка ковриками скатывается в канавы.
