Страница:
Сани медленно скользили по снежному насту, один из мужичков держал в руках вожжи, другие два шли рядом, поодаль тащились старухи, да за санями шли Быстрова и Ознобишин.
«Как же пустынно вокруг и одиноко, — думал Слава. — Неужели никому уже нет дела до Степана Кузьмича?»
Пустая дорога, молчаливые избы, холодное небо…
Он оглянулся. Нет, шагах в пятидесяти позади шло еще несколько человек. Шел Жильцов, Павел Тихонович, председатель сельсовета, и Василий Созонтович Жильцов, первый богач в Корсунском, и Дегтярев Тихон Андреевич, еще несколько человек, всех Слава не знает или не помнит, двое парней в теплых суконных пиджаках, и еще кто-то в городском полупальто, отороченном мехом, лицо его как будто знакомо, Слава видел его, но не может припомнить где.
Он еще раз оглянулся. Да ведь это же самые зажиточные хозяева во всем Корсунском… Славе стало даже не по себе. Что им нужно? Кулаки провожают Быстрова в последний путь!
Так и двигалась эта процессия — сани с гробом, три мужичка, соседи Быстровых, за санями жена покойного и Слава, подальше старухи и еще дальше те, кто всегда трепетал перед Быстровым при его жизни, у кого он проводил обыски и безжалостно отбирал найденное зерно.
Спустились в лощину, миновали церковь…
Кладбище все в снегу, снег на воротах, на изгороди, на крестах. Протоптана лишь одна дорожка, должно быть, все те же трое мужичков протоптали, когда накануне ходили копать могилу. Лошадь остановилась. Гроб сняли, понесли.
Последнее прибежище Степана Кузьмича Быстрова. Ни пола с молитвой, ни стрелка с ружьем для салюта. Мужички покряхтели, один чуть не оступился, и принялись опускать гроб. Не до речей, здесь последнее «прости» не перед кем сказать.
Быстрова отступила от Славы на шаг, а один из мужичков, наоборот, приблизился к Славе.
— Кидайте, — просипел он и сунул Славе в руку лопату.
Слава склонил голову, поднял лопату, земля смерзлась, не слушалась, все же он поддел, комья земли стукнулись о крышку гроба, и мужички следом принялись быстро забрасывать могилу…
Быстрова, Слава, старухи идут обратно, у ворот стоят Жильцовы и их дружки, и среди них тот, в полупальто с меховым воротником, которого Слава где-то все-таки видел. Они точно не замечают ни женщин, ни Ознобишина, смотрят в сторону новой могилы и вздыхают… Соболезнуют?… Вот тебе и «скормили бы его собакам».
Все так просто и буднично, что Славе очевидна несостоятельность слухов и подозрений, о которых говорили и Егорыч, и Вера Васильевна.
Надо бы как-то утешить Быстрову, но у Славы нет нужных слов.
Он доходит с ней до ее избы.
— Прощайте, — говорит Слава. — Если что понадобится ребятам…
— Может, зайдете? — приглашает Быстрова. — Помянем Степана Кузьмича…
«Недоставало только, чтобы я поминал Степана Кузьмича со всем этим кулачьем», — думает Слава.
Обращается к Павлу Тихоновичу Жильцову:
— Лошадь моя у вас, Павел Тихонович?
— У нас, у нас, — подтверждает тот. — Да куда вы спешите?
— Не могу, — отказывается Слава. — Прикажите запрячь.
— Мигом. — Жильцов кивает одному из парней. — А то остались бы?
Парень чуть не бегом покидает компанию. Слава подает руку Быстровой и Жильцову и уходит вслед за парнем.
Тот выводит из конюшни Урагана, запрягает в ползунки, протягивает гостю вожжи, Слава забирается под полость, с места пускает коня рысью и летит по распахнутой ему навстречу солнечной зимней дороге.
«Как же пустынно вокруг и одиноко, — думал Слава. — Неужели никому уже нет дела до Степана Кузьмича?»
Пустая дорога, молчаливые избы, холодное небо…
Он оглянулся. Нет, шагах в пятидесяти позади шло еще несколько человек. Шел Жильцов, Павел Тихонович, председатель сельсовета, и Василий Созонтович Жильцов, первый богач в Корсунском, и Дегтярев Тихон Андреевич, еще несколько человек, всех Слава не знает или не помнит, двое парней в теплых суконных пиджаках, и еще кто-то в городском полупальто, отороченном мехом, лицо его как будто знакомо, Слава видел его, но не может припомнить где.
Он еще раз оглянулся. Да ведь это же самые зажиточные хозяева во всем Корсунском… Славе стало даже не по себе. Что им нужно? Кулаки провожают Быстрова в последний путь!
Так и двигалась эта процессия — сани с гробом, три мужичка, соседи Быстровых, за санями жена покойного и Слава, подальше старухи и еще дальше те, кто всегда трепетал перед Быстровым при его жизни, у кого он проводил обыски и безжалостно отбирал найденное зерно.
Спустились в лощину, миновали церковь…
Кладбище все в снегу, снег на воротах, на изгороди, на крестах. Протоптана лишь одна дорожка, должно быть, все те же трое мужичков протоптали, когда накануне ходили копать могилу. Лошадь остановилась. Гроб сняли, понесли.
Последнее прибежище Степана Кузьмича Быстрова. Ни пола с молитвой, ни стрелка с ружьем для салюта. Мужички покряхтели, один чуть не оступился, и принялись опускать гроб. Не до речей, здесь последнее «прости» не перед кем сказать.
Быстрова отступила от Славы на шаг, а один из мужичков, наоборот, приблизился к Славе.
— Кидайте, — просипел он и сунул Славе в руку лопату.
Слава склонил голову, поднял лопату, земля смерзлась, не слушалась, все же он поддел, комья земли стукнулись о крышку гроба, и мужички следом принялись быстро забрасывать могилу…
Быстрова, Слава, старухи идут обратно, у ворот стоят Жильцовы и их дружки, и среди них тот, в полупальто с меховым воротником, которого Слава где-то все-таки видел. Они точно не замечают ни женщин, ни Ознобишина, смотрят в сторону новой могилы и вздыхают… Соболезнуют?… Вот тебе и «скормили бы его собакам».
Все так просто и буднично, что Славе очевидна несостоятельность слухов и подозрений, о которых говорили и Егорыч, и Вера Васильевна.
Надо бы как-то утешить Быстрову, но у Славы нет нужных слов.
Он доходит с ней до ее избы.
— Прощайте, — говорит Слава. — Если что понадобится ребятам…
— Может, зайдете? — приглашает Быстрова. — Помянем Степана Кузьмича…
«Недоставало только, чтобы я поминал Степана Кузьмича со всем этим кулачьем», — думает Слава.
Обращается к Павлу Тихоновичу Жильцову:
— Лошадь моя у вас, Павел Тихонович?
— У нас, у нас, — подтверждает тот. — Да куда вы спешите?
— Не могу, — отказывается Слава. — Прикажите запрячь.
— Мигом. — Жильцов кивает одному из парней. — А то остались бы?
Парень чуть не бегом покидает компанию. Слава подает руку Быстровой и Жильцову и уходит вслед за парнем.
Тот выводит из конюшни Урагана, запрягает в ползунки, протягивает гостю вожжи, Слава забирается под полость, с места пускает коня рысью и летит по распахнутой ему навстречу солнечной зимней дороге.
37
Славе хочется изгнать из памяти эти жалкие похороны, Быстров достоин лучших похорон, но забыть их ему не удастся никогда.
На околице какой-то прохожий вышел на дорогу. Не натяни Слава вожжи, Ураган подмял бы его.
Мужчина в меховом полупальто, имя которого Слава тщетно пытался вспомнить на кладбище!
— Вы в своем уме?! — сердито крикнул Слава, останавливая коня.
— А что, испугались? — задорно спросил незнакомец, улыбаясь Ознобишину. — Тоже ушел с поминок, жду вас, подвезете до Черногрязки?
Слава подвинулся.
— Садитесь…
— Не узнаете? — все так же весело спросил незнакомец.
— Нет.
— Я сразу заприметил, что не узнаете. Выжлецов я, мельник из Козловки. Помните, приезжали ко мне с Быстровым… Оружие отбирать.
Господи… Да как же он мог забыть эти рыжие усики и бегающие голубые глазки?… Выжлецов! Он, правда, подобрел, лицо лоснится, глазки заплыли жирком, но все такой же вертлявенький, и Слава не понимает, почему на кладбище он казался и выше, и осанистее.
— Забыл, — признался Слава. — Ведь это когда было? Года три уже…
— А я не забыл, — весело продолжал Выжлецов. — Никогда ничего не забываю. И как чай вы у меня пили, и как пулемет встребовали…
Славе стало не по себе.
— А пистолетик сейчас при вас? — ласково осведомился Выжлецов.
— Какой пистолетик?
— Какой положен вам при вашей должности. Для охраны себя и государства.
— Нет у меня никакого пистолетика, — сердито сказал Слава. — Да и не нужен он мне.
— И напрасно, с пистолетиком завсегда спокойнее, — наставительно возразил Выжлецов. — А при мне пистолетик, и в случае надобности я могу его и применить.
Славе понятно, Выжлецову хочется его попугать.
— Пугаете меня?
— По возможности, — отвечал Выжлецов, улыбаясь. — Три года назад вы меня пугали, теперь мой черед.
— Не получится, — сказал Слава, хотя на душе у него неспокойно. — Я не из пугливых, я школу прошел не у кого-нибудь, а у Степана Кузьмича.
— А мы и его угомонили, — вдруг зло и противно сказал Выжлецов.
Теперь уже Слава отодвинулся от своего соседа.
— То есть как угомонили?
— А очень просто: привели приговор в исполнение.
— Какой приговор?
— Видишь ли, парень, удайся Антонову восстание, — принялся неторопливо рассуждать Выжлецов, — установилась бы в России наша, мужицкая, власть, и я бы при этой власти обязательно стал председателем трибунала.
— И что же бы ты делал? — насмешливо спросил Слава, тоже переходя на «ты», как и его собеседник. — Что бы ты делал, председатель трибунала?
— Вешал бы таких, как ты.
— Значит…
— Правильно, правильно, — подтвердил Выжлецов. — Приговорили мы твоего наставника и…
И выразительный жест подкрепил слова Выжлецова.
— Так вы… — Славе трудно произнести это слово. — Убили его?
— Зачем убили? — поправил Выжлецов. — Казнили, а не убили.
И жестоко в подробностях рассказал.
Лишь спустя много месяцев из рассказа Выжлецова и отдельных подробностей, запомнившихся разным людям, встречавшим Быстрова незадолго до смерти, Слава смог понять, как погиб Быстров.
…Очутившись не у дел, Быстров старался не сидеть сложа руки. С утра справлял всякие хозяйственные нужды: колол дрова, замешивал корове резку, поправлял домашние постройки. Иногда шел в читальню и бегло просматривал газеты. Разговаривать о текущих событиях не любил, все, что писалось в газетах, было ему, видимо, не по нутру. Редко, но случалось, заходил в сельсовет. Там тоже ни с кем и ни о чем не говорил. Постоит, послушает, что говорят другие, и уйдет. Кое-кто в Малоархангельске дивился, что он не уехал обратно в Донбасс работать на шахте. Но Славе, еще когда он жил в Успенском, казалось, что Быстров болен, износился, хотя сам он никому на здоровье не жаловался. К вечеру, когда Степаном Кузьмичом очень уж, должно быть, овладевала тоска, он доставал самогон. В общем, после исключения из партии жил он бездеятельно и скучно.
Он и в то утро встал, как обычно, спозаранку. Пообещал жене съездить в лес, нарубить дров. Деревья он рубил безнаказанно, для лесников он по-прежнему оставался начальством, и никто не осмелился бы задержать Быстрова в лесу. Дети ушли в школу. За женой прибежала соседская девчонка, позвала к соседям. Жена вскоре вернулась, сказала, что Выжлецов, мельник из Козловки, хочет с Быстровым поговорить. Он удивился: «Что ему от меня надо? — и сказал: — Пусть приходит». Жена сказала, что Выжлецов будет ждать его в роще. Быстров сказал, что ни в какую рощу не пойдет, если нужен, пусть приходят к нему. Тогда жена ушла снова и, возвратясь, сказала, что Выжлецов хочет показать Быстрову место, где зарыто оружие. Время борьбы с Советской властью кончилось, и Выжлецов хочет разоружиться. От такого дела Быстров отмахнуться не мог, оно было в характере Быстрова: самому разоружить, самому принять капитуляцию… В нем вспыхнул прежний Быстров. Он оделся, бросил жене на ходу: «Я скоро вернусь» — и ушел.
Подходя к роще, Быстров насторожился, Выжлецов стоял на опушке, вид у него был неуверенный, сконфуженный, один Выжлецов не мог быть опасен для Быстрова.
Легким шагом Быстров приблизился к невзрачному человечку.
— Ну, что там у тебя, показывай.
— Добрый день, Степан Кузьмич, — вежливо поздоровался Выжлецов. — Чуть подальше. Идемте.
Незащищенно повернулся к Быстрову спиной, пошел в глубь рощи.
И вдруг из-за поросли молодых дубков показались Василий Созонтович Жильцов, Фролов, Купавин…
Быстров тут же понял, что его ждет, повернись он и побеги, он мог от них уйти, вряд ли они рискнули бы стрелять, стрельба днем в роще вызвала бы в деревне переполох.
Но гордости Быстрову было не занимать стать, именно классовой, революционной гордости.
Не промедли он, спас бы себе жизнь!
Но он продолжал идти за Выжлецовым, навстречу корсунским богатеям, для которых был олицетворением той самой бедноты, что порушила все хозяйственные устои и грозила самому их существованию.
А через минуту на прогалину выбежали те самые кулацкие сынки, которых тот же Быстров беспощадно преследовал за дезертирство.
Выжлецов повернулся, махнул им рукой, и они скопом навалились на Быстрова.
Как псы, что вцепляются в затравленного медведя, повисли эти парни на Быстрове, схватили за руки, за ноги, теперь уж им никак нельзя было его упустить.
— Приторачивайте, приторачивайте его! — Выжлецов указал на ближний дуб. — Веревками. Покрепче!
Веревки у них были припасены, все было рассчитано заранее. Быстрова привязали к стволу.
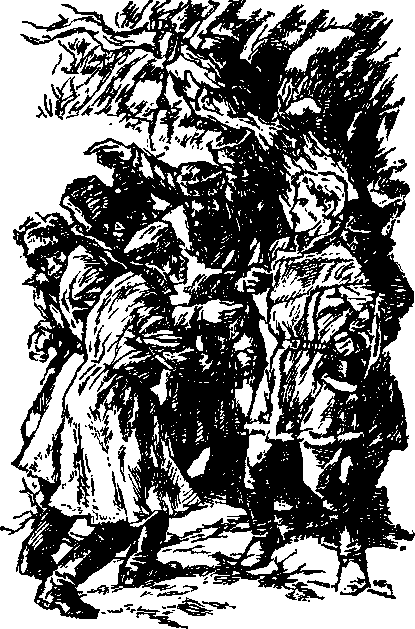 Подошли отцы этих парней, молча встали напротив Быстрова.
Подошли отцы этих парней, молча встали напротив Быстрова.
— Ну а дальше что? — хрипло спросил Быстров, сглатывая слюну.
— А дальше мы тебя судить будем, собака! — крикнул Выжлецов. — Ты нас, а мы тебя!
Степан Кузьмич всегда был не трусливого десятка, а кулаков этих не боялся совсем.
— Это вы-то судьи? — насмешливо произнес он.
— А кто ж мы, по-твоему? — заносчиво спросил Выжлецов.
— Гниды вы, вот вы кто. Я с вами и говорить-то считаю ниже своего достоинства.
Один из парней кинулся к Быстрову.
— Толька, прочь! — осадил Выжлецов. — Ты у меня не самоуправничай, не давай воли рукам, пусть все идет по закону… — Он оборотился к Жильцову. — Судить будем, Василий Созонтович, или как?
Тот промолчал, и Выжлецов опять обратился к Быстрову.
— Так слушай же, предаем мы тебя нашему мужицкому суду.
Он и впрямь затеял игру в суд.
— Василий Созонтыч, выскажись, что у тебя отнял Быстров?
— Двух коней реквизировал, это еще до Деникина, а опосля хлеб.
— Сколько? — спросил Выжлецов.
— Одиножды сто пудов из амбара, а двести пудов в риге откопал.
— А у тебя, Парфен Иваныч?
— А у меня овец на мясо забрал, в город отправил.
Выжлецов понуждал высказаться каждого, кто находился в роще, и у каждого нашлось, что поставить Быстрову в вину.
Выступил и Выжлецов, припомнил Степану Кузьмичу и ружья, и пулемет, отобранные в одну из туманных ночей в Козловке, и муку, вывезенную на станцию в счет гарнцевого сбора…
Все эти люди были обижены на Советскую власть, и за все обиды отвечать сегодня приходилось Быстрову.
Выжлецов высказался и развел руками.
— Что можете сказать в свое оправдание, гражданин Быстров?
— А только то, что жалею сейчас, — сказал Быстров, — что не арестовал тебя в ту ночь, когда отбирал оружие, тебя судить надо было, а я пожалел тебя, прохвост ты эдакий!
— На ваши оскорбления отвечать не нахожу нужным, — с достоинством ответил Выжлецов. — Мы здесь не какие-нибудь бандиты…
Выжлецов повернулся к соучастникам.
— Что ж, мужики, какое будет ваше постановление? — И сам ответил: — А постановление будет такое: за разорение крестьянства предать Быстрова Степана Кузьмича смертной казни через повешение. — Он посмотрел в глаза каждому из судей. — Как, мужики, возражениев нет? — И опять сам ответил: — Нет. — Поманил рукой двух парней. — Толька и ты, Ваня, заберитесь вон на тот дуб, завяжите петлю и перекиньте через тот сук.
— Гражданин Быстров, последнее желание у вас будет?
— Будет, — сказал Быстров. — Дай напоследок закурить.
— Это мы можем, — согласился Выжлецов. — Подайте-ка мне кисет…
Ему подали кисет, он аккуратно свернул козью ножку, послюнил, насыпал махорки и поднес цигарку к губам Быстрова.
Но Быстров вдруг отрицательно мотнул головой.
— Нет, не хочу, — сказал он. — Не хочу табаку из твоих поганых рук…
Он бешеными глазами посмотрел на своего палача.
— Вешай! — закричал он. — Вешай, мать твою, все равно не уйти тебе от наших пролетарских рук!
— Мужики, мужики, сюда, — скомандовал Выжлецов и всех до одного заставил подойти и взяться за конец веревки — страховался на всякий случай. — Ну, Степан Кузьмич, извини…
Никто не знал, кто тянул веревку, получалось, тянули все.
Постояли с полчаса возле Быстрова.
— Теперь расходись, — приказал Выжлецов. — А кто проговорится — вздернем на том же суку.
Ураган шел ровной иноходью, солнышко холодно сияло над головой, слепило белизной снежное поле, а рядом сидел убийца Быстрова, и Слава ничего не мог с ним сделать.
— Вы палач.
— Водиться с палачами — не торговать калачами, — загадочно отозвался Выжлецов. — Кому негодный, а кому годный, все люди живут по одному закону, и кому-то надо воздавать им по заслугам.
— Как же вы не боитесь? — спросил Слава. — Вернусь, сразу сообщу о вашем преступлении.
— А ничего у вас не получится, — уверенно сказал Выжлецов.
— Почему?
— Никто не поверит, а и поверит, так ничего не доказать. Лови ветер в поле, ничего я вам не говорил, мало ли что придумали вы по злобе. А впрочем, могу себя еще верней обезопасить.
— Это как же? — насмешливо спросил Слава.
— Да по тебе веревка тоже давно плачет, — зло сказал Выжлецов. — Крысенок обязательно крысой вырастет, отправлю тебя туда же, куда учителя твоего отправили, и вся недолга.
Слава попытался придать своему лицу беспечное выражение, но в сердце у него затрепетал мерзкий холодный комок.
— В Малоархангельске знают, куда я поехал, будут искать, придется висеть еще кому-нибудь, кроме меня, — сказал он как можно равнодушнее. — Так что бросьте свои штучки.
— А ну, вылезай! — истерически взвизгнул Выжлецов. — Какие там штучки! Будешь до весны в сугробе валяться, покуда собаки не найдут!
— Иди к черту, — сказал Слава, чувствуя себя совершенно беспомощным.
— А ты вроде своего Быстрова, не из трусливых, — с уважением сказал Выжлецов. — Даю тебе еще полчаса жизни, проедем Черногрязку, тогда…
Но в деревне Выжлецов соскочил с ползунков.
— Так я ж шутю! — выкрикнул он с напускным весельем. — Езжай себе с богом, спасибо за компанию, мне отседова домой…
Слава дернул вожжами, Ураган перешел на рысь, оглядываться не хотелось, у Славы не было уверенности, что Выжлецов не выстрелит ему в спину.
Ползунки миновали колодец посреди деревни, теперь вправо на Успенское…
Слава оглянулся.
Пусто. В отдалении стоят двое ребятишек, а Выжлецова след простыл, растаял, растворился в слепящей белизне солнечного морозного дня.
На околице какой-то прохожий вышел на дорогу. Не натяни Слава вожжи, Ураган подмял бы его.
Мужчина в меховом полупальто, имя которого Слава тщетно пытался вспомнить на кладбище!
— Вы в своем уме?! — сердито крикнул Слава, останавливая коня.
— А что, испугались? — задорно спросил незнакомец, улыбаясь Ознобишину. — Тоже ушел с поминок, жду вас, подвезете до Черногрязки?
Слава подвинулся.
— Садитесь…
— Не узнаете? — все так же весело спросил незнакомец.
— Нет.
— Я сразу заприметил, что не узнаете. Выжлецов я, мельник из Козловки. Помните, приезжали ко мне с Быстровым… Оружие отбирать.
Господи… Да как же он мог забыть эти рыжие усики и бегающие голубые глазки?… Выжлецов! Он, правда, подобрел, лицо лоснится, глазки заплыли жирком, но все такой же вертлявенький, и Слава не понимает, почему на кладбище он казался и выше, и осанистее.
— Забыл, — признался Слава. — Ведь это когда было? Года три уже…
— А я не забыл, — весело продолжал Выжлецов. — Никогда ничего не забываю. И как чай вы у меня пили, и как пулемет встребовали…
Славе стало не по себе.
— А пистолетик сейчас при вас? — ласково осведомился Выжлецов.
— Какой пистолетик?
— Какой положен вам при вашей должности. Для охраны себя и государства.
— Нет у меня никакого пистолетика, — сердито сказал Слава. — Да и не нужен он мне.
— И напрасно, с пистолетиком завсегда спокойнее, — наставительно возразил Выжлецов. — А при мне пистолетик, и в случае надобности я могу его и применить.
Славе понятно, Выжлецову хочется его попугать.
— Пугаете меня?
— По возможности, — отвечал Выжлецов, улыбаясь. — Три года назад вы меня пугали, теперь мой черед.
— Не получится, — сказал Слава, хотя на душе у него неспокойно. — Я не из пугливых, я школу прошел не у кого-нибудь, а у Степана Кузьмича.
— А мы и его угомонили, — вдруг зло и противно сказал Выжлецов.
Теперь уже Слава отодвинулся от своего соседа.
— То есть как угомонили?
— А очень просто: привели приговор в исполнение.
— Какой приговор?
— Видишь ли, парень, удайся Антонову восстание, — принялся неторопливо рассуждать Выжлецов, — установилась бы в России наша, мужицкая, власть, и я бы при этой власти обязательно стал председателем трибунала.
— И что же бы ты делал? — насмешливо спросил Слава, тоже переходя на «ты», как и его собеседник. — Что бы ты делал, председатель трибунала?
— Вешал бы таких, как ты.
— Значит…
— Правильно, правильно, — подтвердил Выжлецов. — Приговорили мы твоего наставника и…
И выразительный жест подкрепил слова Выжлецова.
— Так вы… — Славе трудно произнести это слово. — Убили его?
— Зачем убили? — поправил Выжлецов. — Казнили, а не убили.
И жестоко в подробностях рассказал.
Лишь спустя много месяцев из рассказа Выжлецова и отдельных подробностей, запомнившихся разным людям, встречавшим Быстрова незадолго до смерти, Слава смог понять, как погиб Быстров.
…Очутившись не у дел, Быстров старался не сидеть сложа руки. С утра справлял всякие хозяйственные нужды: колол дрова, замешивал корове резку, поправлял домашние постройки. Иногда шел в читальню и бегло просматривал газеты. Разговаривать о текущих событиях не любил, все, что писалось в газетах, было ему, видимо, не по нутру. Редко, но случалось, заходил в сельсовет. Там тоже ни с кем и ни о чем не говорил. Постоит, послушает, что говорят другие, и уйдет. Кое-кто в Малоархангельске дивился, что он не уехал обратно в Донбасс работать на шахте. Но Славе, еще когда он жил в Успенском, казалось, что Быстров болен, износился, хотя сам он никому на здоровье не жаловался. К вечеру, когда Степаном Кузьмичом очень уж, должно быть, овладевала тоска, он доставал самогон. В общем, после исключения из партии жил он бездеятельно и скучно.
Он и в то утро встал, как обычно, спозаранку. Пообещал жене съездить в лес, нарубить дров. Деревья он рубил безнаказанно, для лесников он по-прежнему оставался начальством, и никто не осмелился бы задержать Быстрова в лесу. Дети ушли в школу. За женой прибежала соседская девчонка, позвала к соседям. Жена вскоре вернулась, сказала, что Выжлецов, мельник из Козловки, хочет с Быстровым поговорить. Он удивился: «Что ему от меня надо? — и сказал: — Пусть приходит». Жена сказала, что Выжлецов будет ждать его в роще. Быстров сказал, что ни в какую рощу не пойдет, если нужен, пусть приходят к нему. Тогда жена ушла снова и, возвратясь, сказала, что Выжлецов хочет показать Быстрову место, где зарыто оружие. Время борьбы с Советской властью кончилось, и Выжлецов хочет разоружиться. От такого дела Быстров отмахнуться не мог, оно было в характере Быстрова: самому разоружить, самому принять капитуляцию… В нем вспыхнул прежний Быстров. Он оделся, бросил жене на ходу: «Я скоро вернусь» — и ушел.
Подходя к роще, Быстров насторожился, Выжлецов стоял на опушке, вид у него был неуверенный, сконфуженный, один Выжлецов не мог быть опасен для Быстрова.
Легким шагом Быстров приблизился к невзрачному человечку.
— Ну, что там у тебя, показывай.
— Добрый день, Степан Кузьмич, — вежливо поздоровался Выжлецов. — Чуть подальше. Идемте.
Незащищенно повернулся к Быстрову спиной, пошел в глубь рощи.
И вдруг из-за поросли молодых дубков показались Василий Созонтович Жильцов, Фролов, Купавин…
Быстров тут же понял, что его ждет, повернись он и побеги, он мог от них уйти, вряд ли они рискнули бы стрелять, стрельба днем в роще вызвала бы в деревне переполох.
Но гордости Быстрову было не занимать стать, именно классовой, революционной гордости.
Не промедли он, спас бы себе жизнь!
Но он продолжал идти за Выжлецовым, навстречу корсунским богатеям, для которых был олицетворением той самой бедноты, что порушила все хозяйственные устои и грозила самому их существованию.
А через минуту на прогалину выбежали те самые кулацкие сынки, которых тот же Быстров беспощадно преследовал за дезертирство.
Выжлецов повернулся, махнул им рукой, и они скопом навалились на Быстрова.
Как псы, что вцепляются в затравленного медведя, повисли эти парни на Быстрове, схватили за руки, за ноги, теперь уж им никак нельзя было его упустить.
— Приторачивайте, приторачивайте его! — Выжлецов указал на ближний дуб. — Веревками. Покрепче!
Веревки у них были припасены, все было рассчитано заранее. Быстрова привязали к стволу.
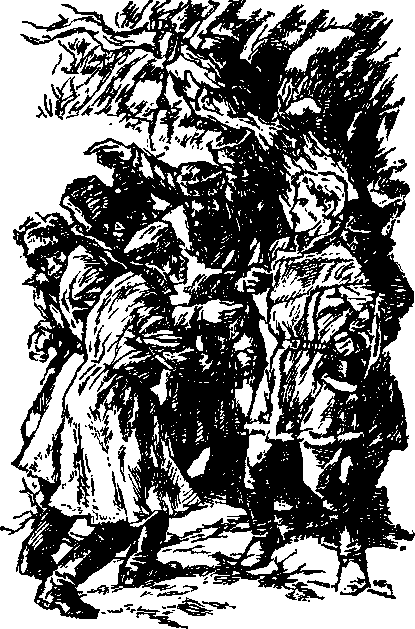
— Ну а дальше что? — хрипло спросил Быстров, сглатывая слюну.
— А дальше мы тебя судить будем, собака! — крикнул Выжлецов. — Ты нас, а мы тебя!
Степан Кузьмич всегда был не трусливого десятка, а кулаков этих не боялся совсем.
— Это вы-то судьи? — насмешливо произнес он.
— А кто ж мы, по-твоему? — заносчиво спросил Выжлецов.
— Гниды вы, вот вы кто. Я с вами и говорить-то считаю ниже своего достоинства.
Один из парней кинулся к Быстрову.
— Толька, прочь! — осадил Выжлецов. — Ты у меня не самоуправничай, не давай воли рукам, пусть все идет по закону… — Он оборотился к Жильцову. — Судить будем, Василий Созонтович, или как?
Тот промолчал, и Выжлецов опять обратился к Быстрову.
— Так слушай же, предаем мы тебя нашему мужицкому суду.
Он и впрямь затеял игру в суд.
— Василий Созонтыч, выскажись, что у тебя отнял Быстров?
— Двух коней реквизировал, это еще до Деникина, а опосля хлеб.
— Сколько? — спросил Выжлецов.
— Одиножды сто пудов из амбара, а двести пудов в риге откопал.
— А у тебя, Парфен Иваныч?
— А у меня овец на мясо забрал, в город отправил.
Выжлецов понуждал высказаться каждого, кто находился в роще, и у каждого нашлось, что поставить Быстрову в вину.
Выступил и Выжлецов, припомнил Степану Кузьмичу и ружья, и пулемет, отобранные в одну из туманных ночей в Козловке, и муку, вывезенную на станцию в счет гарнцевого сбора…
Все эти люди были обижены на Советскую власть, и за все обиды отвечать сегодня приходилось Быстрову.
Выжлецов высказался и развел руками.
— Что можете сказать в свое оправдание, гражданин Быстров?
— А только то, что жалею сейчас, — сказал Быстров, — что не арестовал тебя в ту ночь, когда отбирал оружие, тебя судить надо было, а я пожалел тебя, прохвост ты эдакий!
— На ваши оскорбления отвечать не нахожу нужным, — с достоинством ответил Выжлецов. — Мы здесь не какие-нибудь бандиты…
Выжлецов повернулся к соучастникам.
— Что ж, мужики, какое будет ваше постановление? — И сам ответил: — А постановление будет такое: за разорение крестьянства предать Быстрова Степана Кузьмича смертной казни через повешение. — Он посмотрел в глаза каждому из судей. — Как, мужики, возражениев нет? — И опять сам ответил: — Нет. — Поманил рукой двух парней. — Толька и ты, Ваня, заберитесь вон на тот дуб, завяжите петлю и перекиньте через тот сук.
— Гражданин Быстров, последнее желание у вас будет?
— Будет, — сказал Быстров. — Дай напоследок закурить.
— Это мы можем, — согласился Выжлецов. — Подайте-ка мне кисет…
Ему подали кисет, он аккуратно свернул козью ножку, послюнил, насыпал махорки и поднес цигарку к губам Быстрова.
Но Быстров вдруг отрицательно мотнул головой.
— Нет, не хочу, — сказал он. — Не хочу табаку из твоих поганых рук…
Он бешеными глазами посмотрел на своего палача.
— Вешай! — закричал он. — Вешай, мать твою, все равно не уйти тебе от наших пролетарских рук!
— Мужики, мужики, сюда, — скомандовал Выжлецов и всех до одного заставил подойти и взяться за конец веревки — страховался на всякий случай. — Ну, Степан Кузьмич, извини…
Никто не знал, кто тянул веревку, получалось, тянули все.
Постояли с полчаса возле Быстрова.
— Теперь расходись, — приказал Выжлецов. — А кто проговорится — вздернем на том же суку.
Ураган шел ровной иноходью, солнышко холодно сияло над головой, слепило белизной снежное поле, а рядом сидел убийца Быстрова, и Слава ничего не мог с ним сделать.
— Вы палач.
— Водиться с палачами — не торговать калачами, — загадочно отозвался Выжлецов. — Кому негодный, а кому годный, все люди живут по одному закону, и кому-то надо воздавать им по заслугам.
— Как же вы не боитесь? — спросил Слава. — Вернусь, сразу сообщу о вашем преступлении.
— А ничего у вас не получится, — уверенно сказал Выжлецов.
— Почему?
— Никто не поверит, а и поверит, так ничего не доказать. Лови ветер в поле, ничего я вам не говорил, мало ли что придумали вы по злобе. А впрочем, могу себя еще верней обезопасить.
— Это как же? — насмешливо спросил Слава.
— Да по тебе веревка тоже давно плачет, — зло сказал Выжлецов. — Крысенок обязательно крысой вырастет, отправлю тебя туда же, куда учителя твоего отправили, и вся недолга.
Слава попытался придать своему лицу беспечное выражение, но в сердце у него затрепетал мерзкий холодный комок.
— В Малоархангельске знают, куда я поехал, будут искать, придется висеть еще кому-нибудь, кроме меня, — сказал он как можно равнодушнее. — Так что бросьте свои штучки.
— А ну, вылезай! — истерически взвизгнул Выжлецов. — Какие там штучки! Будешь до весны в сугробе валяться, покуда собаки не найдут!
— Иди к черту, — сказал Слава, чувствуя себя совершенно беспомощным.
— А ты вроде своего Быстрова, не из трусливых, — с уважением сказал Выжлецов. — Даю тебе еще полчаса жизни, проедем Черногрязку, тогда…
Но в деревне Выжлецов соскочил с ползунков.
— Так я ж шутю! — выкрикнул он с напускным весельем. — Езжай себе с богом, спасибо за компанию, мне отседова домой…
Слава дернул вожжами, Ураган перешел на рысь, оглядываться не хотелось, у Славы не было уверенности, что Выжлецов не выстрелит ему в спину.
Ползунки миновали колодец посреди деревни, теперь вправо на Успенское…
Слава оглянулся.
Пусто. В отдалении стоят двое ребятишек, а Выжлецова след простыл, растаял, растворился в слепящей белизне солнечного морозного дня.
38
В Малоархангельске прежде всего следовало сдать коня, Слава завернул на конный двор и, не заходя в укомол, отправился к Шабунину.
— К нему нельзя, пишет, — сказал Селиверстов.
— Но у меня совершенно, совершенно безотлагательное дело…
— У всех безотлагательное, — проворчал Селиверстов и сжалился: — Ладно уж, иди.
Шабунин, как и было сказано, писал, но тут же оторвался от бумаг.
— Как съездил?
— Хорошо.
Впрочем, что хорошего было в этой поездке?…
— Ничего не поделаешь. Всем нам приходится терять близких людей. Важно уметь расстаться с тем, что когда-то жило, радовало, светило, а потом отжило, превратилось в обузу, стало затемнять свет. Закон развития. Приходится иногда оглядываться, однако оглядываться оглядывайся, а больше смотри вперед. Прошлое может послать пулю в спину, но если далеко ушел вперед, пуля не достигнет цели. Быстров для тебя вчерашний день. В нем было много хорошего, но — вчерашний. А впереди новые дни, много дней борьбы и света, которые тоже станут когда-нибудь вчерашними…
В общем-то — слова, но слова эти успокаивали Славу, ставили все на свое место.
— Я вам должен сказать…
— Слушаю.
— Быстрова убили…
Он рассказал Шабунину о слухах, какие ходили в связи со смертью Быстрова, и, главное, передал свой разговор с Выжлецовым.
— Ты точно передаешь разговор?
— Афанасий Петрович!
— У тебя есть склонность к преувеличениям… Трудно допустить, чтобы человек решился на такое саморазоблачение. Впрочем, это пустой разговор. Может, он придумал все это для того, чтобы отравить тебе жизнь? Если ты поверишь, это надолго оставит в тебе осадок…
Слава видел: Шабунин не верит в насильственную смерть Быстрова.
Слава умоляюще смотрел на Шабунина, а тот смотрел на Ознобишина, и чем горячее тот настаивал на своей версии, тем понятнее становилось ему состояние души Ознобишина. Слишком многим был Быстров для этого парня, и потому вопреки фактам он не позволит развенчать своего героя. Иллюзия?… Дай бог ему пронести эту иллюзию сквозь всю свою жизнь!
И, однако, суровый долг учителя — кем иным должен быть Шабунин для Ознобишина? — повелевал Шабунину иллюзию эту разрушить.
— Семин мне иначе докладывал, а он человек осведомленный… Впрочем, не мешает тебе самому поговорить с Семиным. Расскажи ему обо всем, он поможет тебе разобраться.
Слава с горечью подумал, что Быстров Шабунина уже не интересует, — «спящий во гробе мирно спи»…
На другой день после работы Слава пошел к Семину. Кирпичный особнячок в три окна с железными решетками на окнах. Недавно здесь помещалась УЧК, уездная чрезвычайная комиссия, теперь вывеска сменилась — «Уполномоченный Государственного Политического Управления».
Семин и стал этим уполномоченным.
Тесный кабинетик, на столе школьная чернильница-непроливайка, школьная ручка, промокашка.
— Здравствуй, Василий Тихонович.
— Здравствуй… товарищ Ознобишин.
— Мне велел зайти… — к вам? к тебе? к тебе! — зайти к тебе Афанасий Петрович…
— Да, товарищ Шабунин звонил, — подтвердил Семин и откинулся на спинку стула. — Так что у тебя?
— Был в Рагозине, и, видишь ли… Быстрова, оказывается, убили!
— Почему же ты так решил?
— Сказал человек, который сам участвовал в убийстве…
Он не мог говорить с Семиным с той непосредственностью, с какой говорил с Шабуниным, поэтому и сосредоточился, чтобы возможно точнее передать подробности встречи с Выжлецовым.
— Погоди, пожалуйста…
Семин достал из стола пачку чистой бумаги и приготовился записывать.
Слава сосредоточился еще больше, слово не воробей, говорить надо ответственно, только то, что запомнил на самом деле.
Он рассказал, как происходили похороны, как вернулся с Быстровой, как Выжлецов попросил подвести, рассказал даже о разговоре с Сосняковым.
Семин все записывал и записывал, иногда жестом показывал, чтобы Слава говорил медленнее, и писал, писал, покрывая четким размашистым почерком листок за листком.
Слава надеялся, что Семин проявит хоть какое-то волнение, ведь он знал Быстрова не меньше Славы, возможно, именно Быстров давал Семину рекомендацию в партию, но Семин остался безучастным до конца рассказа.
— Все? — спросил Семин.
— Все, — сказал Слава.
— Пустое дело, — сказал Семин.
— Что — пустое дело?
— Все, что ты сейчас рассказал, — сказал Семин, — все это маловероятно.
Слава не верил своим ушам.
— Зачем же Выжлецову наговаривать на себя?
— Чтоб напугать тебя, — снисходительно объяснил Семин. — Участвуй он на самом деле в убийстве, никогда и никому бы об этом не рассказал. Думаешь, ему следом за Быстровым в петлю захотелось? Подтвердись твой рассказ, Выжлецову высшей меры не миновать.
— А все эти подробности?
Семин поиграл школьной ручкой, ловко покрутил, обмакнул перо в чернильницу и сделал на листке пометку.
— Послушай, Ознобишин, ты читал писателя Достоевского? А я читал. Не положено рассказывать о совещаниях в ЧК, но тебе скажу. Голикова знаешь?
Кто в Орле не слышал о Голикове? Это был, фигурально выражаясь, карающий меч пролетарской революции, а проще — недавно председатель Орловской губчека, а ныне начальник губернского отдела ГПУ.
— Так вот, Яков Захарович, — ну как же, для Семина Голиков просто Яков Захарович! — говорил нам на совещании: очень советую обратить внимание на писателя Достоевского, прочтете не без пользы, выдающийся криминалист. Поверишь ли, я пять ночей читал…
— С чем тебя и поздравляю. Только при чем тут Достоевский?
— А при том, что это только у Достоевского преступники приходят в следственные органы и сами каются в содеянных преступлениях.
Выжлецов оказался прав, не верил Семин Ознобишину.
— Но ведь Быстрова вынули из петли?
— Нервишки не выдержали, спился. У меня на эту тему множество донесений.
— Василий Тихонович, ты же знал Быстрова, разве он способен был полезть в петлю?
— Способен. Характерный случай перерождения. Оторвался от масс. Опустился. Что ему еще оставалось?
Славе вспомнилась остренькая мордочка Выжлецова.
Нет, Выжлецов не врал, он почувствовал свою силу…
Сердце Славы раздирала жалость к Быстрову. Пропасть так бессмысленно, зазря…
Глухое раздражение нарастало в нем против Семина. Он указал на пачку исписанной бумаги.
— Для чего же ты записал мой рассказ?
— Для архива, — любезно объяснил Семин. — На всякий случай. Может, когда-нибудь и пригодится.
Слава зло посмотрел на Семина.
— Значит, Выжлецов останется безнаказанным?
— Не было преступления, не будет и наказания.
— А я уверен, что Выжлецов преступник.
— С нашей, классовой, точки зрения, безусловно, преступник, — согласился Семин. — Пойми, Ознобишин, неужели ты думаешь, у меня в Рагозине и в Корсунском нет своих людей? Да и случись убийство, Афанасий Петрович не позволил бы оставить его безнаказанным.
— Значит, Выжлецова не за что судить?
— Почему не за что?! Я бы в первую очередь судил его за то, что он заморочил тебе мозги. Ведь вон как он к тебе подобрался! Вывел из равновесия, понадеялся, что сорвешься. Хорошо, что у тебя есть возможность прийти ко мне. Я же тебе объясняю: за сказки мы еще пока не судим.
— Но ведь самые что ни на есть мироеды шли за его гробом, я сам видел!
— Потому и шли, что не убивали. Ты психологически рассуди: если бы убили, сидели бы по своим закуткам и носа бы не казали, умер и умер, нас, мол, это дело не касается.
— А почему они его на кладбище провожали?
— А потому, что они его и мертвого боялись, своими глазами хотели видеть, как его закопают.
Семин убедительно рассуждал, Слава засомневался, неужели Выжлецов хотел на нем отыграться? Но если Выжлецов не убивал, тем хуже для Славы, Выжлецову удалось его обмануть, значит, Слава плохо разбирается в происках классового врага.
— Но ведь Выжлецов — враг? — о отчаянием спросил Слава.
— Враг, — согласился Семин. — Придет время, доберемся и до него, но пришивать ему убийство Быстрова даже политически вредно. Зачем превращать Быстрова в объект классовой ненависти кулаков и тем самым поднимать авторитет человека, изгнанного из рядов партии?
Семин оставался верен себе, точно он не с людьми имел дело, а в шахматы играл.
— Я пойду, — сказал Слава.
— Счастливо, — сказал Семин. — Если еще что-нибудь узнаешь, заходи.
— Ты какой-то бесчувственный, Василий Тихонович, — сказал Слава. — Я был о тебе лучшего мнения.
— А чувства и политика вещи несовместимые, — холодно ответил Семин и дал Ознобишину совет: — На твоем месте я бы с комсомольской работы ушел, при такой фантазии тебе лучше податься в писатели.
Все-таки у Славы создалось впечатление, что Семин чего-то недоговаривает.
Он нехотя повернулся к двери, и вдруг Семин его окликнул:
— Погоди-ка…
Слава остановился.
— Ну?
«Чем-то он меня сейчас огорошит?» — подумал Слава.
— Садись, садись, — приказал Семин, указывая на стул, сам встал из-за стола, поставил поближе к столу стоявшую в углу табуретку, заглянул в коридор и позвал: — Егорушкин!
На пороге появился красноармеец.
Семин прошептал ему что-то на ухо.
— Быстро! — вслух сказал Семин. — Во дворе не задерживайтесь, из двери в дверь.
Егорушкин исчез.
— Куда это ты его послал? — полюбопытствовал Слава.
— В КПЗ.
— Это что еще за КПЗ?
— Камера предварительного заключения.
— К нему нельзя, пишет, — сказал Селиверстов.
— Но у меня совершенно, совершенно безотлагательное дело…
— У всех безотлагательное, — проворчал Селиверстов и сжалился: — Ладно уж, иди.
Шабунин, как и было сказано, писал, но тут же оторвался от бумаг.
— Как съездил?
— Хорошо.
Впрочем, что хорошего было в этой поездке?…
— Ничего не поделаешь. Всем нам приходится терять близких людей. Важно уметь расстаться с тем, что когда-то жило, радовало, светило, а потом отжило, превратилось в обузу, стало затемнять свет. Закон развития. Приходится иногда оглядываться, однако оглядываться оглядывайся, а больше смотри вперед. Прошлое может послать пулю в спину, но если далеко ушел вперед, пуля не достигнет цели. Быстров для тебя вчерашний день. В нем было много хорошего, но — вчерашний. А впереди новые дни, много дней борьбы и света, которые тоже станут когда-нибудь вчерашними…
В общем-то — слова, но слова эти успокаивали Славу, ставили все на свое место.
— Я вам должен сказать…
— Слушаю.
— Быстрова убили…
Он рассказал Шабунину о слухах, какие ходили в связи со смертью Быстрова, и, главное, передал свой разговор с Выжлецовым.
— Ты точно передаешь разговор?
— Афанасий Петрович!
— У тебя есть склонность к преувеличениям… Трудно допустить, чтобы человек решился на такое саморазоблачение. Впрочем, это пустой разговор. Может, он придумал все это для того, чтобы отравить тебе жизнь? Если ты поверишь, это надолго оставит в тебе осадок…
Слава видел: Шабунин не верит в насильственную смерть Быстрова.
Слава умоляюще смотрел на Шабунина, а тот смотрел на Ознобишина, и чем горячее тот настаивал на своей версии, тем понятнее становилось ему состояние души Ознобишина. Слишком многим был Быстров для этого парня, и потому вопреки фактам он не позволит развенчать своего героя. Иллюзия?… Дай бог ему пронести эту иллюзию сквозь всю свою жизнь!
И, однако, суровый долг учителя — кем иным должен быть Шабунин для Ознобишина? — повелевал Шабунину иллюзию эту разрушить.
— Семин мне иначе докладывал, а он человек осведомленный… Впрочем, не мешает тебе самому поговорить с Семиным. Расскажи ему обо всем, он поможет тебе разобраться.
Слава с горечью подумал, что Быстров Шабунина уже не интересует, — «спящий во гробе мирно спи»…
На другой день после работы Слава пошел к Семину. Кирпичный особнячок в три окна с железными решетками на окнах. Недавно здесь помещалась УЧК, уездная чрезвычайная комиссия, теперь вывеска сменилась — «Уполномоченный Государственного Политического Управления».
Семин и стал этим уполномоченным.
Тесный кабинетик, на столе школьная чернильница-непроливайка, школьная ручка, промокашка.
— Здравствуй, Василий Тихонович.
— Здравствуй… товарищ Ознобишин.
— Мне велел зайти… — к вам? к тебе? к тебе! — зайти к тебе Афанасий Петрович…
— Да, товарищ Шабунин звонил, — подтвердил Семин и откинулся на спинку стула. — Так что у тебя?
— Был в Рагозине, и, видишь ли… Быстрова, оказывается, убили!
— Почему же ты так решил?
— Сказал человек, который сам участвовал в убийстве…
Он не мог говорить с Семиным с той непосредственностью, с какой говорил с Шабуниным, поэтому и сосредоточился, чтобы возможно точнее передать подробности встречи с Выжлецовым.
— Погоди, пожалуйста…
Семин достал из стола пачку чистой бумаги и приготовился записывать.
Слава сосредоточился еще больше, слово не воробей, говорить надо ответственно, только то, что запомнил на самом деле.
Он рассказал, как происходили похороны, как вернулся с Быстровой, как Выжлецов попросил подвести, рассказал даже о разговоре с Сосняковым.
Семин все записывал и записывал, иногда жестом показывал, чтобы Слава говорил медленнее, и писал, писал, покрывая четким размашистым почерком листок за листком.
Слава надеялся, что Семин проявит хоть какое-то волнение, ведь он знал Быстрова не меньше Славы, возможно, именно Быстров давал Семину рекомендацию в партию, но Семин остался безучастным до конца рассказа.
— Все? — спросил Семин.
— Все, — сказал Слава.
— Пустое дело, — сказал Семин.
— Что — пустое дело?
— Все, что ты сейчас рассказал, — сказал Семин, — все это маловероятно.
Слава не верил своим ушам.
— Зачем же Выжлецову наговаривать на себя?
— Чтоб напугать тебя, — снисходительно объяснил Семин. — Участвуй он на самом деле в убийстве, никогда и никому бы об этом не рассказал. Думаешь, ему следом за Быстровым в петлю захотелось? Подтвердись твой рассказ, Выжлецову высшей меры не миновать.
— А все эти подробности?
Семин поиграл школьной ручкой, ловко покрутил, обмакнул перо в чернильницу и сделал на листке пометку.
— Послушай, Ознобишин, ты читал писателя Достоевского? А я читал. Не положено рассказывать о совещаниях в ЧК, но тебе скажу. Голикова знаешь?
Кто в Орле не слышал о Голикове? Это был, фигурально выражаясь, карающий меч пролетарской революции, а проще — недавно председатель Орловской губчека, а ныне начальник губернского отдела ГПУ.
— Так вот, Яков Захарович, — ну как же, для Семина Голиков просто Яков Захарович! — говорил нам на совещании: очень советую обратить внимание на писателя Достоевского, прочтете не без пользы, выдающийся криминалист. Поверишь ли, я пять ночей читал…
— С чем тебя и поздравляю. Только при чем тут Достоевский?
— А при том, что это только у Достоевского преступники приходят в следственные органы и сами каются в содеянных преступлениях.
Выжлецов оказался прав, не верил Семин Ознобишину.
— Но ведь Быстрова вынули из петли?
— Нервишки не выдержали, спился. У меня на эту тему множество донесений.
— Василий Тихонович, ты же знал Быстрова, разве он способен был полезть в петлю?
— Способен. Характерный случай перерождения. Оторвался от масс. Опустился. Что ему еще оставалось?
Славе вспомнилась остренькая мордочка Выжлецова.
Нет, Выжлецов не врал, он почувствовал свою силу…
Сердце Славы раздирала жалость к Быстрову. Пропасть так бессмысленно, зазря…
Глухое раздражение нарастало в нем против Семина. Он указал на пачку исписанной бумаги.
— Для чего же ты записал мой рассказ?
— Для архива, — любезно объяснил Семин. — На всякий случай. Может, когда-нибудь и пригодится.
Слава зло посмотрел на Семина.
— Значит, Выжлецов останется безнаказанным?
— Не было преступления, не будет и наказания.
— А я уверен, что Выжлецов преступник.
— С нашей, классовой, точки зрения, безусловно, преступник, — согласился Семин. — Пойми, Ознобишин, неужели ты думаешь, у меня в Рагозине и в Корсунском нет своих людей? Да и случись убийство, Афанасий Петрович не позволил бы оставить его безнаказанным.
— Значит, Выжлецова не за что судить?
— Почему не за что?! Я бы в первую очередь судил его за то, что он заморочил тебе мозги. Ведь вон как он к тебе подобрался! Вывел из равновесия, понадеялся, что сорвешься. Хорошо, что у тебя есть возможность прийти ко мне. Я же тебе объясняю: за сказки мы еще пока не судим.
— Но ведь самые что ни на есть мироеды шли за его гробом, я сам видел!
— Потому и шли, что не убивали. Ты психологически рассуди: если бы убили, сидели бы по своим закуткам и носа бы не казали, умер и умер, нас, мол, это дело не касается.
— А почему они его на кладбище провожали?
— А потому, что они его и мертвого боялись, своими глазами хотели видеть, как его закопают.
Семин убедительно рассуждал, Слава засомневался, неужели Выжлецов хотел на нем отыграться? Но если Выжлецов не убивал, тем хуже для Славы, Выжлецову удалось его обмануть, значит, Слава плохо разбирается в происках классового врага.
— Но ведь Выжлецов — враг? — о отчаянием спросил Слава.
— Враг, — согласился Семин. — Придет время, доберемся и до него, но пришивать ему убийство Быстрова даже политически вредно. Зачем превращать Быстрова в объект классовой ненависти кулаков и тем самым поднимать авторитет человека, изгнанного из рядов партии?
Семин оставался верен себе, точно он не с людьми имел дело, а в шахматы играл.
— Я пойду, — сказал Слава.
— Счастливо, — сказал Семин. — Если еще что-нибудь узнаешь, заходи.
— Ты какой-то бесчувственный, Василий Тихонович, — сказал Слава. — Я был о тебе лучшего мнения.
— А чувства и политика вещи несовместимые, — холодно ответил Семин и дал Ознобишину совет: — На твоем месте я бы с комсомольской работы ушел, при такой фантазии тебе лучше податься в писатели.
Все-таки у Славы создалось впечатление, что Семин чего-то недоговаривает.
Он нехотя повернулся к двери, и вдруг Семин его окликнул:
— Погоди-ка…
Слава остановился.
— Ну?
«Чем-то он меня сейчас огорошит?» — подумал Слава.
— Садись, садись, — приказал Семин, указывая на стул, сам встал из-за стола, поставил поближе к столу стоявшую в углу табуретку, заглянул в коридор и позвал: — Егорушкин!
На пороге появился красноармеец.
Семин прошептал ему что-то на ухо.
— Быстро! — вслух сказал Семин. — Во дворе не задерживайтесь, из двери в дверь.
Егорушкин исчез.
— Куда это ты его послал? — полюбопытствовал Слава.
— В КПЗ.
— Это что еще за КПЗ?
— Камера предварительного заключения.
