Страница:
- << Первая
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- Следующая »
- Последняя >>
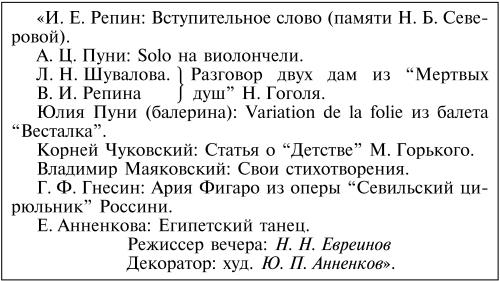
У Лидии Гинзбург в воспоминаниях есть запись: «Ч. рассказывал Боре Бухштабу, как Маяковский писал в Одессе „Облако в штанах“ и читал Корнею Ивановичу наброски.
Там был отрывок, который начинался «Мария, отдайся!»
– Что вы! – сказал Ч. – Кто теперь говорит женщине «отдайся»? – Просто «дай».
Так Маяковский создал знаменитое: Мария, дай».
Наброски, естественно, писались и читались в Куоккале, это события поэмы происходили в Одессе.
В мемуарах Софьи Богданович Чуковский и Маяковский идут рядом – одного роста, «оба высокие, черноволосые, на вид одного возраста, хотя К. И. был старше на одиннадцать лет, но такие разные. К. И. тонкий, гибкий, необыкновенно подвижный, лицо все время меняется, даже когда он молчит, точно каждая мысль отражается во взгляде, то в движении губ, то в морщинке, пробегающей по лбу».
Роднило их и другое – в то лето оба были жестоко недовольны собой; Маяковский неприкаянно болтался от дома к дому, метался от одной возлюбленной к другой, пока (в том же году) не встретил Лилю Брик, которую полюбил на всю жизнь… Маяковского не признавали настоящим поэтом, Чуковского по-прежнему считали поверхностным критиком… Они-то друг в друге видели и ум, и талант, и глубину, во многом совпадали и их взгляды на литературу. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить написанную в 1914 году статью Маяковского «2 Чехова» и многочисленные статьи Чуковского – о том же Чехове, о Шевченко, о Гаршине, – где автор пытается стирать «хрестоматийный глянец» и говорить о живых писателях, а не их бронзовых бюстах. Так же и Маяковский говорит о Некрасове, который «как вкусные сдобные баранки, нанизывал строчки на нитку гражданских идей», о Пушкине, «который был веселым хозяином на великом празднике бракосочетания слов», о Чехове – «сильном, веселом художнике слова», и ему невыносимо, что «всем кажется, что писатель корпит только над одной мыслью, которую он хочет защитить, исправить вас, и что ценить его будут только, если он, объяснив жизнь, научит бороться с нею». Совпадение подходов замечательное, и поговорить Чуковскому с Маяковским наверняка было о чем.
Уже в 1960-х, отвечая на письмо, автор которого обвинял Маяковского в «холопстве», Чуковский писал: «Это был очень прямой, очень гордый, очень убежденный 23-летний человек. В нем никогда не было ни грамма сервилизма. Он верил во всё, о чем писал. В этой вере было его счастье. Какой он был силач, видно из его стихотворения „Во весь голос“. Но я согласен с Вами, он часто бывал слабоват, когда „наступал на горло собственной песне“. Во всяком случае – это был чудесный образец русского человека – верного своим друзьям, прямолинейного, верующего и – бескорыстного. Я не всегда был с ним согласен, но всегда любовался им».
Кончилось это сосуществование поэта и критика каким-то конфликтом, о котором нигде ясно не рассказывается: есть только смутные свидетельства, легенды, отголоски. В июле 1915 года житель Куоккалы и участник всех местных артистических затей, близкий к футуристам художник Иван Пуни писал Малевичу среди прочих дачных новостей: «Маяковского выкатили из Куоккала, где он торчал все время. Сделал какое-то свинство, и его больше не пускают к себе ни Чуковский, ни Евреинов. Хлебников говорит, что Маяковский написал новую вещь, и уверяет, что она очень хороша. Вряд ли. По моему мнению, Маяковский совершенно выдохся, прямая ему дорога в бордельные вышибалы».
Николай Чуковский вспоминал: «По нашим семейным преданиям, тщательно скрываемым, Маяковский в те годы был влюблен в мою мать. Об этом я слышал и от отца, и от матери. Отец вспоминал об этом редко и неохотно, мать же многозначительно и с гордостью. Она говорила мне, что однажды отец выставил Маяковского из нашей дачи через окно. Если такой эпизод и был, он, кажется, не повлиял на отличные отношения моего отца с Маяковским».
Эпизод, похоже, все-таки «повлиял». А если не этот, то какой-то другой. И в дневниковых записях Чуковского, посвященных Маяковскому, и в воспоминаниях о нем чувствуются напряженность, сложности, недоговоренность, которые вряд ли стоит объяснять одной только идеологической самоцензурой.
Конечно, нельзя сводить долгую историю трудных взаимоотношений двух незаурядных людей к простому «перечню взаимных болей, бед и обид». Многое объясняется складом личности того и другого, их взглядами на мир, теми требованиями, которые они предъявляли к людям (вспомним хотя бы у Чуковского: «я любил его самого, а ему этого было мало – он хотел, чтобы любили его дело»)…
Однако нельзя не сказать о двух обстоятельствах, омрачивших и без того непростые отношения.
Из книги в книгу, из статьи в статью до сего дня кочует еще одна история, где постоянно путаются даты и имена, но неизменной остается суть: сплетня о сифилисе Маяковского, якобы запущенная Чуковским. Вот ее суть в передаче шведского русиста Бенгта Янгфельдта в комментариях к переписке Лили Брик с Маяковским – со слов Лили Брик. Янгфельдт датирует историю началом 1918 года, «когда Чуковский „узнал“ от одного врача, будто Маяковский заразился сифилисом и сам заразил одну женщину этой болезнью (что не соответствовало истине). По каким-то причинам Чуковский решил „информировать“ об этом М. Горького, который, в свою очередь, „предупредил“ Луначарского… Эта история наложила печать не только на последующие отношения между Маяковским и Чуковским, но и между Маяковским и Горьким ».
Попробуем собрать свидетельства из первых или хотя бы вторых рук.
Вот Зиновий Паперный приводит рассказ Чуковского:
«Корней Иванович:
– Это было в 1913 году. Одни родители попросили меня познакомить их дочь с писателями Петербурга. Я начал с Маяковского, и мы трое поехали в кафе «Бродячая собака». Дочка – Софья Сергеевна Шамардина, татарка, девушка просто неописуемой красоты. Они с Маяковским сразу, с первого взгляда, понравились друг другу. В кафе он расплел, рассыпал ее волосы и заявил:
– Я нарисую Вас такой!
Мы сидели за столиком, они не сводят глаз друг с друга, разговаривают, как будто они одни на свете, не обращают на меня никакого внимания, а я сижу и думаю: «Что я скажу ее маме и папе?»
О дальнейшем, после того как Маяковский и Сонка (так звали ее с детства) остались вдвоем, рассказывает она сама в своих воспоминаниях. Как они ночью пошли к поэту Хлебникову, разбудили, заставили его читать стихи. Однажды, когда они ехали на извозчике, Маяковский стал сочинять вслух одно из самых знаменитых своих стихотворений: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?»
Дальше Паперный со слов Лили Брик повествует о том, как Горький распространял сплетню о сифилисе Маяковского.
Бенедикт Сарнов в недавно опубликованных воспоминаниях тоже приводит рассказ Лили Брик:
"Еще до революции, году этак в четырнадцатом, был у Маяковского бурный роман с прелестной восемнадцатилетней девушкой – Софьей Шамардиной, «Сонкой», как ее называли. «Сонка» забеременела, и то ли был у нее аборт, то ли родился мертвый ребенок, но продолжать свои отношения с по-прежнему влюбленным в нее поэтом не захотела. И они расстались. Некоторое время она где-то пропадала, ее не могли отыскать. Но потом – нашлась. Разыскал ее Корней Иванович Чуковский, который тоже был в эту «Сонку» влюблен и, как видно, имел на нее кое-какие виды.
Она ему все рассказала.
И тут – некоторая неясность: то ли Корней Иванович искренне так истолковал ее исповедь, то ли вполне сознательно оклеветал Маяковского, чтобы дезавуировать соперника.
Так или иначе, но он стал говорить направо и налево о том, какой, мол, Маяковский негодяй, – напоил и соблазнил невинную девушку, обрюхатил и даже – будто бы – заразил дурной болезнью.
Старая эта история получила вдруг неожиданно бурное развитие уже в послереволюционные годы.
Л. Ю. стала замечать, что Луначарский, с которым у них были самые добрые отношения, смотрит на них волком. Поделилась своим недоумением по этому поводу со Шкловским. А тот говорит:
– Ты что, разве не знаешь? Это все идет от Горького. Он всем рассказывает, что Володя заразил Сонку сифилисом, а потом шантажировал ее родителей".
Сама Софья Шамардина в воспоминаниях «Футуристическая юность» рассказывает, как в январе 1914 года сама «исповедовалась» Чуковскому – тот тревожился о ней, долго искал, нашел, стал расспрашивать – пришлось отвечать. «Теперь-то я знаю, что не нужно было этого делать. В развитии дальнейших наших отношений с Маяковским нехорошую роль сыграл К. И. со своей бескорыстной „защитой“ меня от Маяковского».
Чуковский, вспоминает Шамардина, таскал ее весь день с собой по своим делам, затем исповедь завершилась в куоккальской дачной бане: «Домой меня нельзя было пригласить из-за Марии Борисовны. Хорошо, что баня в тот день топилась. Он принес туда свечу, хлеба, колбасы и взял слово, что с Маяковским я больше встречаться не буду, наговорив мне всяких ужасов о нем».
И дальше (цитируется по сборнику «Владимир Маяковский. Люблю», составитель Б. Сарнов): «От меня Маяковский никогда не слышал, что о нем говорил К. И. И не от меня Маяковский узнал и о моей беременности, и о фактически преждевременных родах (поздний аборт), который сорганизовали мои „спасители“. Совершенно гнусная, не имеющая под собой никакой почвы клевета К. И. (а может быть, он сам добросовестно заблуждался) все же впоследствии стала известна Маяковскому. Но об этом мы в то время с Маяковским не говорили, никогда».
Дважды опубликовано (в альманахе «Встречи с прошлым» и в вышеупомянутом сборнике) ошибочно датированное 1915 годом письмо Чуковского к Сергееву-Ценскому от 25 февраля 1914 года: «Водился осенью с футуристами: Хлебников, Маяковский, Крученых, Игорь Северянин были мои первые друзья, теперь же, после того как Маяковский напоил и употребил мою знакомую курсистку (милую, прелестную, 18-летнюю) и забеременил и заразил таким страшным триппером, что она теперь в больнице, без копейки, скрываясь от родных, – я потерял к футуристам аппетит».
Интересно вот что: случилась вся эта беда с Сонкой в 1914 году; об «утраченном вкусе к футуристам» К. И. пишет именно в феврале 1914-го – а весной 1915-го начинается его серьезная, настоящая дружба с Маяковским – тот живет у Чуковских на даче, обедает у них, рисует в «Чукоккале» Корнея Ивановича, Лидочку, гостей; позднее Чуковский писал в дневнике, что Маяковский называл его братом… И так же внезапно дружба надолго обрывается летом того же года («Маяковского выкатили из Куоккала», «сделал какое-то свинство», «выставил через окно»?). А сплетня неожиданно всплывает через несколько лет, уже после революции.
Послереволюционную часть истории и Паперный, и Сарнов, и Шкловский, и Янгфельдт рассказывают одинаково: Маяковский собирался бить морду Горькому, Лиля Брик его не пустила, отправилась к Горькому сама и взяла с собой Шкловского, своими ушами слышавшего от Горького сплетню. Приперли Горького к стенке, но тот толком ничего не сказал, заметив только, что слышал это «от очень уважаемого человека» (Шкловский) или даже «врача» (Лиля Брик). Адреса доктора и «уважаемого человека» не дал, ибо «лицо, которое могло бы сообщить мне это, выехало на Украину с официальными поручениями». Этим все и кончилось. «Эта история не просто „отложила отпечаток“ на отношения Маяковского и Горького, – пишет Паперный. – Она явилась началом долголетней вражды двух писателей, которая уже не прекращалась. Примирения быть не могло».
Не будем копаться в диагнозах Маяковского – желающие могут самостоятельно ознакомиться с рассказом Лили Юрьевны в записи Бенедикта Сарнова в «Континенте». Не будем строить лишних предположений, действительно ли это Чуковский насплетничал Горькому, когда и зачем это сделал; заступался ли К. И. за обиженную девушку (к которой, как пишут, сам был неравнодушен), или, обычно несдержанный на язык, сказал лишнее; сознательно клеветал или искренне верил в то, что говорил, а может быть, и вовсе – сболтнул кому-то что-то в 1914-м, а Горькому кто-то пересказал спустя пять лет… Об этой сплетне оставили свои записи Галина Катанян (тоже со слов Лили Брик) и Виктор Шкловский (единственный, кто не ссылается на Лилю Юрьевну, ибо сам ходил к Горькому) – и любопытно, что ни он, ни Галина Катанян имени Чуковского не назвали. Зато чуть не десяток современных журналистов повторяют: Корней Чуковский из ревности оклеветал Маяковского перед Горьким, специально поссорил великого писателя с великим поэтом.
Заметим вот что: Горький не сказал, что это за «серьезный человек». Даже Шкловский, не особенно любивший Корнея Ивановича, не написал прямым текстом: это, мол, Чуковский. Напрямую обвиняла Чуковского одна Лиля Юрьевна, а уж с ее слов и остальные. Для большинства современников история кончилась в 1919 году и там осталась; чем дальше от нее человек, тем более он склонен судить, обвинять, искать подлые мотивы. Сплетниками в конечном итоге оказываются потомки.
Вторая серьезная обида, которая еще больше отдалила Чуковского и Маяковского друг от друга, тоже возникла из-за чьего-то злоязычия.
Летом 1915 года Маяковский писал и публиковал в «Сатириконе» гимны. Одним из них был злобный «Гимн критику», который Чуковский едва ли сразу принял на свой счет. Обида проявилась куда позже, уже после революции, в 1920 году, когда поэт вписал в «Чукоккалу» шуточные «Окна Чукроста» с частушками: «Скрыть сего нельзя уже: я мово Корнея третий год люблю (в душе) аль того раннее». Неизвестный доброжелатель немедленно предположил, что это намек на «Гимн критику». Маяковский не возразил.
Намек был жестокий. Даже не потому, что поэт презрительно поносит критика, – прежде всего потому, что намекает на обстоятельства, о которых приличные люди вслух не говорят:
Дальше повествуется о построчных пятачках, выдаивании «брюк, и булки, и галстука» из вымени «обладателя какого-то имени», о том, как теперь «легко смотреть ему, обутому и одетому, молодых искателей изысканные игры…».
От страсти извозчика и разговорчивой прачки
Невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик – не мусор, его не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.
…
Как роется дворником к кухарке сапа,
Щебетала мамаша и кальсоны мыла;
От мамаши мальчик унаследовал запах
И способность вникать легко и без мыла.
Но Бог с ними, «построчными пятачками», стандартной таксой газетного фельетониста (Чуковский много и горячо жаловался на работу «по пятачку за строчку»), да и «выдаивание галстуков» тоже довольно общее место. Куда обиднее и персональнее – намеки на незаконнорожденность и мать-прачку. В 1920 году Чуковскому было уже 38 лет, у него было заработанное тяжелым трудом литературное имя, в жизни его с тех пор произошло немало радостей и горестей, и, казалось бы, об одесском детстве можно было забыть с концами, сменив имя и отчество, да и кого на третьем году советской власти волновала незаконнорожденность взрослого человека? Но детская рана так и не зажила. И если неизвестный доброжелатель был прав, – то удар Маяковский нанес страшный и ниже пояса.
Чуковский «почувствовал себя горько обиженным» и написал поэту письмо с просьбой подтвердить или опровергнуть догадку об адресате гимна. Маяковский ответил: "К счастью, в Вашем письме нет ни слова правды… Если б это было – отношение – я моего критика посвятил бы давно и печатно.
Ваше письмо чудовищно по не основанной ни на чем обидчивости.
И я Вас считаю человеком искренним, прямым и простым и, не имея ни желания, ни основания менять мнение, – уговариваю Вас – бросьте!"
Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако отношения все же замутняли какие-то облака. Лиля Брик в одном из писем Маяковскому в 1923 году неприязненно писала о нежелании видеться с Чуковским.
Затем был отвратительный по своей грубости отказ Маяковского в 1926 году помочь сосланной в Саратов Лидии Корнеевне – Чуковский пришел просить помощи и услышал: «Я бы послал ее в Нарымский край». Правда, потом-то Маяковский помогал хлопотать даже не только о Лиде, но даже о ее подруге Кате Ворониной, тоже ссыльной.
Они так окончательно не рассорились и не разошлись, но и не сблизились.
«В последний раз он встретил меня в Столешниковом переулке, обнял за талию, ходил по переулку, как по коридору, позвал к себе – а потом не захотел (очевидно) со мной видеться – видно, под чьим-то влиянием: я позвонил, что не могу быть у него, он обещал назначить другое число и не назначил, и как я любил его стихи, чуя в них, в глубинах, за внешним, и глубины, и лирику, и вообще большую духовную жизнь, – писал К. И. в дневнике, узнав о смерти Маяковского. – …Казалось, что он у меня еще впереди, что вот встретимся, поговорим, „возобновим“, и я скажу ему, как он мне свят и почему…»
Горе его было огромно и неподдельно. «Все эти дни я реву, как дурак, – писал он Галине Катанян. – Мне совестно писать сейчас Лиле Юрьевне, ей теперь не до писем, не до наших жалких утешений, но пусть она помнит, что она и сейчас нужна Маяковскому, пусть она напишет о нем ту книгу, которую она давно затеяла написать. Это даст ей силу вынести тоску. Я помню первый день их встречи. Помню, когда он приехал в Куоккалу и сказал мне, что теперь для него начинается новая жизнь, – так как он встретил единственную женщину – навеки – до смерти. Сказал это так торжественно, что я тогда же поверил ему, хотя ему было 23 года, хотя, на поверхностный взгляд, он казался переменчивым и беспутным…»
Дневниковая запись К. И. о смерти Маяковского – сбивчивая, путаная, пронзительная: «Один в квартире, хожу и плачу и говорю: „Милый Владимир Владимирович“, и мне вспоминается тот „Маякоуский“, который был мне так близок – на одну секунду, но был, – который был влюблен в дочку Шехтеля (чеховского архитектора), ходил со мною к Полякову; которому я, как дурак, „покровительствовал“; который играл в крокет, как на биллиарде, с влюбленной в него Шурой Богданович; который настаивал, чтобы Дорошевич позволил ему написать свой портрет, и жил на мансарде высочайшего дома, и мы с ним ходили на крышу, и он влюбился в Марию Борисовну, и я ревновал, и выбегал, как дурак, с биноклем на пляж глядеть, где они прячутся в кустах, и как он влюбился в Лили, и приехал, привез мое пальто, и лечил зубы у доктора Доброго, и говорил Лили Брик „целую ваше боди и все в этом роде“, и ходил на мои лекции в желтой кофте, и шел своим путем, плюя на нас, и вместо „милый Владимир Владимирович“ я уже говорю, не замечая: „Берегите, сволочи, писателей“…»
Строчки о влюбленности в М. Б. были исключены из первого издания дневников и восстановлены впоследствии. Да, выходит, Маяковский и впрямь был недолго увлечен Марией Борисовной. Хотя вряд ли это так уж много добавляет к мучительно-печальной истории разладившейся дружбы большого поэта и хорошего критика.
Катастрофа неминуема
В последние предреволюционные годы Чуковский почти оставил привычные занятия, переключившись на публицистику, творчество для детей, редактуру. Редактировал он не только заново издаваемого Некрасова. В 1915 году ему пришлось проделать большую работу по подготовке к печати репинских воспоминаний (ранее он печатал их фрагменты в «Ниве» и тоже редактировал). Воспоминания, написанные цветистым, чудесным, размашистым слогом, изобиловали тем не менее ошибками и откровенными глупостями, и Чуковскому пришлось немало повоевать с упрямым художником, который то соглашался на правки, то требовал оставить все как было.
Какой-то большой период в жизни сам собой завершался: обрывались нити, заканчивались дела, появлялись новые интересы. Годы эти неожиданным образом подвели черту и под детскими бедами Чуковского: видимо, в это время (если судить по тому, что дочь Лида была достаточно велика, чтобы запомнить подробности) он выставил с куоккальской дачи своего отца после недолгого разговора. Был и еще один эпизод в том же роде, и вот как о нем со слов главного героя рассказывает Ольга Грудцова: "Директор гимназии Бургмейстер, фигурирующий в книге («Секрет» – «Гимназия» – «Серебряный герб». – И. Л.),приехал к нему в Куоккалу о чем-то просить. Корней Иванович сначала согласился, и они отправились на станцию, чтобы вместе поехать в Петроград. Был сильный ветер, мороз, сани опрокинулись в яму. Корней Иванович вылез и стал вызволять Бургмейстера, а потом вдруг подумал: «Он меня исключил из гимназии, с какой стати я буду помогать ему?» И пошел домой". Судя по тому, что Чуковские еще живут в Куоккале, но Петербург уже переименован в Петроград, – это было как раз во время Первой мировой; правда, в финале «Гимназии», перечисляя, о чем автор мог бы рассказать, если ему «случится продолжать эту повесть», говорится: «как через десять лет я отомстил Шестиглазому за все его обиды и жестокости». Выходит, случай этот произошел раньше – но все-таки несомненно имел место.
В начале 1916 года Чуковского включили в состав приглашенной в Лондон делегации российских деятелей печати – ради укрепления союзнических отношений. Другими делегатами стали Алексей Толстой, который в это время работал в периодической печати, Владимир Дмитриевич Набоков, редактор-издатель «Речи», писатель Василий Немирович-Данченко, журналист Александр Башмаков, еще один журналист – нововременец Ефим Егоров. Сопровождал делегацию российский корреспондент лондонской «Тайме» Роберт Арчибальд Вильтон.
Чуковский писал жене подробные отчеты едва ли не о каждом дне своей поездки. Первое письмо – воодушевленное и веселое; Чуковский явно рад, что едет в Англию, по которой так скучал много лет. Он дает краткие выразительные характеристики коллегам, рассказывает о многочисленных дорожных знакомствах: он и здесь цепляется за малейший шанс поговорить с попутчиками. Дорога была чрезвычайно длинной: из Петербурга поездом в Финляндию, затем в Швецию, по Скандинавскому полуострову вверх, потом вниз к Стокгольму, оттуда в Христианию (Осло), оттуда пароходом в Ньюкасл, из Ньюкасла поездом в Лондон… А впереди новые заманчивые перспективы: «нас ведь будут катать на броненосце, мы будем летать на аэропланах, ездить в подводных лодках и т. д.». Его не особенно мучит бессонница, он полон надежд, делегация, утомленная долгой дорогой, вовсю дурачится.
Ольга Грудцова записала такой фрагмент воспоминаний Чуковского:
«Пароход подплывал к берегу, все высыпали на палубу: „Земля!.. Земля!“ Я пришел в такой экстаз, что бросил в воду свою шляпу (конечно, рядом стояла молодая красивая дама). Когда мы высадились, я пошел по магазинам покупать себе новую шляпу. А за мной шла толпа норвежцев, и они говорили друг другу: „Это русский! Тот самый, который бросил шляпу в воду!“»
В «Чукоккале» рассказывается, как на корабле кто-то подшутил над Толстым, насочиняв ему, что в море полно мин, а за кораблем охотится германская субмарина; Толстой побежал строчить корреспонденцию о минах; узнав о розыгрыше, – разозлился, бросился к старцу Немировичу-Данченко, ни в чем не повинному, и едва не выбросил за борт его вставную челюсть.
По приезде в Лондон делегацию на вокзале "встретили репортеры, К. Набоков, Aladinи проч.", – писал Чуковский жене (?ladin –это Аладьин, тот самый думский деятель, который «твердил Горемыкину: я тебя, Горемыкина, выкину»; за границу он убежал в 1906 году, когда был приговорен к ссылке за пропаганду среди рабочих. Он тоже оставил в «Чукоккале» свой автограф). Дальше Корней Иванович живописует превосходную гостиницу, где поселили русских, – с трехкомнатными номерами, живой сиренью и десятками зеркал… "А башмаки у меня дырявые, и вчера я должен был спешно покупать себе фрак… русско-английское общество давало нам обед сверхъестественный. Рядом со мною сидел Конан-Дойл, автор Шерлока, дальше Edmund Gosse,знаменитый критик, редакторы «Morning Post», «Spectator», «Westminster Gazette»,и, конечно, я сейчас же соорудил «Чукоккала» – и получил множество редчайших автографов".
В комментариях к собранным в этот день альбомным записям Чуковский пишет, что в эту поездку он, «чтобы не тратить времени на встречи с официальными лицами, старался при всякой возможности оторваться от других делегатов, дабы познакомиться с теми английскими авторами, книги которых полюбил еще в России». Среди этих авторов были упомянутый критик Эдмунд Госс («из книг которого я так много узнал о Мильтоне, о Шекспире»… и т. д.); будущий генерал-губернатор Канады, шотландский писатель Джон Бьюкен, Конан Дойл, прогулку с которым по Лондону Чуковский и Толстой, единственные из всей делегации, предпочли посещению «какого-то немаловажного министра».
Какой-то большой период в жизни сам собой завершался: обрывались нити, заканчивались дела, появлялись новые интересы. Годы эти неожиданным образом подвели черту и под детскими бедами Чуковского: видимо, в это время (если судить по тому, что дочь Лида была достаточно велика, чтобы запомнить подробности) он выставил с куоккальской дачи своего отца после недолгого разговора. Был и еще один эпизод в том же роде, и вот как о нем со слов главного героя рассказывает Ольга Грудцова: "Директор гимназии Бургмейстер, фигурирующий в книге («Секрет» – «Гимназия» – «Серебряный герб». – И. Л.),приехал к нему в Куоккалу о чем-то просить. Корней Иванович сначала согласился, и они отправились на станцию, чтобы вместе поехать в Петроград. Был сильный ветер, мороз, сани опрокинулись в яму. Корней Иванович вылез и стал вызволять Бургмейстера, а потом вдруг подумал: «Он меня исключил из гимназии, с какой стати я буду помогать ему?» И пошел домой". Судя по тому, что Чуковские еще живут в Куоккале, но Петербург уже переименован в Петроград, – это было как раз во время Первой мировой; правда, в финале «Гимназии», перечисляя, о чем автор мог бы рассказать, если ему «случится продолжать эту повесть», говорится: «как через десять лет я отомстил Шестиглазому за все его обиды и жестокости». Выходит, случай этот произошел раньше – но все-таки несомненно имел место.
В начале 1916 года Чуковского включили в состав приглашенной в Лондон делегации российских деятелей печати – ради укрепления союзнических отношений. Другими делегатами стали Алексей Толстой, который в это время работал в периодической печати, Владимир Дмитриевич Набоков, редактор-издатель «Речи», писатель Василий Немирович-Данченко, журналист Александр Башмаков, еще один журналист – нововременец Ефим Егоров. Сопровождал делегацию российский корреспондент лондонской «Тайме» Роберт Арчибальд Вильтон.
Чуковский писал жене подробные отчеты едва ли не о каждом дне своей поездки. Первое письмо – воодушевленное и веселое; Чуковский явно рад, что едет в Англию, по которой так скучал много лет. Он дает краткие выразительные характеристики коллегам, рассказывает о многочисленных дорожных знакомствах: он и здесь цепляется за малейший шанс поговорить с попутчиками. Дорога была чрезвычайно длинной: из Петербурга поездом в Финляндию, затем в Швецию, по Скандинавскому полуострову вверх, потом вниз к Стокгольму, оттуда в Христианию (Осло), оттуда пароходом в Ньюкасл, из Ньюкасла поездом в Лондон… А впереди новые заманчивые перспективы: «нас ведь будут катать на броненосце, мы будем летать на аэропланах, ездить в подводных лодках и т. д.». Его не особенно мучит бессонница, он полон надежд, делегация, утомленная долгой дорогой, вовсю дурачится.
Ольга Грудцова записала такой фрагмент воспоминаний Чуковского:
«Пароход подплывал к берегу, все высыпали на палубу: „Земля!.. Земля!“ Я пришел в такой экстаз, что бросил в воду свою шляпу (конечно, рядом стояла молодая красивая дама). Когда мы высадились, я пошел по магазинам покупать себе новую шляпу. А за мной шла толпа норвежцев, и они говорили друг другу: „Это русский! Тот самый, который бросил шляпу в воду!“»
В «Чукоккале» рассказывается, как на корабле кто-то подшутил над Толстым, насочиняв ему, что в море полно мин, а за кораблем охотится германская субмарина; Толстой побежал строчить корреспонденцию о минах; узнав о розыгрыше, – разозлился, бросился к старцу Немировичу-Данченко, ни в чем не повинному, и едва не выбросил за борт его вставную челюсть.
По приезде в Лондон делегацию на вокзале "встретили репортеры, К. Набоков, Aladinи проч.", – писал Чуковский жене (?ladin –это Аладьин, тот самый думский деятель, который «твердил Горемыкину: я тебя, Горемыкина, выкину»; за границу он убежал в 1906 году, когда был приговорен к ссылке за пропаганду среди рабочих. Он тоже оставил в «Чукоккале» свой автограф). Дальше Корней Иванович живописует превосходную гостиницу, где поселили русских, – с трехкомнатными номерами, живой сиренью и десятками зеркал… "А башмаки у меня дырявые, и вчера я должен был спешно покупать себе фрак… русско-английское общество давало нам обед сверхъестественный. Рядом со мною сидел Конан-Дойл, автор Шерлока, дальше Edmund Gosse,знаменитый критик, редакторы «Morning Post», «Spectator», «Westminster Gazette»,и, конечно, я сейчас же соорудил «Чукоккала» – и получил множество редчайших автографов".
В комментариях к собранным в этот день альбомным записям Чуковский пишет, что в эту поездку он, «чтобы не тратить времени на встречи с официальными лицами, старался при всякой возможности оторваться от других делегатов, дабы познакомиться с теми английскими авторами, книги которых полюбил еще в России». Среди этих авторов были упомянутый критик Эдмунд Госс («из книг которого я так много узнал о Мильтоне, о Шекспире»… и т. д.); будущий генерал-губернатор Канады, шотландский писатель Джон Бьюкен, Конан Дойл, прогулку с которым по Лондону Чуковский и Толстой, единственные из всей делегации, предпочли посещению «какого-то немаловажного министра».
