Страница:
- << Первая
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- Следующая »
- Последняя >>
[384, 78, 184, 76]. На состоявшихся 14 марта 1999 г. в Ашхабаде переговорах талибы выразили согласие на сотрудничество опять же с тремя ведущими силами, отвергнув участие остальных
[123]. При этом основными этническими группами в Афганистане являются пуштуны (около 40% населения
[там же], именно они составляют ядро движения "Талибан"), таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены. С учетом "нейтральности" туркменов, активных сил по-прежнему М = 4. Соседями же Афганистана, так или иначе влияющими на конфликт, являются Пакистан, Иран, а также постсоветские Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Последний – нейтрален, значит, и по данному признаку структура представляется "четыре плюс "остальные"".
Вероятно, полезно еще раз коснуться черт семантически четвертых элементов вообще – будь то большевизм в системе типов политических течений, Северная Ирландия в Великобритании, Квебек в НАФТА, Конфедерация народов Кавказа или Чечня в кавказском ансамбле, Таджикистан в постсоветской Центральной Азии, движение "Талибан" в Афганистане и др. Их отмеченный еще Юнгом "девиантный", "вирулентный", нарушающий нормы характер схватывается и текущей математической моделью. Решение М = 4, как мы помним, сопровождается "странным" решением М = – 1, см. (8). В разделе 1.5 будет более обстоятельно затронута семантика варианта М = – 1, здесь же, забегая вперед, достаточно отметить, что ему отвечает, метафорически выражаясь, определенная "негативация", "самоотрицание" системы, так сказать, "воля к самоуничтожению". В чистом виде этот мотив не реализован в кватерниорных политических системах, однако он сопутствует им в качестве более или менее отчетливой коннотации. Решение М = -1 появляется вместе с М = 4, тогда как в случаях М = 3 или М = 5 оно отсутствует. Поэтому трансформация тринитарных систем в тетрарные сопровождается развязыванием упомянутых "негативистских" тенденций, что безошибочно и фиксируется свидетелями и аналитиками. Пришедшее разрушение, "зло" принято адресовать ненормативному четвертому элементу (ведь до его рождения "все было в порядке"), тогда как с точки зрения используемой модели корректнее было бы говорить о неотъемлемых логико-ментальных особенностях новой системы в целом. Со временем острота противопоставления трех традиционных элементов четвертому может сглаживаться, кватерниорность входит в привычку, составляет новую норму, и момент "негативации" уходит на глубину, с которой его проявления превращаются в малозаметные. Сказанное, повторяю, станет понятнее после раздела 1.5, но – "дорога ложка к обеду" – упоминание о неотъемлемом коннотативном значении структур М = 4 позволяет, надеюсь, лучше понять и анализируемые политические кватернионы.
Подводя итог, семантическая структура складывающегося СНГ, или Евразийского блока (дело не в названиях), представляется следующей. Совокупность "Россия, Украина, Беларусь и Казахстан" является его репрезентантом лишь в первом – хотя и важном, работающем – приближении. Более строго ту же структуру, на наш взгляд, удастся передать, если Россия, Украина, Беларусь сохранятся в качестве базовой тройки, тогда как место типологически "четвертого" окажется принадлежащим сразу двум составным элементам: постсоветским Центральной Азии и Кавказу. Оба региона (подсистемы, субблока, региональных ансамбля) – пограничные с большим миром ислама и, соответственно, "амфифильны". Они оба – не только географические, этнические, культурные, но и стадиально-модернизационные маргиналы по отношению к государствам славянским. Согласно мир-системным членениям, если славяне принадлежат зоне мировой экономической полупериферии, то Центральная Азия и Кавказ – периферии, т.е. вторые отделены от первых важной глобальной границей. Четвертых элементов здесь два – по той же, к сожалению, не объясненной в настоящем разделе, причине, по которой в ООН, наряду с СССР, пребывали УССР и БССР (т.е. с позиций международного права над соответствующими территориями по существу был признан двойной суверенитет: общесоветский и национально-республиканский) или по которой в управлении делами Северной Ирландии, легитимной части Соединенного королевства, стала принимать участие и Ирландия. Как и прежде, воспользуемся графическим изображением:
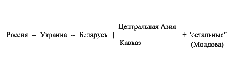
Каждый из четвертых элементов, в свою очередь, располагает собственным кватерниорным строением (см. выше), им отличаются даже отдельные государства(13) . Здесь все пригнано друг к другу как в прецизионном механизме. Молдове по-прежнему, как и при СССР, отводится роль "остальных", она привязана к блоку фактором Приднестровья (к вопросу об этой стране нам, впрочем, предстоит возвратиться при изучении структуры ЕС). Что касается Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии, – эти государства не только не являются членами СНГ, но и выбрали совсем иной вектор движения – по направлению к ЕС и НАТО. И действительно, трансформация СССР в СНГ не оставляет бывшей советской Прибалтике другого логического места, кроме "остальных". В коллективно-психологическом плане принятие подобного варианта по сути означало бы понижение реального (пусть и не продекларированного) статуса, политико-аксиологическую маргинализацию (напомним, в СССР тройке прибалтийских республик принадлежала равноценная семантическая позиция как и у огромной по размерам совокупности славянских государств или как у всей Средней Азии). Напротив, Балтия, в чем вскоре предстоит убедиться, исключительно точно укладывается в паттерн новой Европы: невостребованный (или полувостребованный) элемент в одном блоке, она необходима в другом.
Вероятно, нелишне сопутствующее замечание: постсоветское пространство сбивается в семантически компактный блок во многом благодаря следующим факторам. С одной стороны, ключевая система самых крупных, модернизационно продвинутых, традиционно составляющих ядро исторического объединения славянских республик (России, Украины, Беларуси) является тройкой, с другой – в головах населения на всем постсоветском пространстве, не исключая, конечно, самих славян, уже век как утвердился кватерниорныйполитический стереотип. Последний совершает победное шествие по всей планете (см. выше, цепочка примеров вскоре будет продолжена), и тем более непонятно, что в состоянии прекратить его формообразующее действие там, где им давно пущены разветвленные и глубокие корни. Результатом сочетания тройки в реальности и четверки в душах и умах становится стремление дополнить тройку до четверки и на практике. Так при образовании молекул атомы объединяют свои внешние электронные орбиты, дополняя численность электронов до "полного списка", так ион захватывает извне недостающий электрон. Отсюда следует: если тройка славянских государств по каким-то причинам вдруг превратилась бы в четверку, ее интегрирующая сила тут же бы исчезла.
Призрак такого превращения надавно промельнул в связи с официальной просьбой Югославии принять ее в союз России и Беларуси. Если бы такой вариант (оставим в стороне степень его серьезности) был претворен в действительность, то это, по всей вероятности, ускорило бы присоединение к православно-славянскому альянсу Украины, но зато поставило бы бесповоротный жирный крест на консолидации остального постсоветского пространства: и Центральная Азия, и Кавказ оказались бы "не нужны" и, что еще важнее, тесная славянская компания оказалась бы совершенно чуждой львиной доле двух упомянутых региональных ансамблей. Позитивистски настроенные аналитики справедливо указывают на неизбежное тогда фундирование этно-конфессиональных противоречий внутри СНГ, раскол по линии "славянско-православный мир и исламский". Мы же склоняемся видеть в том же факте очередное выражение "числовых" закономерностей: искомая четверка состоялась бы и без Центральной Азии и Кавказа, превратилась бы в "самодостаточную" целостность, соседствующую с другими, столь же самодостаточными.
Трансформация славянской тройки в четверку также мыслима и в свете порой обсуждающейся перспективы распада РФ на две части: западную (европейскую) и восточную (за Уральским хребтом). В этом случае снизился бы уровень опасений Украины потеряться рядом с огромной Россией, т.е. возможность восточно-славянской интеграции могла бы возрасти. При этом неизбежно повысился бы и уровень самодовлеемости славянского ансамбля (например, потому, что России было бы уже не до экспансии, дай Бог сохранить существующее). Одновременно снизилась бы степень притягательности России для государств Средней Азии и Кавказа. Тогда на постсоветском пространстве наблюдались бы три независимых друг от друга региональных ансамбля, каждый – с собственным кватерниорным строением. Подобный вариант, однако, до поры допустимо всерьез не рассматривать, т.к. он осуществим лишь при переходе нынешнего глубокого экономического и политического кризиса в хроническую форму, а России уже не однажды удавалось демонстрировать свои способности к внутренней мобилизации, к ответам на разнообразные исторические вызовы, причем, зачастую в безвыходных, казалось бы, ситуациях.(14) Чуть ниже мы коснемся более важных причин, по которым вряд ли оправданно ожидать реализации упомянутого "пессимистического" сценария. Здесь же остается заметить, что полное отделение пограничных с большим миром ислама стран Средней Азии и Кавказа от бывших славянских партнеров действительно не смогло бы предотвратить их экономической и политической маргинализации, "африканизации", что им и было обещано мир-системными аналитиками.
Зайдем с несколько другой стороны. Строго говоря, евразийской структуре М = 4 удалось бы реализоваться и без двойного экземпляра четвертого элемента, а только с одинарным. При этом, однако, неизбежно встал бы вопрос, куда деваться "неоприходованной" части. У постсоветской Центральной Азии, собственно, даже теоретически не существует сколько-нибудь приемлемой альтернативы пребыванию в составе единого блока с Россией и остальными. Остаться одним в условиях глобализации мира? – Даже совокупный вес центральноазиатского ансамбля не позволяет надеяться на статус серьезного игрока, с интересами которого будут считаться. Позволить затянуть себя в пучину брожения соседнего исламского мира? – Такой участи не пожелает своей стране ни один ответственный политик. С этим ансамблем все более или менее понятно: объективные реалии рано или поздно заставят его присоединиться к евразийскому блоку, особенно вслед за стабилизацией России. А как обстоит дело с кавказским ансамблем?
Его географическое положение, соседство с Европой и Турцией в состоянии вселять в головы иных региональных политиков надежды на присоединение к ЕС и НАТО. При этом, как сказано, становление евразийского блока в принципе возможно и без Кавказа (структура М = 3 + 1 реализуема и без него). Согласен, на уровне отвлеченной гипотезы перспектива вступления в НАТО не исключена: заинтересованность в этом геополитически значимом, богатом энергоресурсами регионе со стороны ведущих членов альянса (особенно США) достаточно высока. Беда лишь в одном: членство в военных структурах – не самоцель ни для одной из кавказских республик. Если вскоре за тем оно не будет подкреплено приемом в богатую экономическую организацию (единственный мыслимый вариант – в ЕС), то эти государства, как бы помягче выразиться, разочаруются. Вопрос, могут ли у Европейского союза в ближайшие годы возникнуть практические планы включить в свой состав Азербайджан, Грузию, Армению и, возможно, подверстанную к ним Чечню, ничего, кроме улыбки, вероятно, не вызовет. Зачем это нужно ЕС? Готов ли этот тщательно заботящийся о собственном благополучии блок принять на себя ответственность за экономику и политику региона? Дай Бог в обозримую перспективу придать цивилизованный облик Турции и странам Восточной Европы, а заботы об еще более далеких от европейских стандартов народах на ближайшей повестке дня не стоят. Поэтому у кавказского ансамбля в конечном счете нет иного выбора помимо присоединения к евразийскому блоку (благо, дорога проторена). Нынешний же взаимный флирт некоторых стран Кавказа и отдельных представителей Запада – из области, кто кого сумеет перехитрить, сумев добиться временных дивидентов (впрочем, возвращаясь к серьезному тону, не стоит сбрасывать со счетов значение и обычных межгосударственных, интерблоковых связей, т.е. поверх границ между крупными блоками). По завершении общеевразийского кризиса все встанет на свои места.
Прежде, чем продолжить анализ, стоит выполнить недавнее обещание, вкратце обсудив причины, по которым типологически четвертые элементы зачастую демонстрируют удивительную политическую стойкость, в том числе вопреки исходным раскладам сил. В качестве рабочих используем примеры русских большевиков в Гражданской войне, конфликта крошечной Чечни с огромной РФ или движения "Талибан" в Афганистане. Выводы нетрудно распространить и на другой материал.
По-прежнему придерживаемся гипотезы, что в эпоху масс главным творцом истории, возникающих политических форм являются упомянутые массы, причем по-школьному образованные и, значит, проникнутые элементарной логикой. Пусть, далее, некий регион – будь то страна или блок – по каким-то причинам приходит в движение, массы вдохновляются теми или иными идеями и, что более важно, усваивают, что от них на деле многое зависит. В когнитивном плане это означает формирование активного актора,(15) или "субъекта", который отныне встроен в "объективную" политическую реальность. Подобная ситуация – см. раздел 1.4.1– подталкивает к утверждению кватерниорного стереотипа, последний получает дополнительную подпитку, если уже есть, чему подражать.
Разумеется, массы более чем далеки от подсчета, процесс протекает по бессознательным, имагинативным каналам, что, однако, не уменьшает, а увеличивает его мощь, возвышающуюся до ранга "предопределения", "рока" или "судьбы". Далее, как правило, возникает конфликт между "здравой" сознательно-идеологической установкой и подспудным велением М = 4. На практике четвертый элемент не легитимизирован, мало того, его репрезентант идентифицируется как "политический монстр", чему в самом деле дает серьезные поводы (см. примеры). По-своему естественная реакция – "монстр" должен быть устранен, такие не имеют прав на существование, и возможностей для победы над ним, кажется, более чем достаточно. Дальнейший сценарий стандартен: чем больше сил бросается на борьбу с "незаконным" четвертым элементом, тем больше, как на дрожжах, он растет, в конце концов, после множества перипетий, одерживая победу. В чем же дело?
На наш взгляд, именно в характере общественного сознания, в особенностях системы в целом. Последняя уже революционна, тем самым приняла тетрарный стереотип, отказаться от которого невозможно как от самоё себя, тогда как в реальности предпринимаются попытки избавиться от "четвертого". Без выхода за рамки системы эта задача невыполнима, поскольку подобна усилиям по поднятию груза, на котором стоишь, или, что то же, мюнгаузеновскому вытягиванию себя за волосы из болота. Чем интенсивнее давление на четвертый элемент, тем активнее отдача, последняя неограниченно растет вместе с внешним воздействием, ибо питается не только собственными ресурсами, но и заимствованными у противников. Так, директивы Генерального штаба России в 1994 – 96 гг. становились известными чеченским боевикам раньше, чем федеральным войскам; на вооружении полевых командиров зачастую оказывалось русское оружие, которым не располагала регулярная армия. Но главное в таких условиях – "дух". Идеологически Россия полностью проиграла в собственных средствах массовой информации, тогда как для чеченцев война была исполнена высшего смысла.
Российское национальное государство, как ранее Грузия, полагавшее, что имеет противником одного из своих провинциальных субъектов, фактически вступило в схватку с самим собой, с конструктивным принципом 3 + 1, наиболее острым и последовательным олицетворением которого служила Чечня, семантически четвертое звено в кавказском ансамбле, последний же – "четвертый" в СНГ (см. рис. 1-17). По существу РФ боролась со складывающимся евразийским блоком, в часть которого ей предстоит превратиться, с его организацией 3 + 1, действующей на всем евразийском пространстве как в прошлом, так и в обозримом будущем. Такая борьба заведомо обречена – из-за "связанности рук", из-за того, что соперник больше тебя, в его рядах, вдобавок, ты сам. Чеченские лидеры тех лет не совершили подобной ошибки, изначально выступая не только за независимость, но и за блок, см. выше: будь то СССР, СНГ.(16) Ситуация достаточно типична, и "неожиданная" стойкость четвертых элементов всякий раз оказывается проявлением устойчивости кватерниорного паттерна в целом. Вывод полезен и применительно к другим, не столь драматическим процессам, его не стоит упускать из вида на протяжении последующего изложения.
Трансформация СССР в СНГ, или его преемника, приводит к изменению его политических свойств, о чем свидетельствует сравнение двух структур: рис. 1-16 и 1-17. Прежде всего, роль логически центрального ядра играет уже не совокупность трех региональных ансамблей: славянского, Закавказья, Прибалтики, – а трех государств: России, Украины, Беларуси.(17) Насколько последняя группа может считаться относительно целостной (полной, замкнутой, связной), настолько по отношению к ней справедливо все сказанное о структурах n = 2, М = 3 (см. раздел 1.3). Стоит отметить отличие данной ситуации как от имперской, когда функция ядра принадлежит одной метрополии или, как в редкостном случае Австро-Венгрии, двум, так и от советской, когда ради построения интернационального коммунистического государства огромный славянский комплекс был подверстан в одну строку с несоизмеримо меньшими другими. Замена трех этнически и конфессионально разнородных ансамблей на тройку национальных государств отражает происходящее: возрастание общественно-психологического значения этнических и конфессиональных факторов (по сравнению с интернационалистским, атеистическим СССР), углубление межгосударственных границ (преодоление черт унитарности, присущих СССР), – что задает "деунифицирующий" тон всей системе. Необходимым условием формообразующей работоспособности России, Украины, Беларуси является, во-первых, сохранение за каждой статуса отдельного (суверенного) элемента и, во-вторых, обеспечение их логической равноценности. Вокруг последнего пункта развиваются специфические, хотя по-своему и естественные, коллизии ввиду фактических различий в площадях территорий, численности населения, размерах ВВП, а также исторической памяти. Проблема, известная и по ЕС – из-за наличия там европейского "кита", единой Германии – в СНГ, с учетом России, оказывается еще более острой, но, как и в ЕС, разрешимой. К этому мы вскоре вернемся.
Логика М = 3 в современной общественно-политической жизни оказывается недостаточной, принцип М = 4, в частности 3 + 1, ответствен за организацию множества реальных систем. Не является самодостаточной и совокупность трех славянских государств. Не будет преувеличением утверждать, что координация их усилий в рамках единого блока обретает целесообразность и смысл лишь в более широких рамках. Здесь не имеется в виду, конечно, совместная эксплуатация "периферии" (стран Кавказа и Центральной Азии) со стороны более модернизированной коллективной метрополии (России, Украины, Беларуси). Как и в ЕС, присоединение к группе более развитых северных стран менее развитых южных, а затем восточных, подразумевает не дискриминацию, а помощь в модернизации, в результате чего (расширение рынков, эффективное разделение труда, увеличение международного веса) остаются в выигрыше все участники. Не иначе обстоит и с евразийской системой, но в настоящем контексте мы обращаем внимание не столько на подобные "позитивистские" факторы, сколько на формирующийся в результате паттерн М = 4, т.е. на механизм коллективного рационального бессознательного. Именно он логически замыкает систему, придает ей психологическую убедительность: изнутри (для стран-членов СНГ) и снаружи (со стороны иных государств и блоков).
В обсуждении вопросов об интеграции или, напротив, дезинтеграции СНГ принимают участие обычные граждане, масс-медиа, политологи. Со всех сторон задействовано множество аргументов. Одни, устремляя взгляд в прошлое, видят в никак не удающемся полном разводе проклятие сталинского наследия: коварный Сталин так разделил СССР, чтобы ни одна из частей не могла обходиться самостоятельно, а проведенные тогда границы в основном соответствуют нынешним. Другие, поворачиваясь лицом к будущему, апеллируют к отсутствию у интеграции приемлемых альтернатив. Такую перспективу диктует экономический императив, поскольку ни один из членов СНГ в отдельности, не исключая Россию с ее почти 150-миллионным населением, не располагает размерами рынка, достаточными для сбыта своей наукоемкой продукции, не только для обновления, но и сохранения промышленного потенциала. Не ждут местных товаров, кроме сырьевых, и надежные внешние рынки. При этом каждая из евразийских стран лишена достойной обсуждения вероятности быть принятой в любой из существующих или складывающихся политико-экономических блоков (согласно опросам семидесяти квалифицированных европейских экспертов, за 10 лет после падения Берлинской стены значительно снизилась эйфория по поводу возможностей расширения Евросоюза [211]). Тогда преференционный обмен внутри СНГ оказывается тривиальным условием выживания ныне и единственно возможной стартовой площадкой для экспортной экспансии впоследствии. 300 миллионов населения СНГ, похоже, есть минимальный порог для достижения общей конкурентоспособности, попадания в "высшую лигу" современного мира. Не иначе обстоит и с военной безопасностью (сохранением и развитием оборонных технологий), с международным политическим весом, от которого реально зависят те же правила международной экономической игры. Состояние культурной сферы, в свою очередь, пребывает в тесной корреляции с тиражами, количеством зрителей, слушателей. Наряду с подобными "отрицательными" условиями упоминают и "позитивные": предшествующие столетия совместной жизни выработали сходные общественные стереотипы – с одной стороны, сближающие новые суверенные государства друг с другом, с другой, контрастно отличающие их от внешних соседей. Играет на руку даже сама география – общая зажатость между иноцивилизационными компактной Европой, динамичным Китаем, нестабильным исламским миром. Не сбрасывается со счетов и фактор подражания: образцы ЕС, НАФТА производят должное впечатление, которому со временем предстоит лишь усиливаться. Третья часть политологов, исходя из наличного на текущий момент положения в СНГ, высказывается скептически – например, директор Федерального института по изучению Восточной Европы из Кельна Х.Тиммерман [442].
В наши задачи не входит включаться в подобное обсуждение, в котором аргументы различной валентности сплетены как в гордиевом узле. В настоящем контексте становится куда более значимым факт живого интереса населения СНГ к проблеме, а также то, что на волне демократизации, восприятия нынешнего состояния как переходного рождается тот самый коллективный политический актор, активный политический субъект, о котором недавно шла речь. В складывающуюся "объективную" политическую реальность встроен дееспособный "субъект", и формирование тетрарной структуры на данном пространстве тогда в конце концов неизбежно. Евразийскому населению есть и кому подражать: кватерниорности вне СНГ, своему собственному прошлому, ибо за 70 лет СССР указанный стереотип буквально "въелся" в коллективное сознание и отказ от коммунизма – это отказ лишь от одной конкретной разновидности, а не от логического паттерна вообще, значительно более широкого по значению. Поэтому по окончании кризиса идентичности ответ на вопрос "кто мы и что" волей-неволей обопрется на тот же рационально-бессознательный, логико-числовой фундамент. "Собирание земель" в таком случае дело не только России, и вопрос вовсе не в "империализме" (русском или восточно-славянском)(18) – без "собирания" в конечном счете не удастся добиться идентичности никому, и, значит, поиск будет продолжаться, пока не будет достигнуто устойчивое, самосогласованное состояние.
Кто или что в состоянии этому помешать? Хаос в душах, умах (главный враг не только отдельных людей, но и народов – они сами)? – Он рано или поздно заканчивается. Могущественные внешние силы? – Но и сами они проникнуты тетрарным стереотипом, так, в частности, идентичность "индустриального Севера" базируется на той же структуре, требующей наличия (воссоздания) на евразийских просторах полноценного геополитического элемента (об этом шла уже речь). Единственное, что, не нарушая данный паттерн, могло бы послужить адекватной заменой интеграции СНГ, – это укрепление России в отдельности при маргинализации остальных. Но это, мягко говоря, нонсенс, ибо сильная Россия тем более добилась бы того, в чем нуждается ее рациональное бессознательное, и подъем России – автоматически подъем СНГ в целом (экономический, политический или культурный – всего того, что обеспечивает "значительность" четвертого элемента). Запад, не перестав быть таковым, ни логически, ни психологически не в состоянии долго обходиться без весомой России, СНГ – в каком бы виде последние ни представали: вирулентном и/или в ипостаси партнера. Способен ли Запад в обозримый период отказаться от своего самосознания в форме "богатого Севера", и значит, М = 4 ? Насколько актуален механизм рационального бессознательного в образованных странах, насколько их население принимает существенное участие в политике (демократия), настолько можно быть уверенным в высказанных прогнозах, ибо это даже не прогнозы, а элементарный анализ констелляции реалий общественного сознания, его внутренней логики.
Вероятно, полезно еще раз коснуться черт семантически четвертых элементов вообще – будь то большевизм в системе типов политических течений, Северная Ирландия в Великобритании, Квебек в НАФТА, Конфедерация народов Кавказа или Чечня в кавказском ансамбле, Таджикистан в постсоветской Центральной Азии, движение "Талибан" в Афганистане и др. Их отмеченный еще Юнгом "девиантный", "вирулентный", нарушающий нормы характер схватывается и текущей математической моделью. Решение М = 4, как мы помним, сопровождается "странным" решением М = – 1, см. (8). В разделе 1.5 будет более обстоятельно затронута семантика варианта М = – 1, здесь же, забегая вперед, достаточно отметить, что ему отвечает, метафорически выражаясь, определенная "негативация", "самоотрицание" системы, так сказать, "воля к самоуничтожению". В чистом виде этот мотив не реализован в кватерниорных политических системах, однако он сопутствует им в качестве более или менее отчетливой коннотации. Решение М = -1 появляется вместе с М = 4, тогда как в случаях М = 3 или М = 5 оно отсутствует. Поэтому трансформация тринитарных систем в тетрарные сопровождается развязыванием упомянутых "негативистских" тенденций, что безошибочно и фиксируется свидетелями и аналитиками. Пришедшее разрушение, "зло" принято адресовать ненормативному четвертому элементу (ведь до его рождения "все было в порядке"), тогда как с точки зрения используемой модели корректнее было бы говорить о неотъемлемых логико-ментальных особенностях новой системы в целом. Со временем острота противопоставления трех традиционных элементов четвертому может сглаживаться, кватерниорность входит в привычку, составляет новую норму, и момент "негативации" уходит на глубину, с которой его проявления превращаются в малозаметные. Сказанное, повторяю, станет понятнее после раздела 1.5, но – "дорога ложка к обеду" – упоминание о неотъемлемом коннотативном значении структур М = 4 позволяет, надеюсь, лучше понять и анализируемые политические кватернионы.
Подводя итог, семантическая структура складывающегося СНГ, или Евразийского блока (дело не в названиях), представляется следующей. Совокупность "Россия, Украина, Беларусь и Казахстан" является его репрезентантом лишь в первом – хотя и важном, работающем – приближении. Более строго ту же структуру, на наш взгляд, удастся передать, если Россия, Украина, Беларусь сохранятся в качестве базовой тройки, тогда как место типологически "четвертого" окажется принадлежащим сразу двум составным элементам: постсоветским Центральной Азии и Кавказу. Оба региона (подсистемы, субблока, региональных ансамбля) – пограничные с большим миром ислама и, соответственно, "амфифильны". Они оба – не только географические, этнические, культурные, но и стадиально-модернизационные маргиналы по отношению к государствам славянским. Согласно мир-системным членениям, если славяне принадлежат зоне мировой экономической полупериферии, то Центральная Азия и Кавказ – периферии, т.е. вторые отделены от первых важной глобальной границей. Четвертых элементов здесь два – по той же, к сожалению, не объясненной в настоящем разделе, причине, по которой в ООН, наряду с СССР, пребывали УССР и БССР (т.е. с позиций международного права над соответствующими территориями по существу был признан двойной суверенитет: общесоветский и национально-республиканский) или по которой в управлении делами Северной Ирландии, легитимной части Соединенного королевства, стала принимать участие и Ирландия. Как и прежде, воспользуемся графическим изображением:
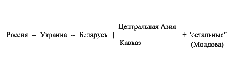
Рис. 1-17
Каждый из четвертых элементов, в свою очередь, располагает собственным кватерниорным строением (см. выше), им отличаются даже отдельные государства(13) . Здесь все пригнано друг к другу как в прецизионном механизме. Молдове по-прежнему, как и при СССР, отводится роль "остальных", она привязана к блоку фактором Приднестровья (к вопросу об этой стране нам, впрочем, предстоит возвратиться при изучении структуры ЕС). Что касается Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии, – эти государства не только не являются членами СНГ, но и выбрали совсем иной вектор движения – по направлению к ЕС и НАТО. И действительно, трансформация СССР в СНГ не оставляет бывшей советской Прибалтике другого логического места, кроме "остальных". В коллективно-психологическом плане принятие подобного варианта по сути означало бы понижение реального (пусть и не продекларированного) статуса, политико-аксиологическую маргинализацию (напомним, в СССР тройке прибалтийских республик принадлежала равноценная семантическая позиция как и у огромной по размерам совокупности славянских государств или как у всей Средней Азии). Напротив, Балтия, в чем вскоре предстоит убедиться, исключительно точно укладывается в паттерн новой Европы: невостребованный (или полувостребованный) элемент в одном блоке, она необходима в другом.
Вероятно, нелишне сопутствующее замечание: постсоветское пространство сбивается в семантически компактный блок во многом благодаря следующим факторам. С одной стороны, ключевая система самых крупных, модернизационно продвинутых, традиционно составляющих ядро исторического объединения славянских республик (России, Украины, Беларуси) является тройкой, с другой – в головах населения на всем постсоветском пространстве, не исключая, конечно, самих славян, уже век как утвердился кватерниорныйполитический стереотип. Последний совершает победное шествие по всей планете (см. выше, цепочка примеров вскоре будет продолжена), и тем более непонятно, что в состоянии прекратить его формообразующее действие там, где им давно пущены разветвленные и глубокие корни. Результатом сочетания тройки в реальности и четверки в душах и умах становится стремление дополнить тройку до четверки и на практике. Так при образовании молекул атомы объединяют свои внешние электронные орбиты, дополняя численность электронов до "полного списка", так ион захватывает извне недостающий электрон. Отсюда следует: если тройка славянских государств по каким-то причинам вдруг превратилась бы в четверку, ее интегрирующая сила тут же бы исчезла.
Призрак такого превращения надавно промельнул в связи с официальной просьбой Югославии принять ее в союз России и Беларуси. Если бы такой вариант (оставим в стороне степень его серьезности) был претворен в действительность, то это, по всей вероятности, ускорило бы присоединение к православно-славянскому альянсу Украины, но зато поставило бы бесповоротный жирный крест на консолидации остального постсоветского пространства: и Центральная Азия, и Кавказ оказались бы "не нужны" и, что еще важнее, тесная славянская компания оказалась бы совершенно чуждой львиной доле двух упомянутых региональных ансамблей. Позитивистски настроенные аналитики справедливо указывают на неизбежное тогда фундирование этно-конфессиональных противоречий внутри СНГ, раскол по линии "славянско-православный мир и исламский". Мы же склоняемся видеть в том же факте очередное выражение "числовых" закономерностей: искомая четверка состоялась бы и без Центральной Азии и Кавказа, превратилась бы в "самодостаточную" целостность, соседствующую с другими, столь же самодостаточными.
Трансформация славянской тройки в четверку также мыслима и в свете порой обсуждающейся перспективы распада РФ на две части: западную (европейскую) и восточную (за Уральским хребтом). В этом случае снизился бы уровень опасений Украины потеряться рядом с огромной Россией, т.е. возможность восточно-славянской интеграции могла бы возрасти. При этом неизбежно повысился бы и уровень самодовлеемости славянского ансамбля (например, потому, что России было бы уже не до экспансии, дай Бог сохранить существующее). Одновременно снизилась бы степень притягательности России для государств Средней Азии и Кавказа. Тогда на постсоветском пространстве наблюдались бы три независимых друг от друга региональных ансамбля, каждый – с собственным кватерниорным строением. Подобный вариант, однако, до поры допустимо всерьез не рассматривать, т.к. он осуществим лишь при переходе нынешнего глубокого экономического и политического кризиса в хроническую форму, а России уже не однажды удавалось демонстрировать свои способности к внутренней мобилизации, к ответам на разнообразные исторические вызовы, причем, зачастую в безвыходных, казалось бы, ситуациях.(14) Чуть ниже мы коснемся более важных причин, по которым вряд ли оправданно ожидать реализации упомянутого "пессимистического" сценария. Здесь же остается заметить, что полное отделение пограничных с большим миром ислама стран Средней Азии и Кавказа от бывших славянских партнеров действительно не смогло бы предотвратить их экономической и политической маргинализации, "африканизации", что им и было обещано мир-системными аналитиками.
Зайдем с несколько другой стороны. Строго говоря, евразийской структуре М = 4 удалось бы реализоваться и без двойного экземпляра четвертого элемента, а только с одинарным. При этом, однако, неизбежно встал бы вопрос, куда деваться "неоприходованной" части. У постсоветской Центральной Азии, собственно, даже теоретически не существует сколько-нибудь приемлемой альтернативы пребыванию в составе единого блока с Россией и остальными. Остаться одним в условиях глобализации мира? – Даже совокупный вес центральноазиатского ансамбля не позволяет надеяться на статус серьезного игрока, с интересами которого будут считаться. Позволить затянуть себя в пучину брожения соседнего исламского мира? – Такой участи не пожелает своей стране ни один ответственный политик. С этим ансамблем все более или менее понятно: объективные реалии рано или поздно заставят его присоединиться к евразийскому блоку, особенно вслед за стабилизацией России. А как обстоит дело с кавказским ансамблем?
Его географическое положение, соседство с Европой и Турцией в состоянии вселять в головы иных региональных политиков надежды на присоединение к ЕС и НАТО. При этом, как сказано, становление евразийского блока в принципе возможно и без Кавказа (структура М = 3 + 1 реализуема и без него). Согласен, на уровне отвлеченной гипотезы перспектива вступления в НАТО не исключена: заинтересованность в этом геополитически значимом, богатом энергоресурсами регионе со стороны ведущих членов альянса (особенно США) достаточно высока. Беда лишь в одном: членство в военных структурах – не самоцель ни для одной из кавказских республик. Если вскоре за тем оно не будет подкреплено приемом в богатую экономическую организацию (единственный мыслимый вариант – в ЕС), то эти государства, как бы помягче выразиться, разочаруются. Вопрос, могут ли у Европейского союза в ближайшие годы возникнуть практические планы включить в свой состав Азербайджан, Грузию, Армению и, возможно, подверстанную к ним Чечню, ничего, кроме улыбки, вероятно, не вызовет. Зачем это нужно ЕС? Готов ли этот тщательно заботящийся о собственном благополучии блок принять на себя ответственность за экономику и политику региона? Дай Бог в обозримую перспективу придать цивилизованный облик Турции и странам Восточной Европы, а заботы об еще более далеких от европейских стандартов народах на ближайшей повестке дня не стоят. Поэтому у кавказского ансамбля в конечном счете нет иного выбора помимо присоединения к евразийскому блоку (благо, дорога проторена). Нынешний же взаимный флирт некоторых стран Кавказа и отдельных представителей Запада – из области, кто кого сумеет перехитрить, сумев добиться временных дивидентов (впрочем, возвращаясь к серьезному тону, не стоит сбрасывать со счетов значение и обычных межгосударственных, интерблоковых связей, т.е. поверх границ между крупными блоками). По завершении общеевразийского кризиса все встанет на свои места.
Прежде, чем продолжить анализ, стоит выполнить недавнее обещание, вкратце обсудив причины, по которым типологически четвертые элементы зачастую демонстрируют удивительную политическую стойкость, в том числе вопреки исходным раскладам сил. В качестве рабочих используем примеры русских большевиков в Гражданской войне, конфликта крошечной Чечни с огромной РФ или движения "Талибан" в Афганистане. Выводы нетрудно распространить и на другой материал.
По-прежнему придерживаемся гипотезы, что в эпоху масс главным творцом истории, возникающих политических форм являются упомянутые массы, причем по-школьному образованные и, значит, проникнутые элементарной логикой. Пусть, далее, некий регион – будь то страна или блок – по каким-то причинам приходит в движение, массы вдохновляются теми или иными идеями и, что более важно, усваивают, что от них на деле многое зависит. В когнитивном плане это означает формирование активного актора,(15) или "субъекта", который отныне встроен в "объективную" политическую реальность. Подобная ситуация – см. раздел 1.4.1– подталкивает к утверждению кватерниорного стереотипа, последний получает дополнительную подпитку, если уже есть, чему подражать.
Разумеется, массы более чем далеки от подсчета, процесс протекает по бессознательным, имагинативным каналам, что, однако, не уменьшает, а увеличивает его мощь, возвышающуюся до ранга "предопределения", "рока" или "судьбы". Далее, как правило, возникает конфликт между "здравой" сознательно-идеологической установкой и подспудным велением М = 4. На практике четвертый элемент не легитимизирован, мало того, его репрезентант идентифицируется как "политический монстр", чему в самом деле дает серьезные поводы (см. примеры). По-своему естественная реакция – "монстр" должен быть устранен, такие не имеют прав на существование, и возможностей для победы над ним, кажется, более чем достаточно. Дальнейший сценарий стандартен: чем больше сил бросается на борьбу с "незаконным" четвертым элементом, тем больше, как на дрожжах, он растет, в конце концов, после множества перипетий, одерживая победу. В чем же дело?
На наш взгляд, именно в характере общественного сознания, в особенностях системы в целом. Последняя уже революционна, тем самым приняла тетрарный стереотип, отказаться от которого невозможно как от самоё себя, тогда как в реальности предпринимаются попытки избавиться от "четвертого". Без выхода за рамки системы эта задача невыполнима, поскольку подобна усилиям по поднятию груза, на котором стоишь, или, что то же, мюнгаузеновскому вытягиванию себя за волосы из болота. Чем интенсивнее давление на четвертый элемент, тем активнее отдача, последняя неограниченно растет вместе с внешним воздействием, ибо питается не только собственными ресурсами, но и заимствованными у противников. Так, директивы Генерального штаба России в 1994 – 96 гг. становились известными чеченским боевикам раньше, чем федеральным войскам; на вооружении полевых командиров зачастую оказывалось русское оружие, которым не располагала регулярная армия. Но главное в таких условиях – "дух". Идеологически Россия полностью проиграла в собственных средствах массовой информации, тогда как для чеченцев война была исполнена высшего смысла.
Российское национальное государство, как ранее Грузия, полагавшее, что имеет противником одного из своих провинциальных субъектов, фактически вступило в схватку с самим собой, с конструктивным принципом 3 + 1, наиболее острым и последовательным олицетворением которого служила Чечня, семантически четвертое звено в кавказском ансамбле, последний же – "четвертый" в СНГ (см. рис. 1-17). По существу РФ боролась со складывающимся евразийским блоком, в часть которого ей предстоит превратиться, с его организацией 3 + 1, действующей на всем евразийском пространстве как в прошлом, так и в обозримом будущем. Такая борьба заведомо обречена – из-за "связанности рук", из-за того, что соперник больше тебя, в его рядах, вдобавок, ты сам. Чеченские лидеры тех лет не совершили подобной ошибки, изначально выступая не только за независимость, но и за блок, см. выше: будь то СССР, СНГ.(16) Ситуация достаточно типична, и "неожиданная" стойкость четвертых элементов всякий раз оказывается проявлением устойчивости кватерниорного паттерна в целом. Вывод полезен и применительно к другим, не столь драматическим процессам, его не стоит упускать из вида на протяжении последующего изложения.
Трансформация СССР в СНГ, или его преемника, приводит к изменению его политических свойств, о чем свидетельствует сравнение двух структур: рис. 1-16 и 1-17. Прежде всего, роль логически центрального ядра играет уже не совокупность трех региональных ансамблей: славянского, Закавказья, Прибалтики, – а трех государств: России, Украины, Беларуси.(17) Насколько последняя группа может считаться относительно целостной (полной, замкнутой, связной), настолько по отношению к ней справедливо все сказанное о структурах n = 2, М = 3 (см. раздел 1.3). Стоит отметить отличие данной ситуации как от имперской, когда функция ядра принадлежит одной метрополии или, как в редкостном случае Австро-Венгрии, двум, так и от советской, когда ради построения интернационального коммунистического государства огромный славянский комплекс был подверстан в одну строку с несоизмеримо меньшими другими. Замена трех этнически и конфессионально разнородных ансамблей на тройку национальных государств отражает происходящее: возрастание общественно-психологического значения этнических и конфессиональных факторов (по сравнению с интернационалистским, атеистическим СССР), углубление межгосударственных границ (преодоление черт унитарности, присущих СССР), – что задает "деунифицирующий" тон всей системе. Необходимым условием формообразующей работоспособности России, Украины, Беларуси является, во-первых, сохранение за каждой статуса отдельного (суверенного) элемента и, во-вторых, обеспечение их логической равноценности. Вокруг последнего пункта развиваются специфические, хотя по-своему и естественные, коллизии ввиду фактических различий в площадях территорий, численности населения, размерах ВВП, а также исторической памяти. Проблема, известная и по ЕС – из-за наличия там европейского "кита", единой Германии – в СНГ, с учетом России, оказывается еще более острой, но, как и в ЕС, разрешимой. К этому мы вскоре вернемся.
Логика М = 3 в современной общественно-политической жизни оказывается недостаточной, принцип М = 4, в частности 3 + 1, ответствен за организацию множества реальных систем. Не является самодостаточной и совокупность трех славянских государств. Не будет преувеличением утверждать, что координация их усилий в рамках единого блока обретает целесообразность и смысл лишь в более широких рамках. Здесь не имеется в виду, конечно, совместная эксплуатация "периферии" (стран Кавказа и Центральной Азии) со стороны более модернизированной коллективной метрополии (России, Украины, Беларуси). Как и в ЕС, присоединение к группе более развитых северных стран менее развитых южных, а затем восточных, подразумевает не дискриминацию, а помощь в модернизации, в результате чего (расширение рынков, эффективное разделение труда, увеличение международного веса) остаются в выигрыше все участники. Не иначе обстоит и с евразийской системой, но в настоящем контексте мы обращаем внимание не столько на подобные "позитивистские" факторы, сколько на формирующийся в результате паттерн М = 4, т.е. на механизм коллективного рационального бессознательного. Именно он логически замыкает систему, придает ей психологическую убедительность: изнутри (для стран-членов СНГ) и снаружи (со стороны иных государств и блоков).
В обсуждении вопросов об интеграции или, напротив, дезинтеграции СНГ принимают участие обычные граждане, масс-медиа, политологи. Со всех сторон задействовано множество аргументов. Одни, устремляя взгляд в прошлое, видят в никак не удающемся полном разводе проклятие сталинского наследия: коварный Сталин так разделил СССР, чтобы ни одна из частей не могла обходиться самостоятельно, а проведенные тогда границы в основном соответствуют нынешним. Другие, поворачиваясь лицом к будущему, апеллируют к отсутствию у интеграции приемлемых альтернатив. Такую перспективу диктует экономический императив, поскольку ни один из членов СНГ в отдельности, не исключая Россию с ее почти 150-миллионным населением, не располагает размерами рынка, достаточными для сбыта своей наукоемкой продукции, не только для обновления, но и сохранения промышленного потенциала. Не ждут местных товаров, кроме сырьевых, и надежные внешние рынки. При этом каждая из евразийских стран лишена достойной обсуждения вероятности быть принятой в любой из существующих или складывающихся политико-экономических блоков (согласно опросам семидесяти квалифицированных европейских экспертов, за 10 лет после падения Берлинской стены значительно снизилась эйфория по поводу возможностей расширения Евросоюза [211]). Тогда преференционный обмен внутри СНГ оказывается тривиальным условием выживания ныне и единственно возможной стартовой площадкой для экспортной экспансии впоследствии. 300 миллионов населения СНГ, похоже, есть минимальный порог для достижения общей конкурентоспособности, попадания в "высшую лигу" современного мира. Не иначе обстоит и с военной безопасностью (сохранением и развитием оборонных технологий), с международным политическим весом, от которого реально зависят те же правила международной экономической игры. Состояние культурной сферы, в свою очередь, пребывает в тесной корреляции с тиражами, количеством зрителей, слушателей. Наряду с подобными "отрицательными" условиями упоминают и "позитивные": предшествующие столетия совместной жизни выработали сходные общественные стереотипы – с одной стороны, сближающие новые суверенные государства друг с другом, с другой, контрастно отличающие их от внешних соседей. Играет на руку даже сама география – общая зажатость между иноцивилизационными компактной Европой, динамичным Китаем, нестабильным исламским миром. Не сбрасывается со счетов и фактор подражания: образцы ЕС, НАФТА производят должное впечатление, которому со временем предстоит лишь усиливаться. Третья часть политологов, исходя из наличного на текущий момент положения в СНГ, высказывается скептически – например, директор Федерального института по изучению Восточной Европы из Кельна Х.Тиммерман [442].
В наши задачи не входит включаться в подобное обсуждение, в котором аргументы различной валентности сплетены как в гордиевом узле. В настоящем контексте становится куда более значимым факт живого интереса населения СНГ к проблеме, а также то, что на волне демократизации, восприятия нынешнего состояния как переходного рождается тот самый коллективный политический актор, активный политический субъект, о котором недавно шла речь. В складывающуюся "объективную" политическую реальность встроен дееспособный "субъект", и формирование тетрарной структуры на данном пространстве тогда в конце концов неизбежно. Евразийскому населению есть и кому подражать: кватерниорности вне СНГ, своему собственному прошлому, ибо за 70 лет СССР указанный стереотип буквально "въелся" в коллективное сознание и отказ от коммунизма – это отказ лишь от одной конкретной разновидности, а не от логического паттерна вообще, значительно более широкого по значению. Поэтому по окончании кризиса идентичности ответ на вопрос "кто мы и что" волей-неволей обопрется на тот же рационально-бессознательный, логико-числовой фундамент. "Собирание земель" в таком случае дело не только России, и вопрос вовсе не в "империализме" (русском или восточно-славянском)(18) – без "собирания" в конечном счете не удастся добиться идентичности никому, и, значит, поиск будет продолжаться, пока не будет достигнуто устойчивое, самосогласованное состояние.
Кто или что в состоянии этому помешать? Хаос в душах, умах (главный враг не только отдельных людей, но и народов – они сами)? – Он рано или поздно заканчивается. Могущественные внешние силы? – Но и сами они проникнуты тетрарным стереотипом, так, в частности, идентичность "индустриального Севера" базируется на той же структуре, требующей наличия (воссоздания) на евразийских просторах полноценного геополитического элемента (об этом шла уже речь). Единственное, что, не нарушая данный паттерн, могло бы послужить адекватной заменой интеграции СНГ, – это укрепление России в отдельности при маргинализации остальных. Но это, мягко говоря, нонсенс, ибо сильная Россия тем более добилась бы того, в чем нуждается ее рациональное бессознательное, и подъем России – автоматически подъем СНГ в целом (экономический, политический или культурный – всего того, что обеспечивает "значительность" четвертого элемента). Запад, не перестав быть таковым, ни логически, ни психологически не в состоянии долго обходиться без весомой России, СНГ – в каком бы виде последние ни представали: вирулентном и/или в ипостаси партнера. Способен ли Запад в обозримый период отказаться от своего самосознания в форме "богатого Севера", и значит, М = 4 ? Насколько актуален механизм рационального бессознательного в образованных странах, насколько их население принимает существенное участие в политике (демократия), настолько можно быть уверенным в высказанных прогнозах, ибо это даже не прогнозы, а элементарный анализ констелляции реалий общественного сознания, его внутренней логики.
