Страница:
- << Первая
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- Следующая »
- Последняя >>
Отчасти сходное положение и с решением М = 0, сопровождающим все прочие "здравые" варианты. Как мы помним (см. начало раздела 1.4.1), при любой положительной кратности отношений n, наряду с "нормальным" случаем М = n + 1, выступает и этот: М = 0, – из-за чего к нему был применен эпитет "универсального". Несмотря на то, что элементов в системе нет и, казалось бы, не о чем говорить, в свое время мы отказались принять его прозвище "тривиального". Пора обосновать наш отказ.
Исторически числу нуль не очень везло. Человек знал уже много разновидностей чисел, даже иррациональных, но нужды в нуле долгое время не испытывал. Его по существу не ведал ни Древний Египет, ни Вавилон, не востребовала и античность. Зачем считать то, чего нет? (2) Нуль – действительно странное понятие.
Если счет или измерение имеют дело с реально существующими предметами, то в данном случае число уже есть, а предмета – нет. Нуль в роли представления и обозначения начал-таки проклевываться в Вавилоне – для фиксации отсутствующего разряда при записи количеств. Запись и подсчеты велись на разграфленных табличках, и если в каком-то столбце ничего не было, то, чтобы не путаться и чтобы туда случайно ничего не попало, место занимали специальным значком [142].(3) Греки при вычислениях на абаке применяли особый круглый камешек с отверстием посередине. Таковы первые свидетельства о формировании категории значимого отсутствия.
Это были еще робкие попытки, нуль не обладал сколько-нибудь отчетливой самостоятельностью. На протяжении тысячелетий развития процедуры счета он сумел дотянуться лишь до статуса цифры, значка, но не настоящего числа, т.к. без сопровождения других цифр не означал ровно ничего. Часто на его месте по-прежнему оставляли пустое место.
Первыми, кто понял нуль именно как отдельное, реальное число, были, по-видимому, индийцы (по другим версиям, индийцы заимствовали его у китайцев [142, с. 178]). Вообще индийские математики отличались немалым своеобразием. С одной стороны, математики всех древних цивилизаций во многом повторяли друг друга, хотя и использовали разную символику, опирались на разные критерии убедительности. Вероятно, справедливо, когда историки говорят, что науку в современном смысле слова, в частности математическое доказательство, придумала ранняя античность и возводят последнее к риторическим спорам [128]. Публичные диспуты в Древней Греции были исключительно престижны, искусству обоснования своей точки зрения долго и старательно обучались (у софистов, философов). Победе в споре – перед лицом судей, сограждан, богов – придавалось и судьбоносное значение. Полагают, что Фалес (либо Пифагор) первым придумал способ "неотразимой" аргументации, финитное "что и требовалось доказать" до сих пор несет след той эпохи. Но словесное доказательство и убедительное знание – отнюдь не синонимы. У ученых может быть мотивация, весьма отличная от тщеславия греков. Иные из индийских математиков, например, вообще старались тратить поменьше слов. Вместо текста они помещали в рукописи рисунок для изображения, скажем, некоей геометрической истины и подписывали его: "Смотри!" [142]. Такая "голая" подпись сопровождает, среди прочих, чертеж, за которым стоит остроумнейшее, кратчайшее доказательство положения, называемого нами теоремой Пифагора. "Очевидность" в таких случаях становилась буквальной. Но сейчас речь об арифметике, а не геометрии.
Индийцы (по мнению других, китайцы) ввели понятие отрицательного числа, уже Брахмагупта (ок. 598 – 660) уверенно обращается с ними (отрицательное число трактовалось как коммерческий долг [307:I, с.76]). В I в. н.э. в Индии был введен особый знак для нуля, и последний приобретает абсолютное позиционнное значение [224, c. 59], т.е. становится "настоящим" числом. От индусов – через арабов – представление о нуле пришло в Европу, но было здесь окончательно легитимизировано, как полагают, только в ХVII в., вместе с Декартом! (Сам Декарт, впрочем, еще считал отрицательные число и нуль "ненастоящими", "ложными" числами [87, c. 136].)(4) В контексте же индийской культуры нуль выглядит совершенно органично. Во-первых, как только что отмечалось, оригинальны индийская математика в целом, и, скажем, К.Бойер констатирует: "Индусы были сильны в ассоциации и аналогии, в эстетическом и связанном с воображением чутье (flair), в то время как арабы были более практически мыслящие и приземленные в своем подходе к математике" [420, p. 252], цит. по: [152, c. 28]. Европейцы узнавали о достижениях индийцев от арабов, присоединяясь к упомянутым практицизму и приземленности. Во-вторых, более конкретно: индуизм и буддизм издавна были озабочены проблемой значимого отсутствия, у них оно является одним из онтологически, гносеологически центральных – наряду с пустотой, нирваной, избавлением от миража материального мира (из многих словесных обозначений нуля, например "небо", "дыра", в конечном счете больше всего у индийцев привилось название "шунья", пустое). Совершенно иная ориентация у нас, считающих своей духовной родиной Европу.
Европейцы действительно – особенно после Ренессанса – переняли от античности "предметность", "материальность" сознания. При такой установке прав Пифагор, называвший первым числом конкретную, явленную единицу, из которой ведут свое происхождение все остальные числа.(5) Похоже, некогда лишь элеаты подумывали об альтернативном пути (к ним мы еще обратимся), но генеалогия европейской мысли насажена на вектор, идущий от Пифагора через Платона, Аристотеля, средневековье к Декарту. Да, в условиях новой эпохи, новых задач европейцы заимствовали индийские понятия отрицательных чисел и нуля, но последнее и поныне осталось для нас во многом чужим!
Наличное представление о нуле по-прежнему несет тот след ментальной несамостоятельности, тем более нецентральности, которыми отличались древнезападные представления от Вавилона до Греции. Мы обращаемся с ним не как с "субстанциальным", а как со вспомогательным, "операционным" объектом.(6) Нуль может быть решением каких-то уравнений, но зачастую самым неинтересным ("бессодержательным", "тривиальным"). Нуль, кроме того, – точка, разделяющая положительную и отрицательную области на числовой оси. Подобная геометрическая нагрузка в европейском понимании нуля придает ему несколько "кургузый" оттенок.
Ко времени Декарта завершена алгебраизация числа, т.е. отрыв его от реальных предметов (Декарт, после Виета, – автор современной системы обозначений, в которой вместо чисел фигурируют отвлеченные буквы [118]). Нуль окончательно легитимизируется в Европе именно в эпоху Декарта, автора геометрического метода координат, и "геометрический" метод лежит у истоков европейского мировоззренческого рационализма, будучи основой философских трактатов и самого Декарта, и Спинозы. Отделение числа от действительного предмета (абстрагирование), т.е. во многом – выхолащивание его реального смысла, вкупе с геометризацией привело к замене этих предметов геометрическими образами: число есть точка. Нуль – такая же "точка", как и остальные числа. Геометрия предполагает сенсорную зримость, наглядность, и о каком же "настоящем"отсутствии тогда может идти речь? Европейцы с самого начала "материализовали" нуль. Кроме того, арифметика и геометрия вообще принципиально различны.
Геометрия – хотя и древняя, но гораздо более молодая отрасль знаний, чем арифметика. Геометрия возникла в период оседлого образа жизни человека, в эпоху земледелия, строительства домов и мелиоративных каналов. Истоков же арифметики мы просто не знаем. Однако известно, что древние египтяне, перед тем как осесть, уже обладали довольно развитыми навыками счета. В разделе 1.1упоминалось, что зачатками счета располагают самые первобытные племена и даже животные (кошка, ворона). Способен ли наш разум, не теряя себя, не утрачивая идентичности в ходе поиска, добраться до анализа столь глубинных основ?
Геометрии уже в эпоху Эвклида удалось придать последовательно стройный рациональный облик – как выражаются математики, аксиоматизировать ее: сформулировать несколько ясных и строгих положений, из которых дедуктивно выводятся все остальные истины. С арифметикой подобного, несмотря на множество попыток, проделать не удалось. Более того, как уже отмечалось, в 1931 г. К.Гедель – в теоремах о неполноте – доказал, что это в принципе невозможно: мы волей-неволей будем упираться в произвольные положения (если истинны они, то не менее истинны и диаметрально противоположные). Античность же не только строго различала арифметику и геометрию, но и традиционно наделяла первую более высоким гносеологическим статусом [152, c. 32]– именно из-за того, что геометрия слишком привязана к чувственной реальности.
Поместив нуль в геометрическую оправу, европейцы во многом выхолостили его реальное содержание, они до сих пор во многом воспринимают его как нечто "наглядное", "материальное", "позитивное". Весьма отдаленное отношение к логико-арифметическому нулю имеет, в частности, аутентичное для "геометризованных" дифференциального и интегрального исчислений понятие бесконечно малой величины, которая к нулю неограниченно стремится, но никогда не достигает. Европейцы добились высокой искусности в методах огибания проблемы, в избавлении от нулей и бесконечностей, например, при раскрытии так называемых неопределенностей. Индийцы же находят мужество не отводить глаза, и их интуиция нуля несравненно богаче.(7) Если прибегнуть к помощи психоаналитических трактовок, европейцы как бы инстинктивно защищаются от чуждой им ментальной сущности, а ведь ничто, как известно, не может быть сильнее предубеждения. Повторим, мы обращаемся с нулем операционно, он – не предмет нашей внутренней жизни. Чтобы избежать опасной инфекции, мы прикасаемся к нему посредством пинцета.
В некоторых моментах нуль все же занимает присущее ему особое, центральное положение. Так, начало координат обычно помещается в точке нуль. В нуле пересекаются или из него исходят все разнонаправленные координатные оси. Даже на графиках, когда по одной оси мы откладываем, например, силы, выраженные в килограммах, а по другой – расстояние в метрах, в нуле они пересекаются, т.е. утрачивается различие между различными физическими единицами измерений. Отсутствие килограммов и отсутствие метров изображается одной и той же точкой, понимается как одно и то же; между логически разнородными понятиями в нуле стираются границы. Но это все же геометрическийобраз, питающийся сенсорными источниками. С ноуменальным же отсутствием наши отношения не безоблачны.
Нет, я далек от намерений представлять европейцев в роли малосведущих варваров. И в нашей культуре есть следы чего-то подобного индийской дороге. Так, античность и позднее средневековье разрабатывают так называемый апофатическийметод в богословии. В отличие от катафатического, он предполагает определение сущности Божества посредством системы отрицаний, с помощью того, чем Божество неявляется, см., например, "Об отрицательной теологии" Николая Кузанского [230:I, с. 93-95]. Поскольку Господь сенсорно невоспринимаем и непознаваем в положительных, утвердительных категориях, постольку предлагается получить о Нем некоторое представление, прибегнув к последовательности отрицаний, перечислению отсутствующих в Нем качеств. Апофатические рассуждения некогда достигли весьма высокой степени изощренности, но все же не они определяют лицо современной культуры. Наука отдает явное предпочтение констатирующе-утвердительным пропозициям, на которых главным образом и зиждется. Впрочем, и в науке, даже в таком материалистическом разделе как физика, находится место для упомянутой "апофатичности".
В ХIХ в. в фундамент термодинамики был заложены три конструктивных "не": невозможно построить вечный двигатель (первое начало термодинамики), невозможен вечный двигатель второго рода (второе начало), невозможно достигнуть абсолютного нуля температур (теорема Нернста, называемая иногда третьим началом). Термодинамика, несмотря на свою стройность, аксиоматическое построение, – достаточно странная наука, остающаяся в значительной мере концептуально обособленной от прочих, "позитивных" физических отраслей. В отличие от механики, электромагнетизма и пр., она позволяет находить формы физических процессов, не вдаваясь в их конкретный механизм. Внимание к формам, принципы запрета перекочевали затем в релятивистскую механику (невозможно определить абсолютную скорость движения) и в квантовую (принцип неопределенности Гейзенберга, принцип Паули…).
Да, с ХIХ и начала ХХ вв. наши философы и ученые делают шаг в направлении к Востоку и средневековью, все больше понимают формообразующую роль запретов и "не". Собственно, если бы у европейцев вообще отсутствовала способность понимать подобные вещи, не состоялся бы и нынешний разговор – ведь автор также воспитан в европейском образе мысли. В таких случаях культурологи говорят о "встречном влиянии": в данном случае о движении европейцев навстречу индийцам.
Но все же протянутые руки друг друга еще не коснулись, дистанция между ориенталистским нулем и европейским остается значительной. Так, упомянутые начала термодинамики вскоре были переинтерпретированы в утвердительном, позитивном ключе (первое начало – закон сохранения энергии, второе – принцип неубывания энтропии"), под бок термодинамики почти тотчас подставили механическую, статистически-молекулярную подпорку. Хотя компетенция рационально-эмпирической наглядности ограничивается (особенно в квантовой теории, то работающей с ненаблюдаемыми величинами, скажем волновой функцией, то применяющей модель "черного ящика", то мыслящей посредством парадоксов или всерьез занявшейся недавней пустотой. т.е. вакуумом), однако для рассматриваемого здесь понятия значимого отсутствия до сих пор не построен прочный собственный дом. Главные акценты поставлены на "здравых", утвердительных тезисах. Так происходит не только в физике, но она удобна для иллюстраций, поскольку явным образом использует математику.
Европейское отношение к нулю, повторим, исполнено коллизий. В физике это находит отражение, в частности, в проблеме сингулярностей. Взаимодействует ли частица сама с собой? – Многое свидетельствует в пользу утвердительного ответа, но тут-то и возникают логические трудности. Беда в том, что расстояние от частицы до нее самой равно нулю, а все фундаментальные силы обратно пропорциональны расстоянию (взятому в определенной степени). Деление на нуль приводит к бесконечному значению сил, а допускать бесконечности в реальность в физике не принято. Не иначе – в релятивистской космологии. Если вселенная возникла в результате "большого взрыва", то каким было ее исходное состояние? Ученые очень близко подошли к "началу" во времени (до 10 -45 сек), но войти в него не удается – мешают те же бесконечности ("сингулярности"). Сходными проблемами физика буквально пестрит: это и расходимость волновой функции (появление бесконечностей, которые преодолеваются с помощью искусственных, не обоснованных приемов), и недостижимость нуля температур (для этого потребовалась бы бесконечная энергия). Некогда и дифференциальное исчисление, как упоминалось, благоразумно использовало величины неограниченно малые, но все же отличные от нуля. Нет, что-то не в порядке в датском королевстве: нуля мы тщательно избегаем, а как только сталкиваемся с ним вплотную, немедленно получаем интеллектуальную встряску. По-видимому, стоит вывести список примеров за границы физики, чтобы найти общий язык и с гуманитариями.
Молчание– взятое не как бессмысленное состояние бездумной и бессловесной твари, а в качестве значимого, семантически насыщенного акта человека – служит одной из важнейших категорий религиозной культуры. Так обстоит на Востоке, особенно в ареале, подвергшемся влиянию буддизма: в Китае, Корее, Японии (в частности, в дзэн-буддизме). Так раньше обстояло и на христианском Западе. Обет молчания принимался добровольно или накладывался священником как во искупление грехов, так и для накопления духовных сил в преддверии совершения чего-то важного, требующего мобилизации всех психических потенций. На Иоанна Златоуста, с молодости демонстрировавшего незаурядные поэтические способности, в монастыре был наложен запрет на их применение, вообще на употребление слов. Спустя несколько лет его внутренний дар настолько окреп, что запрет был снят, и Иоанн стал тем Златоустом, которого мы помним без малого два тысячелетия. Во имя молчания люди затворялись в кельях, уходили в пустыни. Для обитателей Афонского монастыря, цитадели исихазма, молчание было одним из важнейших духовных упражнений. Об укорененности языка в молчании, о вслушивании в тишину Истины говорил Аврелий Августин. Задачей христианина является понять "вечное Слово, пребывающее в молчании" (Исп., ХI, 6, 8), что возможно лишь интуитивно. "Внутреннее слово, рождающееся из такого вслушивания, соотнесено не с одной-двумя интеллигибельными формами, но со всеми, весь мир схватывается в таком слове целиком и сразу, без перехода от одного к другому" (О Троице, ХV, 16, 26, цит. по: [226, c. 122]).
Такое молчание – значимое отсутствие слов, "нуль" слов, логически предшествующий речи и ее завершающий. Безмолвие – спутник величественного (например, высоких звезд) и ужасного (когда мы утрачиваем способность произнести хоть слово). Оно отнюдь не бессодержательно и не тривиально: по крайней мере, когда мы охвачены бурею чувств, слов может быть либо слишком много (но все, так сказать, неподходящие), либо мы умолкаем перед стеною невыразимости (тогда молчание красноречивее слов). Об экспрессии молчания знал Древний Рим, и Цицерон в речи против Катилины говорил: cum tacent, clament, их молчание есть громкий крик. А Моисей, выведший древних иудеев из плена и подаривший им монотеизм, отличался, как мы знаем, косноязычием.
Не только йоги, буддисты или наши религиозные предки имели дело с многозначительным молчанием, оно – так сказать, в разбавленном виде – составляет наше повседневное окружение. Мы используем паузы между словами, предложениями, пробелы в письме, которые существенны для передачи смысла сообщений. В литературе, начиная самое позднее с Лоренса Стерна, в качестве выразительных средств используются пустые страницы, отсутствующие главы (русский читатель, наверное, вспомнит и пропущенную главу в "Евгении Онегине" Пушкина). Тот же Стерн вводит в тело романа рисунки – не как сопутствующие, побочные иллюстрации, а в роли конструктивного звена последовательно текущей речи. Столкновение семантически разнородного: слов и графических схем, – прием, призванный вызвать из небытия не только общую основу искусств (литературы и живописи), языка и зрительных образов, но и обнажить саму возможность сочленения принципиально, казалось бы, разделенного (именно в нуле, как мы помним, должны пересекаться оси с разной физической размерностью). В литературе ХХ в. – модернизме, авангарде – сходные приемы получают заметное распространение (такой факт, в частности, приходилось отмечать на материале творчества Леонида Аронзона, самого значительного, как мне кажется, петербургского поэта 1960-х гг. [309]).(8)
Та же роль, которую играет молчание в контексте слов, принадлежит недеяниюпо отношению к действиям. "В то время как Господь творит мир "деланием", Дао производит его "недеянием"", – пишет компаративист А.Уоттс (цит. по: [129, c. 72], первоисточник [448, p. 36]). "Недеяние", т.е. "нуль действия" ("наблюдающая пассивность"), – одна из важнейших категорий культуры Индии, Китая, Японии. Мария-Луиза фон Франц отмечает: "Восточный принцип, заключающийся в том, чтобы "ничего не делать", который принимается в качестве осознанной установки, приносит успех там, где энергичное сопротивление обычно приводит к поражению. Наше эго отстраняется и как бы пропадает" [349, c. 187].
Любопытно, что вместе с вниманием к древним культам интерес к молчанию, пустоте, недеянию возрастает и в современных социумах. В 1960-е гг. в условиях очередной технологической, социо-культурной революции (начало перехода к информационному обществу) эти идеи становятся достоянием западной поп-культуры. Процесс возрождения протекает не только в профанической сфере. Самые серьезные ученые – в России это, например, С.С.Хоружий – исследуют упоминавшийся исихазм, соответствующие представления инсталлируются в синергетику. Ю.А.Урманцев, сравнивая тектологию А.А.Богданова с общей теорией систем, обсуждая источники развития, обращает внимание на "всевозможные дву-, одно-, нольсторонние действия между элементами системы" [338, c. 22]. (В скобках отметим: тектология, изучающая принципы организации природных и социальных объектов, кодифицируется Ю.А.Урманцевым в качестве специфически "четвертой": "Тектология – междисциплинарная наука. Всего лишь четвертая в истории человечества после философии, математики и логики. Однако в отличие от последних тектология возникла тысячелетия спустя после их рождения. Она резко, качественно отличается и от философии, и от математики, и от логики – хотя бы по предмету, решаемым задачам, эмпирической природе" [там же, с. 15]). Древность и новейший период, духовно-религиозные комплексы и положения естественных наук, пребывающих на самом острие прогресса, в очередной раз встречаются, демонстрируя взаимное соответствие.
К древнеиндийской по генезису пустоте нам еще придется вернуться ( Приложение 2 ), поскольку иногда она понимается глубже, чем просто отсутствие, т.е. нуль, но логически интериоризируется, превращается в метод мышления: "пустотное мышление".
Представление о нуле нередко используется в классификациях. Так, в языках с артиклями оно привлекается для описания значимого отсутствия артикля: "В случаях, когда артикль отсутствует, говорят о "нулевой форме" артикля или о "нулевом артикле"" [422, S. 304]. Таким образом, полный набор: артикль отсутствующий, неопределенный, определенный, – может быть представлен рядом ( 0, 1, 2 ), чья работа, впрочем, практически не отличается от схемы ( 1, 2, 3 ), соответствующей, скажем, системе личных местоимений (первое, второе, третье лица).
Представление о нуле оказывается полезным при описании и других грамматических реалий. В разделе 1.3фигурировала система времен (прошлое – настоящее – будущее и их производные), опирающаяся на бинарное отношение предшествования или следования. Однако у глаголов существует и ранее неупоминавшаяся форма – основная, или инфинитивная. В отличие от остальных случаев, глагол здесь выступает в "ахронической" роли. Безотносительное ко времени действие служит своего рода фундаментом или "лоном" для тех же действий в "позитивных" временах (прошлом, настоящем или будущем). Подобный статус и выражается порядковым числом нуль: время в собственном виде еще (или уже) отсутствует, но его предварительное условие субстантивировано в самостоятельной форме.
В связи со сказанным, вероятно, имеет смысл возвратиться к системе общественно-экономических формаций марксистской теории. "История – борьба классов", и последовательность рабовладельческого строя, феодализма, капитализма предлагалась в качестве иллюстрации данного тезиса. Согласно доктрине, вслед за тремя перечисленными наступает четвертая формация, коммунизм, с одной стороны, демонтирующий антагонистические классы, а с другой – прекращающий ток истории, олицетворяющий гегелевский "конец истории", ее преодоление, выход за ее рамки. Однако наряду с тремя классическими и эсхатологической четвертой формацией упоминалась еще одна. Родовой, первобытно-общинный строй отличался бесклассовою структурой, был доисторическим, и таксономическое описание ряда предстает в следующем виде:
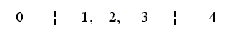
Родовая ступень отличалась мифологическим, т.е. "ахроническим", самосознанием, за свою бесклассовость она заслужила наименование "первобытного коммунизма". Нулевые и четвертые звенья, ограничивая историю снизу и сверху, вступали между собой в семантическую перекличку, оказывались в определенной мере подобными (там и там "коммунизм"). Прав также тот, кто заметит в предъявленной последовательности пяти элементов композицию из двух тринитарных схем: общество бесклассовое (тезис) – классовое (антитезис) – снова бесклассовое (синтезис) на первой ступени; классовое, т.е. историческое, в свою очередь, делится по критерию раньше-позже ( n = 2 ) на три этапа (рабовладение, феодализм, капитализм, М = 3), – однако для нас в данном случае более важен акцент на интимном родстве типологических нуля и четверки.
Нулевое решение, как ранее отмечалось, – универсально, т.е. сопровождает все другие решения. Родовые структуры, аналогично, всегда были и будут присущи любому обществу, любой формации. К ним относятся, скажем, семья, система родственных связей и даже мафиозные кланы. Система тесных личных контактов, по утверждениям антропологов, до сих пор воспроизводит структуру древней общины, деревни и включает в себя несколько десятков человек. Когда мы изучаем цивилизованные социумы, такие институты и неформальные общности обычно отодвигаются на второй план, выступая в качестве субструктур. Соответственно, упомянутая семантика "нуля", привязанная к первобытной стадии, играет роль относительно глухой коннотации, сопутствующей более развитым и эксплицированным структурам.
Исторически числу нуль не очень везло. Человек знал уже много разновидностей чисел, даже иррациональных, но нужды в нуле долгое время не испытывал. Его по существу не ведал ни Древний Египет, ни Вавилон, не востребовала и античность. Зачем считать то, чего нет? (2) Нуль – действительно странное понятие.
Если счет или измерение имеют дело с реально существующими предметами, то в данном случае число уже есть, а предмета – нет. Нуль в роли представления и обозначения начал-таки проклевываться в Вавилоне – для фиксации отсутствующего разряда при записи количеств. Запись и подсчеты велись на разграфленных табличках, и если в каком-то столбце ничего не было, то, чтобы не путаться и чтобы туда случайно ничего не попало, место занимали специальным значком [142].(3) Греки при вычислениях на абаке применяли особый круглый камешек с отверстием посередине. Таковы первые свидетельства о формировании категории значимого отсутствия.
Это были еще робкие попытки, нуль не обладал сколько-нибудь отчетливой самостоятельностью. На протяжении тысячелетий развития процедуры счета он сумел дотянуться лишь до статуса цифры, значка, но не настоящего числа, т.к. без сопровождения других цифр не означал ровно ничего. Часто на его месте по-прежнему оставляли пустое место.
Первыми, кто понял нуль именно как отдельное, реальное число, были, по-видимому, индийцы (по другим версиям, индийцы заимствовали его у китайцев [142, с. 178]). Вообще индийские математики отличались немалым своеобразием. С одной стороны, математики всех древних цивилизаций во многом повторяли друг друга, хотя и использовали разную символику, опирались на разные критерии убедительности. Вероятно, справедливо, когда историки говорят, что науку в современном смысле слова, в частности математическое доказательство, придумала ранняя античность и возводят последнее к риторическим спорам [128]. Публичные диспуты в Древней Греции были исключительно престижны, искусству обоснования своей точки зрения долго и старательно обучались (у софистов, философов). Победе в споре – перед лицом судей, сограждан, богов – придавалось и судьбоносное значение. Полагают, что Фалес (либо Пифагор) первым придумал способ "неотразимой" аргументации, финитное "что и требовалось доказать" до сих пор несет след той эпохи. Но словесное доказательство и убедительное знание – отнюдь не синонимы. У ученых может быть мотивация, весьма отличная от тщеславия греков. Иные из индийских математиков, например, вообще старались тратить поменьше слов. Вместо текста они помещали в рукописи рисунок для изображения, скажем, некоей геометрической истины и подписывали его: "Смотри!" [142]. Такая "голая" подпись сопровождает, среди прочих, чертеж, за которым стоит остроумнейшее, кратчайшее доказательство положения, называемого нами теоремой Пифагора. "Очевидность" в таких случаях становилась буквальной. Но сейчас речь об арифметике, а не геометрии.
Индийцы (по мнению других, китайцы) ввели понятие отрицательного числа, уже Брахмагупта (ок. 598 – 660) уверенно обращается с ними (отрицательное число трактовалось как коммерческий долг [307:I, с.76]). В I в. н.э. в Индии был введен особый знак для нуля, и последний приобретает абсолютное позиционнное значение [224, c. 59], т.е. становится "настоящим" числом. От индусов – через арабов – представление о нуле пришло в Европу, но было здесь окончательно легитимизировано, как полагают, только в ХVII в., вместе с Декартом! (Сам Декарт, впрочем, еще считал отрицательные число и нуль "ненастоящими", "ложными" числами [87, c. 136].)(4) В контексте же индийской культуры нуль выглядит совершенно органично. Во-первых, как только что отмечалось, оригинальны индийская математика в целом, и, скажем, К.Бойер констатирует: "Индусы были сильны в ассоциации и аналогии, в эстетическом и связанном с воображением чутье (flair), в то время как арабы были более практически мыслящие и приземленные в своем подходе к математике" [420, p. 252], цит. по: [152, c. 28]. Европейцы узнавали о достижениях индийцев от арабов, присоединяясь к упомянутым практицизму и приземленности. Во-вторых, более конкретно: индуизм и буддизм издавна были озабочены проблемой значимого отсутствия, у них оно является одним из онтологически, гносеологически центральных – наряду с пустотой, нирваной, избавлением от миража материального мира (из многих словесных обозначений нуля, например "небо", "дыра", в конечном счете больше всего у индийцев привилось название "шунья", пустое). Совершенно иная ориентация у нас, считающих своей духовной родиной Европу.
Европейцы действительно – особенно после Ренессанса – переняли от античности "предметность", "материальность" сознания. При такой установке прав Пифагор, называвший первым числом конкретную, явленную единицу, из которой ведут свое происхождение все остальные числа.(5) Похоже, некогда лишь элеаты подумывали об альтернативном пути (к ним мы еще обратимся), но генеалогия европейской мысли насажена на вектор, идущий от Пифагора через Платона, Аристотеля, средневековье к Декарту. Да, в условиях новой эпохи, новых задач европейцы заимствовали индийские понятия отрицательных чисел и нуля, но последнее и поныне осталось для нас во многом чужим!
Наличное представление о нуле по-прежнему несет тот след ментальной несамостоятельности, тем более нецентральности, которыми отличались древнезападные представления от Вавилона до Греции. Мы обращаемся с ним не как с "субстанциальным", а как со вспомогательным, "операционным" объектом.(6) Нуль может быть решением каких-то уравнений, но зачастую самым неинтересным ("бессодержательным", "тривиальным"). Нуль, кроме того, – точка, разделяющая положительную и отрицательную области на числовой оси. Подобная геометрическая нагрузка в европейском понимании нуля придает ему несколько "кургузый" оттенок.
Ко времени Декарта завершена алгебраизация числа, т.е. отрыв его от реальных предметов (Декарт, после Виета, – автор современной системы обозначений, в которой вместо чисел фигурируют отвлеченные буквы [118]). Нуль окончательно легитимизируется в Европе именно в эпоху Декарта, автора геометрического метода координат, и "геометрический" метод лежит у истоков европейского мировоззренческого рационализма, будучи основой философских трактатов и самого Декарта, и Спинозы. Отделение числа от действительного предмета (абстрагирование), т.е. во многом – выхолащивание его реального смысла, вкупе с геометризацией привело к замене этих предметов геометрическими образами: число есть точка. Нуль – такая же "точка", как и остальные числа. Геометрия предполагает сенсорную зримость, наглядность, и о каком же "настоящем"отсутствии тогда может идти речь? Европейцы с самого начала "материализовали" нуль. Кроме того, арифметика и геометрия вообще принципиально различны.
Геометрия – хотя и древняя, но гораздо более молодая отрасль знаний, чем арифметика. Геометрия возникла в период оседлого образа жизни человека, в эпоху земледелия, строительства домов и мелиоративных каналов. Истоков же арифметики мы просто не знаем. Однако известно, что древние египтяне, перед тем как осесть, уже обладали довольно развитыми навыками счета. В разделе 1.1упоминалось, что зачатками счета располагают самые первобытные племена и даже животные (кошка, ворона). Способен ли наш разум, не теряя себя, не утрачивая идентичности в ходе поиска, добраться до анализа столь глубинных основ?
Геометрии уже в эпоху Эвклида удалось придать последовательно стройный рациональный облик – как выражаются математики, аксиоматизировать ее: сформулировать несколько ясных и строгих положений, из которых дедуктивно выводятся все остальные истины. С арифметикой подобного, несмотря на множество попыток, проделать не удалось. Более того, как уже отмечалось, в 1931 г. К.Гедель – в теоремах о неполноте – доказал, что это в принципе невозможно: мы волей-неволей будем упираться в произвольные положения (если истинны они, то не менее истинны и диаметрально противоположные). Античность же не только строго различала арифметику и геометрию, но и традиционно наделяла первую более высоким гносеологическим статусом [152, c. 32]– именно из-за того, что геометрия слишком привязана к чувственной реальности.
Поместив нуль в геометрическую оправу, европейцы во многом выхолостили его реальное содержание, они до сих пор во многом воспринимают его как нечто "наглядное", "материальное", "позитивное". Весьма отдаленное отношение к логико-арифметическому нулю имеет, в частности, аутентичное для "геометризованных" дифференциального и интегрального исчислений понятие бесконечно малой величины, которая к нулю неограниченно стремится, но никогда не достигает. Европейцы добились высокой искусности в методах огибания проблемы, в избавлении от нулей и бесконечностей, например, при раскрытии так называемых неопределенностей. Индийцы же находят мужество не отводить глаза, и их интуиция нуля несравненно богаче.(7) Если прибегнуть к помощи психоаналитических трактовок, европейцы как бы инстинктивно защищаются от чуждой им ментальной сущности, а ведь ничто, как известно, не может быть сильнее предубеждения. Повторим, мы обращаемся с нулем операционно, он – не предмет нашей внутренней жизни. Чтобы избежать опасной инфекции, мы прикасаемся к нему посредством пинцета.
В некоторых моментах нуль все же занимает присущее ему особое, центральное положение. Так, начало координат обычно помещается в точке нуль. В нуле пересекаются или из него исходят все разнонаправленные координатные оси. Даже на графиках, когда по одной оси мы откладываем, например, силы, выраженные в килограммах, а по другой – расстояние в метрах, в нуле они пересекаются, т.е. утрачивается различие между различными физическими единицами измерений. Отсутствие килограммов и отсутствие метров изображается одной и той же точкой, понимается как одно и то же; между логически разнородными понятиями в нуле стираются границы. Но это все же геометрическийобраз, питающийся сенсорными источниками. С ноуменальным же отсутствием наши отношения не безоблачны.
Нет, я далек от намерений представлять европейцев в роли малосведущих варваров. И в нашей культуре есть следы чего-то подобного индийской дороге. Так, античность и позднее средневековье разрабатывают так называемый апофатическийметод в богословии. В отличие от катафатического, он предполагает определение сущности Божества посредством системы отрицаний, с помощью того, чем Божество неявляется, см., например, "Об отрицательной теологии" Николая Кузанского [230:I, с. 93-95]. Поскольку Господь сенсорно невоспринимаем и непознаваем в положительных, утвердительных категориях, постольку предлагается получить о Нем некоторое представление, прибегнув к последовательности отрицаний, перечислению отсутствующих в Нем качеств. Апофатические рассуждения некогда достигли весьма высокой степени изощренности, но все же не они определяют лицо современной культуры. Наука отдает явное предпочтение констатирующе-утвердительным пропозициям, на которых главным образом и зиждется. Впрочем, и в науке, даже в таком материалистическом разделе как физика, находится место для упомянутой "апофатичности".
В ХIХ в. в фундамент термодинамики был заложены три конструктивных "не": невозможно построить вечный двигатель (первое начало термодинамики), невозможен вечный двигатель второго рода (второе начало), невозможно достигнуть абсолютного нуля температур (теорема Нернста, называемая иногда третьим началом). Термодинамика, несмотря на свою стройность, аксиоматическое построение, – достаточно странная наука, остающаяся в значительной мере концептуально обособленной от прочих, "позитивных" физических отраслей. В отличие от механики, электромагнетизма и пр., она позволяет находить формы физических процессов, не вдаваясь в их конкретный механизм. Внимание к формам, принципы запрета перекочевали затем в релятивистскую механику (невозможно определить абсолютную скорость движения) и в квантовую (принцип неопределенности Гейзенберга, принцип Паули…).
Да, с ХIХ и начала ХХ вв. наши философы и ученые делают шаг в направлении к Востоку и средневековью, все больше понимают формообразующую роль запретов и "не". Собственно, если бы у европейцев вообще отсутствовала способность понимать подобные вещи, не состоялся бы и нынешний разговор – ведь автор также воспитан в европейском образе мысли. В таких случаях культурологи говорят о "встречном влиянии": в данном случае о движении европейцев навстречу индийцам.
Но все же протянутые руки друг друга еще не коснулись, дистанция между ориенталистским нулем и европейским остается значительной. Так, упомянутые начала термодинамики вскоре были переинтерпретированы в утвердительном, позитивном ключе (первое начало – закон сохранения энергии, второе – принцип неубывания энтропии"), под бок термодинамики почти тотчас подставили механическую, статистически-молекулярную подпорку. Хотя компетенция рационально-эмпирической наглядности ограничивается (особенно в квантовой теории, то работающей с ненаблюдаемыми величинами, скажем волновой функцией, то применяющей модель "черного ящика", то мыслящей посредством парадоксов или всерьез занявшейся недавней пустотой. т.е. вакуумом), однако для рассматриваемого здесь понятия значимого отсутствия до сих пор не построен прочный собственный дом. Главные акценты поставлены на "здравых", утвердительных тезисах. Так происходит не только в физике, но она удобна для иллюстраций, поскольку явным образом использует математику.
Европейское отношение к нулю, повторим, исполнено коллизий. В физике это находит отражение, в частности, в проблеме сингулярностей. Взаимодействует ли частица сама с собой? – Многое свидетельствует в пользу утвердительного ответа, но тут-то и возникают логические трудности. Беда в том, что расстояние от частицы до нее самой равно нулю, а все фундаментальные силы обратно пропорциональны расстоянию (взятому в определенной степени). Деление на нуль приводит к бесконечному значению сил, а допускать бесконечности в реальность в физике не принято. Не иначе – в релятивистской космологии. Если вселенная возникла в результате "большого взрыва", то каким было ее исходное состояние? Ученые очень близко подошли к "началу" во времени (до 10 -45 сек), но войти в него не удается – мешают те же бесконечности ("сингулярности"). Сходными проблемами физика буквально пестрит: это и расходимость волновой функции (появление бесконечностей, которые преодолеваются с помощью искусственных, не обоснованных приемов), и недостижимость нуля температур (для этого потребовалась бы бесконечная энергия). Некогда и дифференциальное исчисление, как упоминалось, благоразумно использовало величины неограниченно малые, но все же отличные от нуля. Нет, что-то не в порядке в датском королевстве: нуля мы тщательно избегаем, а как только сталкиваемся с ним вплотную, немедленно получаем интеллектуальную встряску. По-видимому, стоит вывести список примеров за границы физики, чтобы найти общий язык и с гуманитариями.
Молчание– взятое не как бессмысленное состояние бездумной и бессловесной твари, а в качестве значимого, семантически насыщенного акта человека – служит одной из важнейших категорий религиозной культуры. Так обстоит на Востоке, особенно в ареале, подвергшемся влиянию буддизма: в Китае, Корее, Японии (в частности, в дзэн-буддизме). Так раньше обстояло и на христианском Западе. Обет молчания принимался добровольно или накладывался священником как во искупление грехов, так и для накопления духовных сил в преддверии совершения чего-то важного, требующего мобилизации всех психических потенций. На Иоанна Златоуста, с молодости демонстрировавшего незаурядные поэтические способности, в монастыре был наложен запрет на их применение, вообще на употребление слов. Спустя несколько лет его внутренний дар настолько окреп, что запрет был снят, и Иоанн стал тем Златоустом, которого мы помним без малого два тысячелетия. Во имя молчания люди затворялись в кельях, уходили в пустыни. Для обитателей Афонского монастыря, цитадели исихазма, молчание было одним из важнейших духовных упражнений. Об укорененности языка в молчании, о вслушивании в тишину Истины говорил Аврелий Августин. Задачей христианина является понять "вечное Слово, пребывающее в молчании" (Исп., ХI, 6, 8), что возможно лишь интуитивно. "Внутреннее слово, рождающееся из такого вслушивания, соотнесено не с одной-двумя интеллигибельными формами, но со всеми, весь мир схватывается в таком слове целиком и сразу, без перехода от одного к другому" (О Троице, ХV, 16, 26, цит. по: [226, c. 122]).
Такое молчание – значимое отсутствие слов, "нуль" слов, логически предшествующий речи и ее завершающий. Безмолвие – спутник величественного (например, высоких звезд) и ужасного (когда мы утрачиваем способность произнести хоть слово). Оно отнюдь не бессодержательно и не тривиально: по крайней мере, когда мы охвачены бурею чувств, слов может быть либо слишком много (но все, так сказать, неподходящие), либо мы умолкаем перед стеною невыразимости (тогда молчание красноречивее слов). Об экспрессии молчания знал Древний Рим, и Цицерон в речи против Катилины говорил: cum tacent, clament, их молчание есть громкий крик. А Моисей, выведший древних иудеев из плена и подаривший им монотеизм, отличался, как мы знаем, косноязычием.
Не только йоги, буддисты или наши религиозные предки имели дело с многозначительным молчанием, оно – так сказать, в разбавленном виде – составляет наше повседневное окружение. Мы используем паузы между словами, предложениями, пробелы в письме, которые существенны для передачи смысла сообщений. В литературе, начиная самое позднее с Лоренса Стерна, в качестве выразительных средств используются пустые страницы, отсутствующие главы (русский читатель, наверное, вспомнит и пропущенную главу в "Евгении Онегине" Пушкина). Тот же Стерн вводит в тело романа рисунки – не как сопутствующие, побочные иллюстрации, а в роли конструктивного звена последовательно текущей речи. Столкновение семантически разнородного: слов и графических схем, – прием, призванный вызвать из небытия не только общую основу искусств (литературы и живописи), языка и зрительных образов, но и обнажить саму возможность сочленения принципиально, казалось бы, разделенного (именно в нуле, как мы помним, должны пересекаться оси с разной физической размерностью). В литературе ХХ в. – модернизме, авангарде – сходные приемы получают заметное распространение (такой факт, в частности, приходилось отмечать на материале творчества Леонида Аронзона, самого значительного, как мне кажется, петербургского поэта 1960-х гг. [309]).(8)
Та же роль, которую играет молчание в контексте слов, принадлежит недеяниюпо отношению к действиям. "В то время как Господь творит мир "деланием", Дао производит его "недеянием"", – пишет компаративист А.Уоттс (цит. по: [129, c. 72], первоисточник [448, p. 36]). "Недеяние", т.е. "нуль действия" ("наблюдающая пассивность"), – одна из важнейших категорий культуры Индии, Китая, Японии. Мария-Луиза фон Франц отмечает: "Восточный принцип, заключающийся в том, чтобы "ничего не делать", который принимается в качестве осознанной установки, приносит успех там, где энергичное сопротивление обычно приводит к поражению. Наше эго отстраняется и как бы пропадает" [349, c. 187].
Любопытно, что вместе с вниманием к древним культам интерес к молчанию, пустоте, недеянию возрастает и в современных социумах. В 1960-е гг. в условиях очередной технологической, социо-культурной революции (начало перехода к информационному обществу) эти идеи становятся достоянием западной поп-культуры. Процесс возрождения протекает не только в профанической сфере. Самые серьезные ученые – в России это, например, С.С.Хоружий – исследуют упоминавшийся исихазм, соответствующие представления инсталлируются в синергетику. Ю.А.Урманцев, сравнивая тектологию А.А.Богданова с общей теорией систем, обсуждая источники развития, обращает внимание на "всевозможные дву-, одно-, нольсторонние действия между элементами системы" [338, c. 22]. (В скобках отметим: тектология, изучающая принципы организации природных и социальных объектов, кодифицируется Ю.А.Урманцевым в качестве специфически "четвертой": "Тектология – междисциплинарная наука. Всего лишь четвертая в истории человечества после философии, математики и логики. Однако в отличие от последних тектология возникла тысячелетия спустя после их рождения. Она резко, качественно отличается и от философии, и от математики, и от логики – хотя бы по предмету, решаемым задачам, эмпирической природе" [там же, с. 15]). Древность и новейший период, духовно-религиозные комплексы и положения естественных наук, пребывающих на самом острие прогресса, в очередной раз встречаются, демонстрируя взаимное соответствие.
К древнеиндийской по генезису пустоте нам еще придется вернуться ( Приложение 2 ), поскольку иногда она понимается глубже, чем просто отсутствие, т.е. нуль, но логически интериоризируется, превращается в метод мышления: "пустотное мышление".
Представление о нуле нередко используется в классификациях. Так, в языках с артиклями оно привлекается для описания значимого отсутствия артикля: "В случаях, когда артикль отсутствует, говорят о "нулевой форме" артикля или о "нулевом артикле"" [422, S. 304]. Таким образом, полный набор: артикль отсутствующий, неопределенный, определенный, – может быть представлен рядом ( 0, 1, 2 ), чья работа, впрочем, практически не отличается от схемы ( 1, 2, 3 ), соответствующей, скажем, системе личных местоимений (первое, второе, третье лица).
Представление о нуле оказывается полезным при описании и других грамматических реалий. В разделе 1.3фигурировала система времен (прошлое – настоящее – будущее и их производные), опирающаяся на бинарное отношение предшествования или следования. Однако у глаголов существует и ранее неупоминавшаяся форма – основная, или инфинитивная. В отличие от остальных случаев, глагол здесь выступает в "ахронической" роли. Безотносительное ко времени действие служит своего рода фундаментом или "лоном" для тех же действий в "позитивных" временах (прошлом, настоящем или будущем). Подобный статус и выражается порядковым числом нуль: время в собственном виде еще (или уже) отсутствует, но его предварительное условие субстантивировано в самостоятельной форме.
В связи со сказанным, вероятно, имеет смысл возвратиться к системе общественно-экономических формаций марксистской теории. "История – борьба классов", и последовательность рабовладельческого строя, феодализма, капитализма предлагалась в качестве иллюстрации данного тезиса. Согласно доктрине, вслед за тремя перечисленными наступает четвертая формация, коммунизм, с одной стороны, демонтирующий антагонистические классы, а с другой – прекращающий ток истории, олицетворяющий гегелевский "конец истории", ее преодоление, выход за ее рамки. Однако наряду с тремя классическими и эсхатологической четвертой формацией упоминалась еще одна. Родовой, первобытно-общинный строй отличался бесклассовою структурой, был доисторическим, и таксономическое описание ряда предстает в следующем виде:
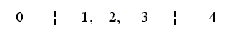
Рис. 1-18
Родовая ступень отличалась мифологическим, т.е. "ахроническим", самосознанием, за свою бесклассовость она заслужила наименование "первобытного коммунизма". Нулевые и четвертые звенья, ограничивая историю снизу и сверху, вступали между собой в семантическую перекличку, оказывались в определенной мере подобными (там и там "коммунизм"). Прав также тот, кто заметит в предъявленной последовательности пяти элементов композицию из двух тринитарных схем: общество бесклассовое (тезис) – классовое (антитезис) – снова бесклассовое (синтезис) на первой ступени; классовое, т.е. историческое, в свою очередь, делится по критерию раньше-позже ( n = 2 ) на три этапа (рабовладение, феодализм, капитализм, М = 3), – однако для нас в данном случае более важен акцент на интимном родстве типологических нуля и четверки.
Нулевое решение, как ранее отмечалось, – универсально, т.е. сопровождает все другие решения. Родовые структуры, аналогично, всегда были и будут присущи любому обществу, любой формации. К ним относятся, скажем, семья, система родственных связей и даже мафиозные кланы. Система тесных личных контактов, по утверждениям антропологов, до сих пор воспроизводит структуру древней общины, деревни и включает в себя несколько десятков человек. Когда мы изучаем цивилизованные социумы, такие институты и неформальные общности обычно отодвигаются на второй план, выступая в качестве субструктур. Соответственно, упомянутая семантика "нуля", привязанная к первобытной стадии, играет роль относительно глухой коннотации, сопутствующей более развитым и эксплицированным структурам.
