Страница:
- << Первая
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- Следующая »
- Последняя >>
По сути та же конструкция, что и в марксизме, свойственна и затрагивавшейся в разделе 1.4.1 совокупности главных персонажей "Братьев Карамазовых" Достоевского. Помимо трех законных сыновей (Дмитрия, Ивана, Алексея) и одного незаконного (Смердякова), к семье и совокупности главных героев может быть отнесен и их отец, Федор Карамазов. Фактор отца – порождающее, логически предшествующее или "установочное" начало; подобная "расширенная" система описывается той же схемой рис. 1-18. По критерию имморализма и "подлости" нулевой и четвертый элементы и в настоящем случае сопряжены. Таким образом, Достоевский вступает в полемическую перекличку не только с "Тремя мушкетерами" А.Дюма, но и с семантической подноготной коммунистического учения, отлично известного ему начиная с кружка Петрашевского и не упускавшегося из вида уже никогда. Дезавуировано не только типологически четвертое, но и нулевое звено, что соответствует неприятию автором не только утопически-социалистических, но и еще более распространенных просветительских мотивов – специфического возвышения первобытного состояния как "естественного". Руссоизм, заметим, был вполне усвоен марксизмом: доисторический родовой строй лишен угнетения, его люди, согласно Ф.Энгельсу
[387], непринужденны, преисполнены достоинства, независимы и горды. Достоевскому, напротив, чужда и тень идеализации исходно-"естественного" состояния – будь то детство, природа, патриархальность. В его творчестве непредставимы произведения вроде "Детских годов Багрова-внука" С.Аксакова или "Детства" Л.Толстого – с розовой идиллией детства, деревни. Детство в полной мере причастно страданию, боли, смерти, вообще нулевые звенья – "проклятые", отталкивающ и ведомый природными инстинктами Федор Карамазов.(9) Да, семантически нулевой элемент есть порождающая почва, основа, предыстория всех последующих, но автором он осужден, разоблачает сам себя. Если в марксистской теории прекрасный идеал коммунизма воскрешает невинно-блаженное родовое общество, то у Достоевского гадкая четвертая фигура подло убивает почти столь же отвратительную нулевую ("одна гадина убивает другую гадину"). Указанный ментальный опыт стоит учесть при инвентаризации смыслов нулевых позиций.
Логически (но, разумеется, не оценочно) сходная ситуация наблюдается и в системе грамматических лиц некоторых языков. В немецком, наряду с классической тройкой личных местоимений: ich, du, (er, sie, es) [русский эквивалент: я, ты, (он, она, оно)], см. раздел 1.3, – присутствует и неопределенно-личноеместоимение man. Как и другие, оно выражает наличие обобщенно-личностного фактора, однако, в отличие от остальных, данный фактор лишен характерной определенности (о чем свидетельствует и этимология: местоимение man происходит от существительного Mann, исходно означающего "некий человек" [422, S. 583]). Подобный статус – личное местоимение уже есть, лицо же еще не оформлено – роднит названное местоимение с функциональной позицией первобытно-общинного строя в ряду общественно-экономических формаций марксизма, и следовательно, его тип описывается с помощью числа нуль. Однако приведенная коннотация – не единственная.
ХХ век выносит на первый план и другое имплицитное значение. Безликость, понятая как разновидность лица, позволяет использовать man для выражения процесса отчуждения (см. еще Гегель). Хайдеггерово Man (das Man) – на сей раз с большой буквы – используется в качестве имени той дегуманизированной, подавляющей индивида сущности, которая обретает самостоятельное бытие в новейший период и воплощает абстракцию человеческой общественности.(10) В роли специфически модернистского феномена, в роли не предпосылки, а конца всех лиц, Man явным образом претендует на четвертую типологическую позицию, и "расширенная" система личных местоимений, вернее сопряженных с ними понятий, приобретает следующий вид:
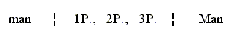
В данном случае нет нужды специально доказывать сопряженность нулевого и четвертого звеньев, как и того, что четвертый элемент аксиологически негативен (ср. Достоевский). В тех языках, где самостоятельное неопределенно-личное местоимение отсутствует, его функцию в сообщениях в состоянии брать на себя другие лексические единицы: в английском это существительное people, местоимение в третьем лице во множественном числе they или универсальный эрзац существительных и имен one, по-русски в качестве аналога Man могли бы выступать "Это", "Оно", хотя при переводах хайдеггеровских текстов обычно сохраняют оригинальное наименование Man.
Выше упоминалась инфинитивная форма глаголов. В качестве вневременной, она аналогично – как логически предшествует трем основным временам (прошлому, настоящему, будущему), так и следует вслед за ними. Согласно богословским прозрениям, Слово, или Логос, существует от века, предваряя сам акт Творения (см. "В начале было Слово" Евангелия от Иоанна или более подробные рассуждения бл. Августина). Второе Пришествие, установление Царства Божьего сопряжено с прекращением тока времени: "времени уже не будет" ап. Павла. Грамматическая герменевтика ассоциируется с теологической, и инфинитив стяжает функции не только типологически нулевого, но и четвертого звена.
Подобная схема воспроизводится с завидным постоянством. Наряду с упомянутыми (местоимение man, инфинитив, пары "первобытный коммунизм – посткапиталистический", "Федор Карамазов – Смердяков"), она реализуется в партийной идеологии ХХ в.: и большевизм, и национал-социализм в роли "четвертых" (после либерализма, консерватизма, социализма ХIХ в.) в условиях новейшей технологической эры стремятся возродить заветное праисторическое состояние, будь то "первобытный коммунизм" или священный рейх. Принятый в этих случаях оксюморон "цивилизованное варварство" объединяет два предельных состояния: конечное и начальное. Читатель, возможно, обратит внимание на известную стилистическую брутальность, порой сопутствующую основной форме глагола: мы используем ее в функции повелительного наклонения ("молчать!", "лежать!"), – тот же оттенок присущ и комплементарным политическим феноменам.
Чтобы быть более точными, рассмотрим систему основных идеологических типов более подробно. Вслед за классической тройкой ХIХ в. либерализм – консерватизм – радикализм (социализм) на политическую арену ХХ выступили типологически "четвертые" – большевизм, нацизм (фашизм), фундаментализм ,(11) гальванизирующие, соответственно, классовую, национальную и религиозную стихию. Но системе массовых партий как таковой хронологически предшествовала ситуация абсолютизма (количество партий и порядковый номер здесь М = 0):
допартийное состояние ¦ либералы, консерваторы, радикалы ¦
большевики,
нацисты (фашисты),
фундаменталисты
Общеизвестно, что в странах, где к власти приходили "четвертые", расцветал вождизм, который хотя и не полностью совпадает с монархией, но воспроизводит ряд ее черт; о соответствующих партиях говорят, что это уже и не партии вовсе, а нечто другое (т.е. "настоящие" партии в тоталитарных странах отсутствовали). Нулевое и четвертое звенья семантически перекликаются. Применительно ко всем примерам: при "расширении" сознания, при встрече с нулевым и четвертым элементами человек нередко переживает фрустрацию.
Нуль и бесконечность, семантику решений М = 0 и М = ? порой трудно оторвать друг от друга. Об этом, собственно, шла уже речь. Разбиение на крайне малые составные части ("дифференциалы") приводит к необъятно-огромному количеству таких частей, если берется нечто конечное, обыкновенное по размерам. Любой отрезок числовой оси состоит из несчетного множества точек. "Сингулярности" в физике – это сопряженные бесконечности и нули. Медитативное молчание, упражнения на представление пустоты были призваны на Востоке свидетельствовать о позитивно не существующих сущностях, обладающих, однако, непостижимо-колоссальным, всеохватным значением.(12) Мистический ужас, некогда вызывавшийся бесконечностью, нередко корреспондирует с переживанием отталкивающей "нечистоты" и нулевых форм. Приближение и к тому, и к другому преисполнено опасностями и требует незаурядного мужества. Мыслители Ренессанса зачастую апеллировали к образу круга, издавна служившему наглядной картиной идеи целостности, полноты, самодостаточности; при этом заключенных в круге направлений – бесконечное количество, однако нет ни одного выделенногонаправления (М = 0). Подобные иллюстрации, конечно, не Бог весть как убедительны, но в свое время они пользовались успехом. В нашем контексте нули и бесконечности выступают в качестве целостных и простых, поскольку мы вообще рассматриваем только такие системы. Вероятно, они могли бы играть роль само собой разумеющегося, если бы мы были вскормлены индийской или японскою мамой или воспитаны в подходящем старом христианском монастыре.
"Странные" решения М = 0, М = ? сопровождают все остальные, "позитивные" решения М = n + 1, в частности М = 3, М = 4. Какой бы ни была конструктивная кратность отношений n, варианты М = 0, М = ? оставляют свой логический след в виде своеобразной универсальной коннотации (в известном смысле здесь преодолеваются границы и снимается противоположность между различными "позитивными" парадигмами М, например между М = 3 и М = 4). Если система организационно определена, то на переднем семантическом плане фигурируют "обычные" структуры – те же М = 3, М = 4, – тогда как бесконечность и нуль остаются в "подтексте". Если же выбор определенной величины n по каким-то причинам не совершен, то не складываются и соответствующие им структуры М = n + 1, – в этом случае бесконечности и нули оказываются единственными репрезентантами смысла. Такая ситуация в известной степени характерна, например, для переходныхэтапов, в процессе смены типа мышления, отказа социальной или когнитивной системы от одной величины n в пользу другой. Переход, таким образом, часто реализуется через период неопределенности, когда отсутствует любая из "позитивных" структур М = n + 1 и, следовательно, обнажается стихия М = 0, М = ?. Подобное явление хорошо знакомо по социально-политическим революциям, коренным образом изменяющим структуру общества и при этом производящим впечатление исчезновения всего привычного, еще вчера казавшегося незыблемым и наступившего въяве хаоса. Сходные исчезновение и хаос присущи и культурным революциям – прежняя концептуальная опора рухнула, новая еще не возникла, и внутреннему зрению современников предстает разверзнутая бездна, либо вызывающая панику, либо побуждающая обратиться к услугам произвольного воображения со слабыми логическими корнями. В религиозных видениях переход от одного мира к другому сопровождается не только апокалиптической катастрофой, но и своеобразным "обнулением" прежней реальности: небеса (в современной транскрипции: пространство) сворачиваются как свиток (Откр. 6, 11) и "времени уже не будет". Сказанное, возможно, и не нуждается в специальных иллюстрациях, поскольку свежа память о свойствах перехода к структурам М = 4 в обществе и культуре (см. раздел 1.4). Можно было бы сказать, что решения М = 0, М = ? исполняют роль своеобразного "лифта" от одной позитивной величины М к другой, если бы психологически процесс трансформации не воспринимался вначале как ничем не ограниченное падение и только затем как подъем к новому порядку.
После бихевиоризма, исследований по физиологии мышления трудно удержаться от искушения подойти к тем же решениям с точки зрения нашего организма, физического "переживания истины". В свое время "гипотеза о роли тела в познавательном процессе, высказанная Бергсоном в "Материи и памяти", произвела большое впечатление на Лосского, который затем опирался на нее при обосновании своей концепции интуитивизма" [55, c. 157]. С помощью каких ощущений нам удается прикоснуться к парадигмам М = 0, М = ? ? Если восприятие тройственности подпирают "трехмерный" вестибюлярный аппарат, бинокулярное зрение, стереоскопический слух, если кватерниорности соответствуют две пары оппозиций человеческой морфологии: правая-левая, передняя-задняя стороны, – то что в состоянии сыграть роль поддержки вариантов М = 0 и М = ? ?
Когда говорят об организованных ощущениях, обычно апеллируют к внешнему опыту. Но наряду с ним существует и опыт внутренний. Нет, здесь не имеется в виду все богатство последнего, человеческая способность имагинации, интроспекции, возможность мысленного манипулирования образами и категориями. Хотелось бы назвать нечто гораздо более тривиальное – своеобразное "первобытное" чувство. Что стоит за упоминаниями понимания сердцем, а не умом? И почему именно сердцем?
Роль этого органа человек определил в результате длительного самонаблюдения; на "мышлении сердцем" настаивали, в частности, исихасты, Григорий Палама, разрабатывавшие соответствующие специальные методы, а Игнатий Брянчанинов призывал: "Постараемся привести сердце в безмолвие, в этом сущность монашеского подвига" [135, c. 10-11]. На Востоке сердце считалось самостоятельным (шестым) органом чувств, "вместилищем мысли" (так говорил, в частности, Бай Юй Цзин). Анатомически сердце – мышечный мешок, состоящий из особых, но, упрощая, гладкихмышц. В топологическом плане гладкие мышцы – почти то же, что круг или сфера(13): направления для сокращения и растяжения в них бесчисленны и выделенного (в отличие от волокнистых и поперечно-полосатых) – ни одного. Я не делаю упор исключительно на сердечную мышцу, хотя ритм ее напряжений и пауз, похоже, во многом связан с мышлением. Процесс мышления всегда, по заверениям физиологов, сопровождается неосознанной мышечной деятельностью, и сейчас речь идет о гладких мышцах. По своей топологии они – самые древние, наследники стадии, когда еще отсутствовала специализация мышц. О том, что наше бессознательное хранит память о всем эволюционном развитии, включая уровень "амебы", неоднократно напоминал К.Юнг. Что является предпосылкой этого в физиологическом плане? Не хочу продолжать незрелое упражнение – что делать, если о встречах анатомов, топологов, психологов, культурологов я не слышал? – достаточно только упомянутой особенности данной разновидности мышц: М = 0 и М = ?. Что имеется в виду, когда говорят о "нутряном" понимании, о понимании "всем существом"? Не будем вдаваться в подробности – той же топологической характеристикой М = 0 и М = ? отличается не только сердце, но и легкие, желудок(14) – ограничимся для примера только сердцем.
Слова – сколь бы стройно они ни были выстроены – сами по себе не способны достигнуть другого человека. В том, наверное, приходилось не раз убеждаться при объяснении задачки ли, теоремы двоечнику: единственной реакцией на все объяснения остается бессмысленное хлопание глазами, и ничто не в силах пробить брешь в железобетонной стене. Мы сами во многом такие же двоечники, когда держим свое сердце наглухо затворенным. Без участия сердца, без его предрасположенности вообще ничто невозможно понять. Напротив, даже для уяснения, что дважды два равно четырем, необходимо вспомоществование той интуиции, того амбивалентного ("мучительно-сладостного") "утробного чувства", которые ответственны и за наипронзительные озарения. Самое первое, еще неотчетливое и приблизительное, и самое последнее, окончательное понимание формируют эсхатологический акт, именуемый актом мышления.
Нет, я ни в коем случае не предлагаю эти сырые тезисы на роль объясненияструктур М = 0 и М = ?. Так же, как в примере с трехмерностью пространства, наши органы чувств – лишь скудная предпосылка, намек на действительное положение дел. В равной мере это относится и к названной разновидности "внутреннего чувства". Но коль речь зашла об анатомии, еще один пример.
Рассмотрим плод в материнской утробе. В пренатальный период младенец не только пребывает внутри, в чреве матки, но и соединен с материнским организмом пуповиной. Схема, грубо говоря, такова:
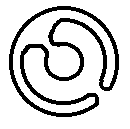
Что внутри и что снаружи в рамках такого строения? Плод пребывает в утробе, т.е. внешним, "объемлющим" является мать. Но через посредство пуповины плод включает в себя то, что его окружает, и мать тогда оказывается "внутренним". Внутреннее и внешнее "перепутаны", слабо отличимы друг от друга.
В геометрии образцом ограниченного объекта, в котором внутреннее и внешнее совпадают, служит точка, т.е. нульмерныйобъект. Если бы перед геометром поставили задачу построить трехмерное тело, логически более всего напоминающее точку, он нашел бы строение рис. 1-20 одним из самых простых и удачных.(15)
Процесс зарождения и созревания новой жизни необыкновенен и в хронологическом плане. Биогенетический закон Эрнста Геккеля гласит: во внешних рамках в девять месяцев плод успевает преодолеть практически все ступени земной эволюции длиной в миллиарды лет (онтогенез повторяет филогенез). Большое умещается в малом; нечто похожее – но уже в интеллектуально-психологическом аспекте – продолжается и в детские годы: в течение трех первых лет мы накапливаем информацию, на порядки превосходящую по объему все, что удается вместить за десятилетия, проведенные в библиотечных залах.
Создатель новой философской антропологии А.Гелен указывает на сходные формообразующие черты в человеке вообще: "Скрещение или смешение того, что приходит изнутри и снаружи, заходит у человека неограниченно глубоко и, пожалуй, до самого ядра его сущности" [424, S. 615], – и в связи с этим напоминает о концепции Портмана о "внематочной весне" (extra-uterine Fruehjahr). Согласно Портману, новорожденный младенец представляет собой нормализованную разновидность преждевременно рожденного ("недоноска"), поскольку на протяжении года после рождения не располагает ни сообразными движениями, ни средствами коммуникации (языком). Это означает, что процессы созревания и роста, которые должны были бы по-прежнему происходить в материнском теле, отныне открыты влиянию бесчисленных источников внешнего окружения. Гелен распространяет эту модель и на взрослых, определяя человека как "эмбриональное" существо [ibid, S. 616], вбирающее в себя реалии общественной жизни. К такому представлению непосредственно примыкает дефиниция человека как "половозрелого зародыша обезьяны", предлагаемая некоторыми биологами. Если наука современного Запада и не воскрешает непосредственно восточную парадигму сопряженной пары М = 0, М = ?, то ряд ее черт все же воспроизводится.
Процедура сходного построения была отлично известна средневековому Западу. Религиозная практика полного препоручения человеком своей воли воле Господа – при том, что Его чаемые царство и образ "внутри нас" – конституируют изоморфную ситуацию: то, что внутри, оказывается всеобъемлющим внешним, а всеохватывающее внеположное (Бог на небесах) интериоризируется, будучи принято сердцем. При этом к европейской специфике относится то, что подобная встречная инверсия осуществлялась в первую очередь применительно к волевымкачествам человека, а не столько к акцентированным сознательным или чувственным, как на буддийском Востоке. Как бы там ни было, данные начала (которым соответствует описание М = 0, М = ?), доставляющие столько неудобств нашему рассудку, являются чем-то совершенно простым и обычным, хотя их постижение, возможно, легче дается детскому или мифологическому мышлению.
Образец младенца в утробе матери по существу взят в качестве отправного в индийской, в частности буддийской, гносеологии. Человеку не дано знать, что на самом деле происходит снаружи, в окружающем мире, ибо он узнает о нем сквозь пелену своих субъективных чувств и мнений; внешний мир есть "майя", т.е. призрак. То же справедливо применительно к внутреннему миру, т.к. мы познаем себя с помощью категорий, заимствованных из внешнего мира, из мнений других людей. Однако для буддистов это не основание для агностицизма. Есть еще один вариант постижения истины, а именно: не направлять свою мысль ни наружу, ни внутрь, а держать ее на стыке того и другого, там, где они совпадают и где исчезает иллюзорная предметность. Открытые таким образом истины автоматически верны, и знание полностью адекватно реальности. Состояние нирваны, или освобождения от суеверий мира сего, от наваждений, в отличие от суждений о нем европейцев ХIХ в., не равноценно самоистреблению, а напротив, синонимично открытию бытия и знания в их предельной полноте. Существа, достигшие его, суть будды, или боги (бессмысленно спрашивать, сколько их: любое количество нулей в сумме дает тот же нуль, и они не поддаются позитивному пересчету). На этом пути достигается подлинное всемогущество, и, скажем, бодхисатвы, пребывающие в нирване, могут, не утрачивая идентичности, одновременно появляться в разных точках пространства и времени, ибо последние не более, чем наваждение, значимое лишь для "непросветленных". В этом случае не существует также отрыва теоретического знания от практического (т.е. умения), пропозиция "знание – сила" выступает в гораздо более буквальном смысле, чем у Ф.Бэкона, а гносеология в конечном счете оказывается тождественной онтологии. Неактивность здесь совпадает с активностью, способ мышления Индии существенно задействовал интуицию нуля (в отличие от европейцев, отдающих предпочтение предметной единице). Дзэн-буддизм, сходным образом, отказывается как от имманентизма, так и трансцендентализма в отдельности в пользу их совместности. Шуньята, или пустота, не имеет противоположностей [325, c. 231], снимается и противоположность объекта с субъектом [там же, с. 232]. Современный комментатор так говорит о татхате, т.е. о неназванных, неконцептуализированных вещах: "Татхата там, где Бог был еще в состоянии полного самоудовлетворения, когда Он еще не представил себе идею или не проявил еще волю для творения, когда Он еще не произнес Свое "Да будет свет"" [там же, c. 239].
С 1960-х гг. на Западе наблюдается всплеск интереса не только к восточным и архаическим учениям, но и к психоделическим опытам. Откликаясь на социальный заказ, Станислав Гроф предпринимает исследование человеческого бессознательного с помощью ЛСД. При этом осуществляется открытие области перинатальных переживаний (т.е. соответствующих пребыванию в утробе матери, рождению, первым месяцам жизни). Внутриутробному состоянию отвечают полный блаженный покой, ощущение слияния с матерью и космического единства (так называемое океаническое сознание). Здесь преодолевается дихотомия субъект-объект, испытываются сильные положительные эмоции: мир, спокойствие, радость, безмятежность, – возникают особые чувства сокровенности, чистого бытия, трансцендирования времени и пространства [109, c. 104]. Подобный опыт невыразим, и в передаче его природы и значения ошибочны любые лингвистические символы и структуры языка. Он также преисполнен парадоксами и нарушениями "здравой" логики. Я и мир – существуют и не существуют одновременно, формы материальных объектов пусты, а пустота обладает формой. Вселенная есть "тайна, которую надо пережить, а не загадка, которую надо разгадать". Один из выводов гласит: "Стремление снова восстановить состояние тотального совершенства, однажды пережитого в материнской утробе, оказывается первичной мотивирующей силой каждого человеческого существа" [там же, с. 112]. Гроф обнаруживает явные параллели с положениями индийской культуры и использует для описания необычного для современных западных людей опыта аутентичные для Индии категории. Кто скажет после этого, что на полях, так или иначе сопряженных с нулем, не выстроен целый мир?
С семантикой нуля (и ассоциированной с ним бесконечности, хаоса) перекликаются и другие культурные явления. На протяжении тысячелетий в различных местах земли считалось необходимым периодическое проведение обрядов и празденств, призванных "обновить" окружающий мир, дать ему новое начало, для чего предварительно его нужно провести через его собственную противоположность. У многих древних племен и народов существовала традиция раз в год отказываться от строго регламентированных общественных отношений (снятие табу на ненормированные брачные связи, отмена охотничьих запретов и т.д.). Оргиастические акты служили восстановлению "постаревшей" жизни и повышению плодородия. У язычников-славян такое "освобождение" приходилось на праздник Ивана Купала, в Древнем Риме – на сатурналии, в средневековой Европе – на карнавалы. Европейская "карнавальность" подвергнута исследованию в одной из самых глубоких работ М.М.Бахтина [41]. В ходе праздненств исчезали границы между вещами: между сословиями, полами, людьми и животными (переодевание, изменение поведения), – практиковалась инверсия, т.е. превращение в противоположность: одежда выворачивалась наизнанку, уродливый нищий избирался царем карнавала и ему оказывались царские почести (ср. исчезновение границ между разнородным и тождественность противоположного и в нуле). Абсурдное действо обретало тотальный, космический смысл ("пир на весь мир") и трактовалось как возвращение "золотого века" (не из мифологемы четырех веков, а ближе к варианту Гесиода: в доисторическом дозевсовом "золотом веке" у власти был Кронос, который и основал ахроническое царство справедливости и блаженства). Временн? я ограниченность карнавала, ореол "исключительности" побудили М.М.Бахтина отнести его всего лишь к рекреативной культуре, но таков же характер семантики и нуля, в обычных условиях пребывающей за кулисами жизни, в тени легальных нормативных структур и открыто выступающей на арену только в особые моменты.
Логически (но, разумеется, не оценочно) сходная ситуация наблюдается и в системе грамматических лиц некоторых языков. В немецком, наряду с классической тройкой личных местоимений: ich, du, (er, sie, es) [русский эквивалент: я, ты, (он, она, оно)], см. раздел 1.3, – присутствует и неопределенно-личноеместоимение man. Как и другие, оно выражает наличие обобщенно-личностного фактора, однако, в отличие от остальных, данный фактор лишен характерной определенности (о чем свидетельствует и этимология: местоимение man происходит от существительного Mann, исходно означающего "некий человек" [422, S. 583]). Подобный статус – личное местоимение уже есть, лицо же еще не оформлено – роднит названное местоимение с функциональной позицией первобытно-общинного строя в ряду общественно-экономических формаций марксизма, и следовательно, его тип описывается с помощью числа нуль. Однако приведенная коннотация – не единственная.
ХХ век выносит на первый план и другое имплицитное значение. Безликость, понятая как разновидность лица, позволяет использовать man для выражения процесса отчуждения (см. еще Гегель). Хайдеггерово Man (das Man) – на сей раз с большой буквы – используется в качестве имени той дегуманизированной, подавляющей индивида сущности, которая обретает самостоятельное бытие в новейший период и воплощает абстракцию человеческой общественности.(10) В роли специфически модернистского феномена, в роли не предпосылки, а конца всех лиц, Man явным образом претендует на четвертую типологическую позицию, и "расширенная" система личных местоимений, вернее сопряженных с ними понятий, приобретает следующий вид:
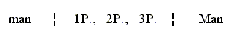
Рис. 1-19
В данном случае нет нужды специально доказывать сопряженность нулевого и четвертого звеньев, как и того, что четвертый элемент аксиологически негативен (ср. Достоевский). В тех языках, где самостоятельное неопределенно-личное местоимение отсутствует, его функцию в сообщениях в состоянии брать на себя другие лексические единицы: в английском это существительное people, местоимение в третьем лице во множественном числе they или универсальный эрзац существительных и имен one, по-русски в качестве аналога Man могли бы выступать "Это", "Оно", хотя при переводах хайдеггеровских текстов обычно сохраняют оригинальное наименование Man.
Выше упоминалась инфинитивная форма глаголов. В качестве вневременной, она аналогично – как логически предшествует трем основным временам (прошлому, настоящему, будущему), так и следует вслед за ними. Согласно богословским прозрениям, Слово, или Логос, существует от века, предваряя сам акт Творения (см. "В начале было Слово" Евангелия от Иоанна или более подробные рассуждения бл. Августина). Второе Пришествие, установление Царства Божьего сопряжено с прекращением тока времени: "времени уже не будет" ап. Павла. Грамматическая герменевтика ассоциируется с теологической, и инфинитив стяжает функции не только типологически нулевого, но и четвертого звена.
Подобная схема воспроизводится с завидным постоянством. Наряду с упомянутыми (местоимение man, инфинитив, пары "первобытный коммунизм – посткапиталистический", "Федор Карамазов – Смердяков"), она реализуется в партийной идеологии ХХ в.: и большевизм, и национал-социализм в роли "четвертых" (после либерализма, консерватизма, социализма ХIХ в.) в условиях новейшей технологической эры стремятся возродить заветное праисторическое состояние, будь то "первобытный коммунизм" или священный рейх. Принятый в этих случаях оксюморон "цивилизованное варварство" объединяет два предельных состояния: конечное и начальное. Читатель, возможно, обратит внимание на известную стилистическую брутальность, порой сопутствующую основной форме глагола: мы используем ее в функции повелительного наклонения ("молчать!", "лежать!"), – тот же оттенок присущ и комплементарным политическим феноменам.
Чтобы быть более точными, рассмотрим систему основных идеологических типов более подробно. Вслед за классической тройкой ХIХ в. либерализм – консерватизм – радикализм (социализм) на политическую арену ХХ выступили типологически "четвертые" – большевизм, нацизм (фашизм), фундаментализм ,(11) гальванизирующие, соответственно, классовую, национальную и религиозную стихию. Но системе массовых партий как таковой хронологически предшествовала ситуация абсолютизма (количество партий и порядковый номер здесь М = 0):
допартийное состояние ¦ либералы, консерваторы, радикалы ¦
большевики,
нацисты (фашисты),
фундаменталисты
Общеизвестно, что в странах, где к власти приходили "четвертые", расцветал вождизм, который хотя и не полностью совпадает с монархией, но воспроизводит ряд ее черт; о соответствующих партиях говорят, что это уже и не партии вовсе, а нечто другое (т.е. "настоящие" партии в тоталитарных странах отсутствовали). Нулевое и четвертое звенья семантически перекликаются. Применительно ко всем примерам: при "расширении" сознания, при встрече с нулевым и четвертым элементами человек нередко переживает фрустрацию.
Нуль и бесконечность, семантику решений М = 0 и М = ? порой трудно оторвать друг от друга. Об этом, собственно, шла уже речь. Разбиение на крайне малые составные части ("дифференциалы") приводит к необъятно-огромному количеству таких частей, если берется нечто конечное, обыкновенное по размерам. Любой отрезок числовой оси состоит из несчетного множества точек. "Сингулярности" в физике – это сопряженные бесконечности и нули. Медитативное молчание, упражнения на представление пустоты были призваны на Востоке свидетельствовать о позитивно не существующих сущностях, обладающих, однако, непостижимо-колоссальным, всеохватным значением.(12) Мистический ужас, некогда вызывавшийся бесконечностью, нередко корреспондирует с переживанием отталкивающей "нечистоты" и нулевых форм. Приближение и к тому, и к другому преисполнено опасностями и требует незаурядного мужества. Мыслители Ренессанса зачастую апеллировали к образу круга, издавна служившему наглядной картиной идеи целостности, полноты, самодостаточности; при этом заключенных в круге направлений – бесконечное количество, однако нет ни одного выделенногонаправления (М = 0). Подобные иллюстрации, конечно, не Бог весть как убедительны, но в свое время они пользовались успехом. В нашем контексте нули и бесконечности выступают в качестве целостных и простых, поскольку мы вообще рассматриваем только такие системы. Вероятно, они могли бы играть роль само собой разумеющегося, если бы мы были вскормлены индийской или японскою мамой или воспитаны в подходящем старом христианском монастыре.
"Странные" решения М = 0, М = ? сопровождают все остальные, "позитивные" решения М = n + 1, в частности М = 3, М = 4. Какой бы ни была конструктивная кратность отношений n, варианты М = 0, М = ? оставляют свой логический след в виде своеобразной универсальной коннотации (в известном смысле здесь преодолеваются границы и снимается противоположность между различными "позитивными" парадигмами М, например между М = 3 и М = 4). Если система организационно определена, то на переднем семантическом плане фигурируют "обычные" структуры – те же М = 3, М = 4, – тогда как бесконечность и нуль остаются в "подтексте". Если же выбор определенной величины n по каким-то причинам не совершен, то не складываются и соответствующие им структуры М = n + 1, – в этом случае бесконечности и нули оказываются единственными репрезентантами смысла. Такая ситуация в известной степени характерна, например, для переходныхэтапов, в процессе смены типа мышления, отказа социальной или когнитивной системы от одной величины n в пользу другой. Переход, таким образом, часто реализуется через период неопределенности, когда отсутствует любая из "позитивных" структур М = n + 1 и, следовательно, обнажается стихия М = 0, М = ?. Подобное явление хорошо знакомо по социально-политическим революциям, коренным образом изменяющим структуру общества и при этом производящим впечатление исчезновения всего привычного, еще вчера казавшегося незыблемым и наступившего въяве хаоса. Сходные исчезновение и хаос присущи и культурным революциям – прежняя концептуальная опора рухнула, новая еще не возникла, и внутреннему зрению современников предстает разверзнутая бездна, либо вызывающая панику, либо побуждающая обратиться к услугам произвольного воображения со слабыми логическими корнями. В религиозных видениях переход от одного мира к другому сопровождается не только апокалиптической катастрофой, но и своеобразным "обнулением" прежней реальности: небеса (в современной транскрипции: пространство) сворачиваются как свиток (Откр. 6, 11) и "времени уже не будет". Сказанное, возможно, и не нуждается в специальных иллюстрациях, поскольку свежа память о свойствах перехода к структурам М = 4 в обществе и культуре (см. раздел 1.4). Можно было бы сказать, что решения М = 0, М = ? исполняют роль своеобразного "лифта" от одной позитивной величины М к другой, если бы психологически процесс трансформации не воспринимался вначале как ничем не ограниченное падение и только затем как подъем к новому порядку.
После бихевиоризма, исследований по физиологии мышления трудно удержаться от искушения подойти к тем же решениям с точки зрения нашего организма, физического "переживания истины". В свое время "гипотеза о роли тела в познавательном процессе, высказанная Бергсоном в "Материи и памяти", произвела большое впечатление на Лосского, который затем опирался на нее при обосновании своей концепции интуитивизма" [55, c. 157]. С помощью каких ощущений нам удается прикоснуться к парадигмам М = 0, М = ? ? Если восприятие тройственности подпирают "трехмерный" вестибюлярный аппарат, бинокулярное зрение, стереоскопический слух, если кватерниорности соответствуют две пары оппозиций человеческой морфологии: правая-левая, передняя-задняя стороны, – то что в состоянии сыграть роль поддержки вариантов М = 0 и М = ? ?
Когда говорят об организованных ощущениях, обычно апеллируют к внешнему опыту. Но наряду с ним существует и опыт внутренний. Нет, здесь не имеется в виду все богатство последнего, человеческая способность имагинации, интроспекции, возможность мысленного манипулирования образами и категориями. Хотелось бы назвать нечто гораздо более тривиальное – своеобразное "первобытное" чувство. Что стоит за упоминаниями понимания сердцем, а не умом? И почему именно сердцем?
Роль этого органа человек определил в результате длительного самонаблюдения; на "мышлении сердцем" настаивали, в частности, исихасты, Григорий Палама, разрабатывавшие соответствующие специальные методы, а Игнатий Брянчанинов призывал: "Постараемся привести сердце в безмолвие, в этом сущность монашеского подвига" [135, c. 10-11]. На Востоке сердце считалось самостоятельным (шестым) органом чувств, "вместилищем мысли" (так говорил, в частности, Бай Юй Цзин). Анатомически сердце – мышечный мешок, состоящий из особых, но, упрощая, гладкихмышц. В топологическом плане гладкие мышцы – почти то же, что круг или сфера(13): направления для сокращения и растяжения в них бесчисленны и выделенного (в отличие от волокнистых и поперечно-полосатых) – ни одного. Я не делаю упор исключительно на сердечную мышцу, хотя ритм ее напряжений и пауз, похоже, во многом связан с мышлением. Процесс мышления всегда, по заверениям физиологов, сопровождается неосознанной мышечной деятельностью, и сейчас речь идет о гладких мышцах. По своей топологии они – самые древние, наследники стадии, когда еще отсутствовала специализация мышц. О том, что наше бессознательное хранит память о всем эволюционном развитии, включая уровень "амебы", неоднократно напоминал К.Юнг. Что является предпосылкой этого в физиологическом плане? Не хочу продолжать незрелое упражнение – что делать, если о встречах анатомов, топологов, психологов, культурологов я не слышал? – достаточно только упомянутой особенности данной разновидности мышц: М = 0 и М = ?. Что имеется в виду, когда говорят о "нутряном" понимании, о понимании "всем существом"? Не будем вдаваться в подробности – той же топологической характеристикой М = 0 и М = ? отличается не только сердце, но и легкие, желудок(14) – ограничимся для примера только сердцем.
Слова – сколь бы стройно они ни были выстроены – сами по себе не способны достигнуть другого человека. В том, наверное, приходилось не раз убеждаться при объяснении задачки ли, теоремы двоечнику: единственной реакцией на все объяснения остается бессмысленное хлопание глазами, и ничто не в силах пробить брешь в железобетонной стене. Мы сами во многом такие же двоечники, когда держим свое сердце наглухо затворенным. Без участия сердца, без его предрасположенности вообще ничто невозможно понять. Напротив, даже для уяснения, что дважды два равно четырем, необходимо вспомоществование той интуиции, того амбивалентного ("мучительно-сладостного") "утробного чувства", которые ответственны и за наипронзительные озарения. Самое первое, еще неотчетливое и приблизительное, и самое последнее, окончательное понимание формируют эсхатологический акт, именуемый актом мышления.
Нет, я ни в коем случае не предлагаю эти сырые тезисы на роль объясненияструктур М = 0 и М = ?. Так же, как в примере с трехмерностью пространства, наши органы чувств – лишь скудная предпосылка, намек на действительное положение дел. В равной мере это относится и к названной разновидности "внутреннего чувства". Но коль речь зашла об анатомии, еще один пример.
Рассмотрим плод в материнской утробе. В пренатальный период младенец не только пребывает внутри, в чреве матки, но и соединен с материнским организмом пуповиной. Схема, грубо говоря, такова:
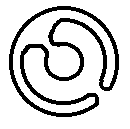
Рис. 1- 20
Что внутри и что снаружи в рамках такого строения? Плод пребывает в утробе, т.е. внешним, "объемлющим" является мать. Но через посредство пуповины плод включает в себя то, что его окружает, и мать тогда оказывается "внутренним". Внутреннее и внешнее "перепутаны", слабо отличимы друг от друга.
В геометрии образцом ограниченного объекта, в котором внутреннее и внешнее совпадают, служит точка, т.е. нульмерныйобъект. Если бы перед геометром поставили задачу построить трехмерное тело, логически более всего напоминающее точку, он нашел бы строение рис. 1-20 одним из самых простых и удачных.(15)
Процесс зарождения и созревания новой жизни необыкновенен и в хронологическом плане. Биогенетический закон Эрнста Геккеля гласит: во внешних рамках в девять месяцев плод успевает преодолеть практически все ступени земной эволюции длиной в миллиарды лет (онтогенез повторяет филогенез). Большое умещается в малом; нечто похожее – но уже в интеллектуально-психологическом аспекте – продолжается и в детские годы: в течение трех первых лет мы накапливаем информацию, на порядки превосходящую по объему все, что удается вместить за десятилетия, проведенные в библиотечных залах.
Создатель новой философской антропологии А.Гелен указывает на сходные формообразующие черты в человеке вообще: "Скрещение или смешение того, что приходит изнутри и снаружи, заходит у человека неограниченно глубоко и, пожалуй, до самого ядра его сущности" [424, S. 615], – и в связи с этим напоминает о концепции Портмана о "внематочной весне" (extra-uterine Fruehjahr). Согласно Портману, новорожденный младенец представляет собой нормализованную разновидность преждевременно рожденного ("недоноска"), поскольку на протяжении года после рождения не располагает ни сообразными движениями, ни средствами коммуникации (языком). Это означает, что процессы созревания и роста, которые должны были бы по-прежнему происходить в материнском теле, отныне открыты влиянию бесчисленных источников внешнего окружения. Гелен распространяет эту модель и на взрослых, определяя человека как "эмбриональное" существо [ibid, S. 616], вбирающее в себя реалии общественной жизни. К такому представлению непосредственно примыкает дефиниция человека как "половозрелого зародыша обезьяны", предлагаемая некоторыми биологами. Если наука современного Запада и не воскрешает непосредственно восточную парадигму сопряженной пары М = 0, М = ?, то ряд ее черт все же воспроизводится.
Процедура сходного построения была отлично известна средневековому Западу. Религиозная практика полного препоручения человеком своей воли воле Господа – при том, что Его чаемые царство и образ "внутри нас" – конституируют изоморфную ситуацию: то, что внутри, оказывается всеобъемлющим внешним, а всеохватывающее внеположное (Бог на небесах) интериоризируется, будучи принято сердцем. При этом к европейской специфике относится то, что подобная встречная инверсия осуществлялась в первую очередь применительно к волевымкачествам человека, а не столько к акцентированным сознательным или чувственным, как на буддийском Востоке. Как бы там ни было, данные начала (которым соответствует описание М = 0, М = ?), доставляющие столько неудобств нашему рассудку, являются чем-то совершенно простым и обычным, хотя их постижение, возможно, легче дается детскому или мифологическому мышлению.
Образец младенца в утробе матери по существу взят в качестве отправного в индийской, в частности буддийской, гносеологии. Человеку не дано знать, что на самом деле происходит снаружи, в окружающем мире, ибо он узнает о нем сквозь пелену своих субъективных чувств и мнений; внешний мир есть "майя", т.е. призрак. То же справедливо применительно к внутреннему миру, т.к. мы познаем себя с помощью категорий, заимствованных из внешнего мира, из мнений других людей. Однако для буддистов это не основание для агностицизма. Есть еще один вариант постижения истины, а именно: не направлять свою мысль ни наружу, ни внутрь, а держать ее на стыке того и другого, там, где они совпадают и где исчезает иллюзорная предметность. Открытые таким образом истины автоматически верны, и знание полностью адекватно реальности. Состояние нирваны, или освобождения от суеверий мира сего, от наваждений, в отличие от суждений о нем европейцев ХIХ в., не равноценно самоистреблению, а напротив, синонимично открытию бытия и знания в их предельной полноте. Существа, достигшие его, суть будды, или боги (бессмысленно спрашивать, сколько их: любое количество нулей в сумме дает тот же нуль, и они не поддаются позитивному пересчету). На этом пути достигается подлинное всемогущество, и, скажем, бодхисатвы, пребывающие в нирване, могут, не утрачивая идентичности, одновременно появляться в разных точках пространства и времени, ибо последние не более, чем наваждение, значимое лишь для "непросветленных". В этом случае не существует также отрыва теоретического знания от практического (т.е. умения), пропозиция "знание – сила" выступает в гораздо более буквальном смысле, чем у Ф.Бэкона, а гносеология в конечном счете оказывается тождественной онтологии. Неактивность здесь совпадает с активностью, способ мышления Индии существенно задействовал интуицию нуля (в отличие от европейцев, отдающих предпочтение предметной единице). Дзэн-буддизм, сходным образом, отказывается как от имманентизма, так и трансцендентализма в отдельности в пользу их совместности. Шуньята, или пустота, не имеет противоположностей [325, c. 231], снимается и противоположность объекта с субъектом [там же, с. 232]. Современный комментатор так говорит о татхате, т.е. о неназванных, неконцептуализированных вещах: "Татхата там, где Бог был еще в состоянии полного самоудовлетворения, когда Он еще не представил себе идею или не проявил еще волю для творения, когда Он еще не произнес Свое "Да будет свет"" [там же, c. 239].
С 1960-х гг. на Западе наблюдается всплеск интереса не только к восточным и архаическим учениям, но и к психоделическим опытам. Откликаясь на социальный заказ, Станислав Гроф предпринимает исследование человеческого бессознательного с помощью ЛСД. При этом осуществляется открытие области перинатальных переживаний (т.е. соответствующих пребыванию в утробе матери, рождению, первым месяцам жизни). Внутриутробному состоянию отвечают полный блаженный покой, ощущение слияния с матерью и космического единства (так называемое океаническое сознание). Здесь преодолевается дихотомия субъект-объект, испытываются сильные положительные эмоции: мир, спокойствие, радость, безмятежность, – возникают особые чувства сокровенности, чистого бытия, трансцендирования времени и пространства [109, c. 104]. Подобный опыт невыразим, и в передаче его природы и значения ошибочны любые лингвистические символы и структуры языка. Он также преисполнен парадоксами и нарушениями "здравой" логики. Я и мир – существуют и не существуют одновременно, формы материальных объектов пусты, а пустота обладает формой. Вселенная есть "тайна, которую надо пережить, а не загадка, которую надо разгадать". Один из выводов гласит: "Стремление снова восстановить состояние тотального совершенства, однажды пережитого в материнской утробе, оказывается первичной мотивирующей силой каждого человеческого существа" [там же, с. 112]. Гроф обнаруживает явные параллели с положениями индийской культуры и использует для описания необычного для современных западных людей опыта аутентичные для Индии категории. Кто скажет после этого, что на полях, так или иначе сопряженных с нулем, не выстроен целый мир?
С семантикой нуля (и ассоциированной с ним бесконечности, хаоса) перекликаются и другие культурные явления. На протяжении тысячелетий в различных местах земли считалось необходимым периодическое проведение обрядов и празденств, призванных "обновить" окружающий мир, дать ему новое начало, для чего предварительно его нужно провести через его собственную противоположность. У многих древних племен и народов существовала традиция раз в год отказываться от строго регламентированных общественных отношений (снятие табу на ненормированные брачные связи, отмена охотничьих запретов и т.д.). Оргиастические акты служили восстановлению "постаревшей" жизни и повышению плодородия. У язычников-славян такое "освобождение" приходилось на праздник Ивана Купала, в Древнем Риме – на сатурналии, в средневековой Европе – на карнавалы. Европейская "карнавальность" подвергнута исследованию в одной из самых глубоких работ М.М.Бахтина [41]. В ходе праздненств исчезали границы между вещами: между сословиями, полами, людьми и животными (переодевание, изменение поведения), – практиковалась инверсия, т.е. превращение в противоположность: одежда выворачивалась наизнанку, уродливый нищий избирался царем карнавала и ему оказывались царские почести (ср. исчезновение границ между разнородным и тождественность противоположного и в нуле). Абсурдное действо обретало тотальный, космический смысл ("пир на весь мир") и трактовалось как возвращение "золотого века" (не из мифологемы четырех веков, а ближе к варианту Гесиода: в доисторическом дозевсовом "золотом веке" у власти был Кронос, который и основал ахроническое царство справедливости и блаженства). Временн? я ограниченность карнавала, ореол "исключительности" побудили М.М.Бахтина отнести его всего лишь к рекреативной культуре, но таков же характер семантики и нуля, в обычных условиях пребывающей за кулисами жизни, в тени легальных нормативных структур и открыто выступающей на арену только в особые моменты.
