Страница:
- << Первая
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- Следующая »
- Последняя >>
В том же духе может быть раскрыта культурно-логическая семантика других чисел. Скажем, 666 – трижды повторенная шестерка в десятичной системе счисления или сумма чисел от 1 до 36 (т.е. трижды 12 или шестерки в квадрате). Будучи священным в языческом Вавилоне, оно было объявлено в христианстве "числом зверя". Подобные изыскания, однако, не представляют особого интереса в нашем контексте. Ведь мы изучаем не то, каким кажется то или иное число определенным обществу и культуре, а по сути обратный процесс: каким образом числа и сопряженная с ними логика сказываются на социально-политической организации социумов, их научных, эстетических, философских и прочих продуктах. При этом особый акцент поставлен на современной эпохе, эпохе образованных масс, поскольку в ее границах сформировался влиятельный приводной механизм от элементарных логико-арифметических представлений, с одной стороны, к коллективной реальности, с другой, т.е. механизм рационального сознания и бессознательного. По той же причине предпочтение было отдано сравнительно малым числам, не превышающим 4 (или 5), а все остальные представлены как результат их композиции.
1 Малое и большое тесно взаимосвязаны. Если отрезок или ограниченная фигура разбиваются на бесконечно малые части, количество таких частей оказывается бесконечно большим. О "бесконечности, которая размещается на ладошке младенца", говорится и в Каббале (см., напр., [334, c. 140]).
2 Ex nihilo nihil, из ничего ничто, – утверждали античные атомисты. А раз из ничего не только ничто не проистекает, но и не следует, то попросту не о чем говорить.
3 У ученых cуществуют и отличные мнения. Так, А.А.Вайман в книге о шумеро-вавилонской математике пишет: "В шестидесятиричной системе так и не появился специальный знак для нуля" [69, c. 14].
4 Историки математики находят и более ранние европейские истоки. Леонардо Пизанский, Фибоначчи (1180 – 1240), совершивший путешествие по Востоку, систематически излагает положения арабской математики, алгебры, у него впервые в Европе нуль встречается как настоящее число [142, c. 261]. Как бы там ни было, отрицательные числа и нуль вводились и понимались чисто формально – для того, чтобы придать универсальность операции вычитания [118, c.19]. Подлинный смысл у таких чисел, полагали, отсутствовал, не случайно их считал "искусственными", "ложными" даже Декарт. Трудно не согласиться с замечанием Ж.Пиаже и Б.Инельдер в работе "Генезис элементарных логических структур": "Нуль – последнее из чисел, открытых арифметикой" [248, c. 214]. А справочник Выгодского, передавая европейский опыт, утверждает: "Довольно поздно к семье чисел присоединился нуль. Первоначально слово "нуль" означало отсутствие числа (буквальный смысл латинского слова nullum – "ничего"). Действительно, если, например, от 3 отнять 3, то остается ничего. Для того, чтобы это "ничего" считать числом, появились основания лишь в связи с рассмотрением отрицательных чисел" [87, c. 59]. Эхом прошлого незнания европейцами числа нуль является, в частности, то, что, строго говоря, смену тысячелетий нам следовало бы праздновать не в 2000, а в 2001 г.: когда в VI в. монах Дионисий Малый готовил материалы для нового календаря, нулевой год от Р.Х. он просто не мог ввести и начал счет сразу с единицы.
5 Ср. также средневековых алхимиков, многое заимствовавших у античности: "Любое оперирование числом начинается с единицы. Неоплатоническое Единое. Единица – еще не число, но прародительница всех чисел" [264, c. 107].
6 Понятие "шунья", пустое, было переведено на арабский язык словом "сыфр", имеющим то же значение. Последующий перевод с арабского на латынь сохранил это имя без перевода в виде ciffra, откуда происходят французское и английское zero, немецкое Ziffer, русское "цифра", первоначально означавшее "нуль". Сказанного, однако, этимологические изыскания не в силах отменить: нуль как интеллектуальная, даже духовная сущность до сих пор для нас – иностранец.
7 О.Шпенглер называет нуль "мечтательным творением, исполненным удивительной энергии обесчувствления и оказывающимся для индийской души, которая измыслила его в качестве основания для позиционной системы цифр, прямо-таки ключом к смыслу бытия" [380, c. 217].
8 То, чем в литературе служит молчание на фоне слов, в изобразительном искусстве ХХ столетия выступает как отсутствие предмета. Изображение без предмета в ХIХ в. показалось бы нонсенсом, но в новейшую эпоху беспредметная живопись обретает вполне реальный смысл. Подпороговое некогда значение М = 0 материализуется, входит в сознание общества в разных конкретных обличьях.
9 "Естественность" не прививается к мироощущению Достоевского по всем азимутам. Если в "Войне и мире" Л.Толстого прекрасны и гармоничны "природные", непринужденные типы вроде Наташи Ростовой, Платона Каратаева, то у Достоевского "естественность" – обычно синоним скотства (например, Свидригайлов). На роль "прекрасных" скорее претендуют лишенные опоры под ногами мечтатели, но и в них нет гармонии, ибо возведенные ими здание жизни обязательно драматически рушится. По-своему "естественна" Соня Мармеладова из "Преступления и наказания", но она прекрасна исключительно благодаря добровольно принятому страданию, готовности к жертве и нравственному подвигу, что является атрибутом христианской, а не просветительской позиции. Что касается детства, как репрезентанта "естественности" и невинности, то Достоевский открыто отказывается от такого стандартного мнения. В "Братьях Карамазовых" гимназисты беспощадно жестоки, исходят из надуманных ценностей. Потребовалось вмешательство Алексея Карамазова – христианское! – чтобы в детях проснулись их лучшие нравственные качества (история с Колей Красоткиным).
10 Посредством рефлексии здесь выявляется отзвук деперсонализации, заключенной в неопределенно-личном местоимении man на фоне определенно-личных. Деперсонализация – экзистенциально враждебный акт, сравнимый с погибелью души; ср.: страх "потерять лицо" – один из сильнейших мотивов культуры Китая, Кореи, Японии.
11 Основанием для отнесения трех различных течений ХХ века к одному и тому же, четвертому типу служит весьма простое соображение. Политические авангардисты кардинально изменили предшествующую политическую установку, создав принципиально новую. Если попытаться изобразить это геометрически, придется прибегнуть к ортогональному измерению:
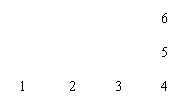
Сколько бы элементов ни заполняло соответствующее четвертое место, все они – в ряду трех предыдущих – идентифицируются в качестве "четвертого". (Следующим подобным "поворотом", похоже, стал 1968 г., по крайней мере "зеленые" ФРГ, чьи духовные истоки – в молодежной революции 1968, объявляют себя "непартийной партией", пытаются создать исторически беспрецедентную идеологию, первую, которая соответствует наиновейшему постиндустриальному, информационному обществу.)
12 Ср. один из технологических приемов буддизма: "В буддийских писаниях мы иногда пользуемся обширными аналогиями, пытаясь описать пустой ум. Иногда мы употребляем для этого астрономически огромное число, такое большое, что оно не поддается подсчету. Это значит, что нужно прекратить счет, если оно столь велико, что вы не можете его сосчитать, тогда вы потеряете интерес к делу и, наконец, оставите все усилия. Описания подобного рода могут возбудить своеобразный интерес к бесконечно большим числам, что поможет нам остановить мыслительную деятельность нашего малого ума" [324, c. 166 ].
13 Образ сферы или шара, напомним, – один из излюбленных древними. Со времен Пифагора шарообразной стала считаться Земля, такая же форма присуща единому Сущему элеатов. У Эмпедокла космос то соединяется в единый бескачественный шар, то распадается. Сфера – наисовершеннейшая фигура у Платона и Аристотеля.
14 Соответственно, последним уделялось существенное внимание в эзотерических практиках Востока – режимам дыхания у йогов, "смеху от живота" в дзэн-буддизме.
15 В современной математике в качестве "точек" порой выступают самые разные объекты (функции, классы и т.д.). Эти "точки" вовсе не обязаны обладать нулевыми размерами в обыденном смысле, и, скажем, в модели расщепленных, калибровочных пространств роль "точек" играют бесконечные n-мерные пространства. "Точка" может обладать развитою внутренней структурой. Но здесь вряд ли уместно вдаваться в детали; настоящая сноска призвана лишь "раскачать" воображение читателя.
16 Топология политической системы Италии – в связи с "размерностью" – была более детально рассмотрена в специальной статье [197]. Там же определено и конструктивное место мафии. Однако предпосылкой значимости подобного феномена в политической системе является "caмоотрицание" последней, что описывается решением М = – 1.
17 Парменид (в передаче Платона) описывал Единое как "беспредметное, не имеющее частей", которое "не движется и не стоит на месте", "не причастно времени и не существует ни в каком времени" и замечал: "Если Единое не существует, то ничего не существует" [251:II, 166, c].
18 Эту точку зрения разделяли не все. Так, возникший в VIII – IХ вв. в странах Арабского халифата суфизм утверждал, что реально существует только Бог, а все окружающие вещи, явления – не более, чем Его эманация. Соответственно, высшей целью становилось соединение человеческой души с Богом, отрешение от всего земного. Можно заметить, в логико-философском аспекте суфизм – это "разбавленный", "ослабленный" вариант элеатской позиции, поскольку для "другого", для эманации, при всей ее призрачности, здесь все же находится место.
19 П.Сорокин приводит слова Бенджамина Франклина: "Помните, что время – деньги. Помните, что деньги имеют производящую, плодоносящую природу" [305, c. 492].
20 Подобный шаг совершает, в частности, А.С.Эддингтон. "Quis custodient ipsos costodes? Кто будет наблюдать за исследователями (наблюдателями)?" – спрашивает он в одной из работ [385, c. 129]. И хотя ответ был дан – "эпистемолог", но и сама физическая теория может быть также дополнительно "эпистемологизирована".
21 Наши предшественники были склонны гилозоистически толковать небесные светила. На языческой стадии и солнцу, и луне соответствовали собственные боги, звезды почитались обиталищем душ предков, а то и самими этими душами. На это обращает внимание К.Юнг: "Первобытного человека не удовлетворяет, что он просто видит солнце восходящим и заходящим; это внешнее наблюдение должно быть одновременно и душевным событием, т.е. солнце в своей перемене должно являть судьбу какого-то бога или героя, который по сути обитает не где-нибудь в другом месте, а в душе человека" [430, S. 13f]. До сих пор астрология считывает с рисунка светил предначертания судеб людей и народов, а древние волхвы вычислили по звездам время и место рождения младенца Иисуса.
22 В других местах он был иным: восемь дней в раннем Риме, десять в Китае, пять или шесть в отдельных районах Африки и Центральной Америки.
23 В.Б.Иорданский солидарен с той же точкой зрения, что и К.Юнг: "Связь двух чисел – трех и четырех – с мужским и женским началами очевидна там, где преобладающее мужское влияние сомнений не вызывает, число "три" как по преимуществу число мужское играет первые роли. Напротив, оно отступает на второй план в культурах с отчетливой женской доминантой". При этом семерка превратилась в знак единства мужчины и женщины, в символ гармонической целостности вообще [там же].
24 Psychological Review, v. 63, 1956, № 2, pp. 81-97.
25 Дефиниция "крокодила", возможно, была бы корректной, если речь шла бы не об обществе, а о толпе, не о культуре, а о слепых импульсах, инстинктах. Вследствие социализации миллионы все же не опускаются до действительно звериного уровня; культура, не исключая и массовую, не без успеха обслуживает потребности индивидуального сознания. И действительно, в разделах 1.3 и 1.4 у нас была возможность на практике убедиться, что и политика, и культурные феномены эпохи масс руководствуются пусть и вполне элементарными (числа 3 и 4), но все же рациональными критериями. В скобках уместно заметить, что общество "проще" среднего человека не всегда – только в случае эгалитарности; в элитарных сообществах положение может быть и обратным, о чем, впрочем, ниже.
26 Сумма членов арифметической прогрессии, сказали бы ныне, а греки думали о треугольных числах, т.е. выражающих количество шаров, выложенных на плоскости в виде правильных треугольников:
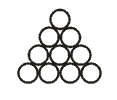
27 У китайцев, в свою очередь, дроби появляются почти одновременно с целыми числами. "Первыми дробями были 1/2, 1/3 и 2/3, называвшиеся соответственно "половиной", "малой половиной", "большой половиной"" [там же, с. 162].
28 Ср. также 12 последовательных действий алхимика и венчающее Великое деяние тринадцатое – неназванное ничегонеделание, отсутствие какого-либо действия [264, c. 136]. Такое тринадцатое не нарушало гармонической целостности дюжины, ее священности.
29 В современных семиричных конструкциях обычно более прозрачен присущий им смысл, хотя по-прежнему прослеживаются следы упомянутой аддитивности. Так, президент В.В.Путин делит Россию на семь округов: Северо-Западный, Центральный, Северокавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Читатель сразу заметит присутствие значимой семантической грани между "ближнею" европейской и психологически "дальней" частями. При этом первая образована четырьмя округами (Северо-Западный, Центральный, Северокавказский, Приволжский), вторая – только тремя (Дальневосточный, Сибирский, Уральский). Почему две части состоят из разного количества звеньев? – Оставив в стороне прагматику, допустимо примерить изучаемую схему. Собственно европейская и "азиатская" части занимают в общественном сознании существенно разное место – первая по традиции считается "главной". Ей, в частности, принадлежит культуро- и политикообразующая функция: соседствующий с Западной Европой, исторически более ранний район заселения и до сих пор намного более многолюдный, воспринимается россиянами как источник самых важных событий. Событий как прошлых, так и настоящих. Такое мнение у жителей не только самой европейской части, но и у всех. Обитателю российского Дальнего Востока мало что известно о ближайших соседях (китайцах, корейцах, японцах), они до сих пор для него – непонятные и "чужие". Географически его интересы – в "Европе". Наконец, центр политической власти – конечно, в ней же, в Москве. Итак, основной и культурный, и политический актор России – в ее западной части, тогда как восточная – "отдаленная" и зависимая, остающаяся объектом манипуляций. В разделе 1.3 установлено: классификации и деления, ведущие к целостности представлений, в простейшем случае тринитарны; критерий n = 2 приводит к М = 3. Напротив, если в процессе принимает участие действующий актор (наподобие "наблюдателя" релятивистской теории и "экспериментатора" квантовой), то ситуация трансформируется в модель n = 3, М = 4. Поэтому европейская часть и подведомственна квантиодромии. В итоге общая семиричность по округам представляется в виде М = 4 + 3.
30 В момент возникновения шестидесятиричной системы вавилоняне уже обладали довольно обширными познаниями в геометрии и астрономии.
31 То, что вавилоняне часто пользовались зависимостями, сводящимися в конечном счете к а2 + b2 = c2, отмечает А.А.Вайнман [69, c. 129].
32 Кстати, существует лишь еще одна тройка чисел, обладающая подобными "многозначительными" свойствами: числа культурно актуальны, взяты подряд и при этом являются "пифагоровыми", – это тройка ( – 1, 0, 1 ). Но ни об отрицательных числах, ни о нуле в означенный период еще не знали.
33 Двенадцать – это и сумма трех, четырех, пяти, т.е. периметр соответствующего треугольника или композиция рядоположенных трихотомии, квантиодромии, пентадромии. Наши предки пристально следили за подобными обстоятельствами.
34 Определение времени по звездам обусловливало связь тригонометрии с хронологией. В древних календарях годовой цикл разбивался ровно на 360 частей, т.е. дней; позднее прагматические соображения заставили "подпортить" столь логичное число.
1.6. Итоги первой главы
Для удобства в процессе предшествующего изложения все поле культурно-психической жизни общества было разбито посредством двух оппозиций: "сознательное – бессознательное", с одной стороны, и "рациональное – иррациональное", с другой. Результат – образование четырех секторов: 1) сознательное рациональное, т.е. обычная рациональность, например научная, 2) сознательное иррациональное – к нему тяготеют многие положения искусства, религии, паранаук, в общем, наше знание об иррациональном, 3) иррациональное бессознательное, ставшее центральной темой, скажем, психоанализа, и, наконец, 4) рациональное бессознательное – то, что по природе рационально, но в нем не отдается отчет. Основное внимание было направлено на четвертый квадрант, к нему подбирались соответствующие ключи, хотя условность деления иногда побуждала пересекать демаркационные линии – тем более, что то же самое нередко происходит в реальности: иррациональное (к примеру мифологическое) обзаводится рациональным (в частности числовым) измерением, и наоборот, рациональное по содержанию догматизируется, стяжает мифологические функции или содержание (трехмерное пространство, тройки сказочных персонажей, рай-чистилище-ад-земля-). Еще Витгенштейн в работе "О достоверности" указывал, что все наши представления определяются некиими правилами игры: правилами, которые мы учили с детства и которые реализуются в повседневной, в том числе общественной, жизни. "Предложения, описывающие картину мира, можно было бы отнести к определенному роду мифологии. И их роль подобна правилам игры. Этой игре можно научиться чисто практически, без сформулированных (ausgesprochene) правил" [450, S. 486].
Вероятно, не вызвало возражений, что в итоге наши культура и общество подпадают под метафору айсберга, большая доля которого под поверхностью, и бессознательные импульсы и мотивы во многом влияют на сознание коллективов, их поведение. Выбор в пользу рациональногобессознательного исходит из предпосылки, что рационален в массе прошедший сквозь школьные штудии человек, и позволяет применять при анализе точные методы. В центре внимания на протяжении всей главы оказывалась антропогенная реальность, ведь даже физика – это образприроды, самосогласованное и социально-исторически обусловленное знание о ней. Применительно к литературе, политике, философии такое утверждение тем более справедливо. В конечном счете мы имеем дело с коллективным сознанием (в собирательном значении, т.е. вместе с бессознательным), которое в равной мере и апостериорно, и априорно. Наличие априорного компонента способно вызвать из памяти метафизические спекуляции, но это ложный ход – речь не шла о знаниях без основы. Для обоснования, во-первых, можно сослаться на один из эпистемологических тезисов Леви-Строса: социальные структуры относятся не к эмпирической действительности, а к действительности сконструированных моделей, цит. по: [434, S. 645], – то же, по всей видимости, справедливо и в проекции на структуры культурологические. Во-вторых, конечная эмпирическая основа в нашем случае все же присутствует, а именно как элементарно-математическая образованность тех, кто оперирует стереотипами, мифологемами, идеологемами – их создателей, с одной стороны, и перципиентов, с другой. Имеются в виду устойчивые интерсубъективные конструкты, которые потому и становятся "общим местом", что объединяют всех нас поверх индивидуальных, национальных, исторических особенностей. Психологи заверяют, что математические способности – самые распространенные. Но даже если кто-то изначально ими не обладает в полном объеме, в процессе социальной инициации ему все равно приходится овладеть простейшими арифметическими и арифметикоподобными истинами и операциями, или, если угодно, арифметика овладевает сознанием каждого из нас, согласно или вопреки нашей воле. Такой тривиальный и общеизвестный факт наделяет социум и культуру целым букетом специфических свойств, влечет за собой многообразные следствия, которые по разным причинам не принято замечать. В частности, простейшие навыки комбинирования, счета присущи даже животным, для людей же они – из области само собой разумеющегося. Именно это внушает уверенность в правомочности изучения коллективного сознания, бессознательного с помощью адекватных математических приемов.
Наряду с некорректным сравнением с метафизикой, налицо и другая опасность. Анализируемые закономерности – в языке, политике, философии, литературе, науке – действуют с неизбежностью механизма, школьной теоремы и оттого способны вызвать превратную ассоциацию с механицизмом. Подобное сходство тем более подозрительно, что предметом изучения служит в первую очередь сфера мышления и только через нее – порождаемая действительность (включая политическую). Наше мышление, наш политический выбор несвободны? Свобода, впрочем, – атрибут индивида, по отношению же к большим коллективам ее наличие – под вопросом. Кроме того, во всех случаях приходится говорить о границах свободы, а также о ее объективных условиях.
В настоящем контексте полезно сослаться на работу Е.А.Седова "Информационно-энтропийные свойства социальных систем" [290]. "Возрастает или сокращается внутреннее разнообразие систем в процессе эволюции? – ставит задачу автор и отвечает: – Действительный рост разнообразия на высшем уровне обеспечивается ее эффективным ограничением на предыдущем уровне". Так как мы, в свою очередь, обращаемся к частично или полностью бессознательному подуровню современных культуры и социума, то естественно сталкиваемся с упомянутыми "эффективными ограничениями". Люди пользуются свободой там, где погружены в неканонизированные интеллектуальные реалии, специфически современного типа и стиля, но насколько действуют стереотипы, насколько признаются полномочия и авторитет архаического мышления, настолько свобода в значительной мере утрачивается. Вдобавок сама арифметика – продукт тех эпох, в чьи привычки не входила специальная забота о свободе – ни физической, ни духовной, – человек был предан во власть велений богов, звезд и судьбы, подчинялся диктату социальной иерархии, а догма и традиция всесторонне регламентировали как внешнюю, так и внутреннюю жизнь. На авторитете и подчинении правилам построено и изучение арифметики в школе. Соответствующие импликации, следовательно, пронизывают и нашу эпоху.
Е.А.Седов предпринимает более детальное исследование, устанавливая, что в реальных информационных системах – социальных, культурных – существует оптимальное соотношение между мерами детерминации и варьирования. Так, в языке на долю детерминации приходится около 80% информации; здесь хранятся правила, обусловливающие целостность языковой структуры, ее внутреннюю согласованность, правомочность. В оставшихся 20% содержатся те самые новости, ради которых составляется и прочитывается текст. Эти выводы пребывают в согласии с опытом: наша речь прежде всего автоматична, она опирается на свод грамматических и стилистических, прописанных и полугласных правил, и только на такой почве обретается языковая непринужденность, способность адекватного выражения соображений и чувств. Дефицит автоматизма и детерминации, напротив, – пусть каждый вспомнит о процессе изучения иностранного языка – сковывает нас по рукам и ногам. Не иначе обстоит и с науками, исходящими из набора установленных и общепризнанных истин, или с обществом, политический выбор которого всякий раз отталкивается от гласных и негласных норм. Попытки обновить слишком много приносят разочаровывающие плоды – анархию, затем диктатуру. Только ограничение разнообразия обеспечивает надлежащую структуризацию системы, – резюмирует Седов, – и ограничению подвергается нижележащий уровень ради разнообразия функций и структур социальных систем более высоких уровней.
Если отталкиваться от цифр Е.А.Седова, то, скажем, политология, изучающая проблематику современных обществ посредством специфически современных же представлений и методов – зиждущаяся на предпосылках принципиальной альтернативности выбора поведения граждан, партийных руководителей и правительств, осуществляющая учет воздействий со стороны экономической конъюнктуры, масс-медиа и т.д., – по сути имеет дело лишь с 20% заключенной в социумах информации. Обязательная для сайентизма установка на новизну ведет к неизбежной неполноте, даже к скудости получаемых знаний об объекте и/или ненадежности результатов. Апелляция к нижележащему – генетически не новому и в корне более детерминированному – пласту предоставляет вчетверо большие возможности. Опираясь на этот резон, мы посчитали полезным изучать современные общества – см., например,
Примечания
1 Малое и большое тесно взаимосвязаны. Если отрезок или ограниченная фигура разбиваются на бесконечно малые части, количество таких частей оказывается бесконечно большим. О "бесконечности, которая размещается на ладошке младенца", говорится и в Каббале (см., напр., [334, c. 140]).
2 Ex nihilo nihil, из ничего ничто, – утверждали античные атомисты. А раз из ничего не только ничто не проистекает, но и не следует, то попросту не о чем говорить.
3 У ученых cуществуют и отличные мнения. Так, А.А.Вайман в книге о шумеро-вавилонской математике пишет: "В шестидесятиричной системе так и не появился специальный знак для нуля" [69, c. 14].
4 Историки математики находят и более ранние европейские истоки. Леонардо Пизанский, Фибоначчи (1180 – 1240), совершивший путешествие по Востоку, систематически излагает положения арабской математики, алгебры, у него впервые в Европе нуль встречается как настоящее число [142, c. 261]. Как бы там ни было, отрицательные числа и нуль вводились и понимались чисто формально – для того, чтобы придать универсальность операции вычитания [118, c.19]. Подлинный смысл у таких чисел, полагали, отсутствовал, не случайно их считал "искусственными", "ложными" даже Декарт. Трудно не согласиться с замечанием Ж.Пиаже и Б.Инельдер в работе "Генезис элементарных логических структур": "Нуль – последнее из чисел, открытых арифметикой" [248, c. 214]. А справочник Выгодского, передавая европейский опыт, утверждает: "Довольно поздно к семье чисел присоединился нуль. Первоначально слово "нуль" означало отсутствие числа (буквальный смысл латинского слова nullum – "ничего"). Действительно, если, например, от 3 отнять 3, то остается ничего. Для того, чтобы это "ничего" считать числом, появились основания лишь в связи с рассмотрением отрицательных чисел" [87, c. 59]. Эхом прошлого незнания европейцами числа нуль является, в частности, то, что, строго говоря, смену тысячелетий нам следовало бы праздновать не в 2000, а в 2001 г.: когда в VI в. монах Дионисий Малый готовил материалы для нового календаря, нулевой год от Р.Х. он просто не мог ввести и начал счет сразу с единицы.
5 Ср. также средневековых алхимиков, многое заимствовавших у античности: "Любое оперирование числом начинается с единицы. Неоплатоническое Единое. Единица – еще не число, но прародительница всех чисел" [264, c. 107].
6 Понятие "шунья", пустое, было переведено на арабский язык словом "сыфр", имеющим то же значение. Последующий перевод с арабского на латынь сохранил это имя без перевода в виде ciffra, откуда происходят французское и английское zero, немецкое Ziffer, русское "цифра", первоначально означавшее "нуль". Сказанного, однако, этимологические изыскания не в силах отменить: нуль как интеллектуальная, даже духовная сущность до сих пор для нас – иностранец.
7 О.Шпенглер называет нуль "мечтательным творением, исполненным удивительной энергии обесчувствления и оказывающимся для индийской души, которая измыслила его в качестве основания для позиционной системы цифр, прямо-таки ключом к смыслу бытия" [380, c. 217].
8 То, чем в литературе служит молчание на фоне слов, в изобразительном искусстве ХХ столетия выступает как отсутствие предмета. Изображение без предмета в ХIХ в. показалось бы нонсенсом, но в новейшую эпоху беспредметная живопись обретает вполне реальный смысл. Подпороговое некогда значение М = 0 материализуется, входит в сознание общества в разных конкретных обличьях.
9 "Естественность" не прививается к мироощущению Достоевского по всем азимутам. Если в "Войне и мире" Л.Толстого прекрасны и гармоничны "природные", непринужденные типы вроде Наташи Ростовой, Платона Каратаева, то у Достоевского "естественность" – обычно синоним скотства (например, Свидригайлов). На роль "прекрасных" скорее претендуют лишенные опоры под ногами мечтатели, но и в них нет гармонии, ибо возведенные ими здание жизни обязательно драматически рушится. По-своему "естественна" Соня Мармеладова из "Преступления и наказания", но она прекрасна исключительно благодаря добровольно принятому страданию, готовности к жертве и нравственному подвигу, что является атрибутом христианской, а не просветительской позиции. Что касается детства, как репрезентанта "естественности" и невинности, то Достоевский открыто отказывается от такого стандартного мнения. В "Братьях Карамазовых" гимназисты беспощадно жестоки, исходят из надуманных ценностей. Потребовалось вмешательство Алексея Карамазова – христианское! – чтобы в детях проснулись их лучшие нравственные качества (история с Колей Красоткиным).
10 Посредством рефлексии здесь выявляется отзвук деперсонализации, заключенной в неопределенно-личном местоимении man на фоне определенно-личных. Деперсонализация – экзистенциально враждебный акт, сравнимый с погибелью души; ср.: страх "потерять лицо" – один из сильнейших мотивов культуры Китая, Кореи, Японии.
11 Основанием для отнесения трех различных течений ХХ века к одному и тому же, четвертому типу служит весьма простое соображение. Политические авангардисты кардинально изменили предшествующую политическую установку, создав принципиально новую. Если попытаться изобразить это геометрически, придется прибегнуть к ортогональному измерению:
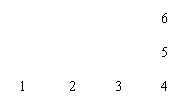
Сколько бы элементов ни заполняло соответствующее четвертое место, все они – в ряду трех предыдущих – идентифицируются в качестве "четвертого". (Следующим подобным "поворотом", похоже, стал 1968 г., по крайней мере "зеленые" ФРГ, чьи духовные истоки – в молодежной революции 1968, объявляют себя "непартийной партией", пытаются создать исторически беспрецедентную идеологию, первую, которая соответствует наиновейшему постиндустриальному, информационному обществу.)
12 Ср. один из технологических приемов буддизма: "В буддийских писаниях мы иногда пользуемся обширными аналогиями, пытаясь описать пустой ум. Иногда мы употребляем для этого астрономически огромное число, такое большое, что оно не поддается подсчету. Это значит, что нужно прекратить счет, если оно столь велико, что вы не можете его сосчитать, тогда вы потеряете интерес к делу и, наконец, оставите все усилия. Описания подобного рода могут возбудить своеобразный интерес к бесконечно большим числам, что поможет нам остановить мыслительную деятельность нашего малого ума" [324, c. 166 ].
13 Образ сферы или шара, напомним, – один из излюбленных древними. Со времен Пифагора шарообразной стала считаться Земля, такая же форма присуща единому Сущему элеатов. У Эмпедокла космос то соединяется в единый бескачественный шар, то распадается. Сфера – наисовершеннейшая фигура у Платона и Аристотеля.
14 Соответственно, последним уделялось существенное внимание в эзотерических практиках Востока – режимам дыхания у йогов, "смеху от живота" в дзэн-буддизме.
15 В современной математике в качестве "точек" порой выступают самые разные объекты (функции, классы и т.д.). Эти "точки" вовсе не обязаны обладать нулевыми размерами в обыденном смысле, и, скажем, в модели расщепленных, калибровочных пространств роль "точек" играют бесконечные n-мерные пространства. "Точка" может обладать развитою внутренней структурой. Но здесь вряд ли уместно вдаваться в детали; настоящая сноска призвана лишь "раскачать" воображение читателя.
16 Топология политической системы Италии – в связи с "размерностью" – была более детально рассмотрена в специальной статье [197]. Там же определено и конструктивное место мафии. Однако предпосылкой значимости подобного феномена в политической системе является "caмоотрицание" последней, что описывается решением М = – 1.
17 Парменид (в передаче Платона) описывал Единое как "беспредметное, не имеющее частей", которое "не движется и не стоит на месте", "не причастно времени и не существует ни в каком времени" и замечал: "Если Единое не существует, то ничего не существует" [251:II, 166, c].
18 Эту точку зрения разделяли не все. Так, возникший в VIII – IХ вв. в странах Арабского халифата суфизм утверждал, что реально существует только Бог, а все окружающие вещи, явления – не более, чем Его эманация. Соответственно, высшей целью становилось соединение человеческой души с Богом, отрешение от всего земного. Можно заметить, в логико-философском аспекте суфизм – это "разбавленный", "ослабленный" вариант элеатской позиции, поскольку для "другого", для эманации, при всей ее призрачности, здесь все же находится место.
19 П.Сорокин приводит слова Бенджамина Франклина: "Помните, что время – деньги. Помните, что деньги имеют производящую, плодоносящую природу" [305, c. 492].
20 Подобный шаг совершает, в частности, А.С.Эддингтон. "Quis custodient ipsos costodes? Кто будет наблюдать за исследователями (наблюдателями)?" – спрашивает он в одной из работ [385, c. 129]. И хотя ответ был дан – "эпистемолог", но и сама физическая теория может быть также дополнительно "эпистемологизирована".
21 Наши предшественники были склонны гилозоистически толковать небесные светила. На языческой стадии и солнцу, и луне соответствовали собственные боги, звезды почитались обиталищем душ предков, а то и самими этими душами. На это обращает внимание К.Юнг: "Первобытного человека не удовлетворяет, что он просто видит солнце восходящим и заходящим; это внешнее наблюдение должно быть одновременно и душевным событием, т.е. солнце в своей перемене должно являть судьбу какого-то бога или героя, который по сути обитает не где-нибудь в другом месте, а в душе человека" [430, S. 13f]. До сих пор астрология считывает с рисунка светил предначертания судеб людей и народов, а древние волхвы вычислили по звездам время и место рождения младенца Иисуса.
22 В других местах он был иным: восемь дней в раннем Риме, десять в Китае, пять или шесть в отдельных районах Африки и Центральной Америки.
23 В.Б.Иорданский солидарен с той же точкой зрения, что и К.Юнг: "Связь двух чисел – трех и четырех – с мужским и женским началами очевидна там, где преобладающее мужское влияние сомнений не вызывает, число "три" как по преимуществу число мужское играет первые роли. Напротив, оно отступает на второй план в культурах с отчетливой женской доминантой". При этом семерка превратилась в знак единства мужчины и женщины, в символ гармонической целостности вообще [там же].
24 Psychological Review, v. 63, 1956, № 2, pp. 81-97.
25 Дефиниция "крокодила", возможно, была бы корректной, если речь шла бы не об обществе, а о толпе, не о культуре, а о слепых импульсах, инстинктах. Вследствие социализации миллионы все же не опускаются до действительно звериного уровня; культура, не исключая и массовую, не без успеха обслуживает потребности индивидуального сознания. И действительно, в разделах 1.3 и 1.4 у нас была возможность на практике убедиться, что и политика, и культурные феномены эпохи масс руководствуются пусть и вполне элементарными (числа 3 и 4), но все же рациональными критериями. В скобках уместно заметить, что общество "проще" среднего человека не всегда – только в случае эгалитарности; в элитарных сообществах положение может быть и обратным, о чем, впрочем, ниже.
26 Сумма членов арифметической прогрессии, сказали бы ныне, а греки думали о треугольных числах, т.е. выражающих количество шаров, выложенных на плоскости в виде правильных треугольников:
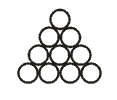
27 У китайцев, в свою очередь, дроби появляются почти одновременно с целыми числами. "Первыми дробями были 1/2, 1/3 и 2/3, называвшиеся соответственно "половиной", "малой половиной", "большой половиной"" [там же, с. 162].
28 Ср. также 12 последовательных действий алхимика и венчающее Великое деяние тринадцатое – неназванное ничегонеделание, отсутствие какого-либо действия [264, c. 136]. Такое тринадцатое не нарушало гармонической целостности дюжины, ее священности.
29 В современных семиричных конструкциях обычно более прозрачен присущий им смысл, хотя по-прежнему прослеживаются следы упомянутой аддитивности. Так, президент В.В.Путин делит Россию на семь округов: Северо-Западный, Центральный, Северокавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Читатель сразу заметит присутствие значимой семантической грани между "ближнею" европейской и психологически "дальней" частями. При этом первая образована четырьмя округами (Северо-Западный, Центральный, Северокавказский, Приволжский), вторая – только тремя (Дальневосточный, Сибирский, Уральский). Почему две части состоят из разного количества звеньев? – Оставив в стороне прагматику, допустимо примерить изучаемую схему. Собственно европейская и "азиатская" части занимают в общественном сознании существенно разное место – первая по традиции считается "главной". Ей, в частности, принадлежит культуро- и политикообразующая функция: соседствующий с Западной Европой, исторически более ранний район заселения и до сих пор намного более многолюдный, воспринимается россиянами как источник самых важных событий. Событий как прошлых, так и настоящих. Такое мнение у жителей не только самой европейской части, но и у всех. Обитателю российского Дальнего Востока мало что известно о ближайших соседях (китайцах, корейцах, японцах), они до сих пор для него – непонятные и "чужие". Географически его интересы – в "Европе". Наконец, центр политической власти – конечно, в ней же, в Москве. Итак, основной и культурный, и политический актор России – в ее западной части, тогда как восточная – "отдаленная" и зависимая, остающаяся объектом манипуляций. В разделе 1.3 установлено: классификации и деления, ведущие к целостности представлений, в простейшем случае тринитарны; критерий n = 2 приводит к М = 3. Напротив, если в процессе принимает участие действующий актор (наподобие "наблюдателя" релятивистской теории и "экспериментатора" квантовой), то ситуация трансформируется в модель n = 3, М = 4. Поэтому европейская часть и подведомственна квантиодромии. В итоге общая семиричность по округам представляется в виде М = 4 + 3.
30 В момент возникновения шестидесятиричной системы вавилоняне уже обладали довольно обширными познаниями в геометрии и астрономии.
31 То, что вавилоняне часто пользовались зависимостями, сводящимися в конечном счете к а2 + b2 = c2, отмечает А.А.Вайнман [69, c. 129].
32 Кстати, существует лишь еще одна тройка чисел, обладающая подобными "многозначительными" свойствами: числа культурно актуальны, взяты подряд и при этом являются "пифагоровыми", – это тройка ( – 1, 0, 1 ). Но ни об отрицательных числах, ни о нуле в означенный период еще не знали.
33 Двенадцать – это и сумма трех, четырех, пяти, т.е. периметр соответствующего треугольника или композиция рядоположенных трихотомии, квантиодромии, пентадромии. Наши предки пристально следили за подобными обстоятельствами.
34 Определение времени по звездам обусловливало связь тригонометрии с хронологией. В древних календарях годовой цикл разбивался ровно на 360 частей, т.е. дней; позднее прагматические соображения заставили "подпортить" столь логичное число.
1.6. Итоги первой главы
Для удобства в процессе предшествующего изложения все поле культурно-психической жизни общества было разбито посредством двух оппозиций: "сознательное – бессознательное", с одной стороны, и "рациональное – иррациональное", с другой. Результат – образование четырех секторов: 1) сознательное рациональное, т.е. обычная рациональность, например научная, 2) сознательное иррациональное – к нему тяготеют многие положения искусства, религии, паранаук, в общем, наше знание об иррациональном, 3) иррациональное бессознательное, ставшее центральной темой, скажем, психоанализа, и, наконец, 4) рациональное бессознательное – то, что по природе рационально, но в нем не отдается отчет. Основное внимание было направлено на четвертый квадрант, к нему подбирались соответствующие ключи, хотя условность деления иногда побуждала пересекать демаркационные линии – тем более, что то же самое нередко происходит в реальности: иррациональное (к примеру мифологическое) обзаводится рациональным (в частности числовым) измерением, и наоборот, рациональное по содержанию догматизируется, стяжает мифологические функции или содержание (трехмерное пространство, тройки сказочных персонажей, рай-чистилище-ад-земля-). Еще Витгенштейн в работе "О достоверности" указывал, что все наши представления определяются некиими правилами игры: правилами, которые мы учили с детства и которые реализуются в повседневной, в том числе общественной, жизни. "Предложения, описывающие картину мира, можно было бы отнести к определенному роду мифологии. И их роль подобна правилам игры. Этой игре можно научиться чисто практически, без сформулированных (ausgesprochene) правил" [450, S. 486].
Вероятно, не вызвало возражений, что в итоге наши культура и общество подпадают под метафору айсберга, большая доля которого под поверхностью, и бессознательные импульсы и мотивы во многом влияют на сознание коллективов, их поведение. Выбор в пользу рациональногобессознательного исходит из предпосылки, что рационален в массе прошедший сквозь школьные штудии человек, и позволяет применять при анализе точные методы. В центре внимания на протяжении всей главы оказывалась антропогенная реальность, ведь даже физика – это образприроды, самосогласованное и социально-исторически обусловленное знание о ней. Применительно к литературе, политике, философии такое утверждение тем более справедливо. В конечном счете мы имеем дело с коллективным сознанием (в собирательном значении, т.е. вместе с бессознательным), которое в равной мере и апостериорно, и априорно. Наличие априорного компонента способно вызвать из памяти метафизические спекуляции, но это ложный ход – речь не шла о знаниях без основы. Для обоснования, во-первых, можно сослаться на один из эпистемологических тезисов Леви-Строса: социальные структуры относятся не к эмпирической действительности, а к действительности сконструированных моделей, цит. по: [434, S. 645], – то же, по всей видимости, справедливо и в проекции на структуры культурологические. Во-вторых, конечная эмпирическая основа в нашем случае все же присутствует, а именно как элементарно-математическая образованность тех, кто оперирует стереотипами, мифологемами, идеологемами – их создателей, с одной стороны, и перципиентов, с другой. Имеются в виду устойчивые интерсубъективные конструкты, которые потому и становятся "общим местом", что объединяют всех нас поверх индивидуальных, национальных, исторических особенностей. Психологи заверяют, что математические способности – самые распространенные. Но даже если кто-то изначально ими не обладает в полном объеме, в процессе социальной инициации ему все равно приходится овладеть простейшими арифметическими и арифметикоподобными истинами и операциями, или, если угодно, арифметика овладевает сознанием каждого из нас, согласно или вопреки нашей воле. Такой тривиальный и общеизвестный факт наделяет социум и культуру целым букетом специфических свойств, влечет за собой многообразные следствия, которые по разным причинам не принято замечать. В частности, простейшие навыки комбинирования, счета присущи даже животным, для людей же они – из области само собой разумеющегося. Именно это внушает уверенность в правомочности изучения коллективного сознания, бессознательного с помощью адекватных математических приемов.
Наряду с некорректным сравнением с метафизикой, налицо и другая опасность. Анализируемые закономерности – в языке, политике, философии, литературе, науке – действуют с неизбежностью механизма, школьной теоремы и оттого способны вызвать превратную ассоциацию с механицизмом. Подобное сходство тем более подозрительно, что предметом изучения служит в первую очередь сфера мышления и только через нее – порождаемая действительность (включая политическую). Наше мышление, наш политический выбор несвободны? Свобода, впрочем, – атрибут индивида, по отношению же к большим коллективам ее наличие – под вопросом. Кроме того, во всех случаях приходится говорить о границах свободы, а также о ее объективных условиях.
В настоящем контексте полезно сослаться на работу Е.А.Седова "Информационно-энтропийные свойства социальных систем" [290]. "Возрастает или сокращается внутреннее разнообразие систем в процессе эволюции? – ставит задачу автор и отвечает: – Действительный рост разнообразия на высшем уровне обеспечивается ее эффективным ограничением на предыдущем уровне". Так как мы, в свою очередь, обращаемся к частично или полностью бессознательному подуровню современных культуры и социума, то естественно сталкиваемся с упомянутыми "эффективными ограничениями". Люди пользуются свободой там, где погружены в неканонизированные интеллектуальные реалии, специфически современного типа и стиля, но насколько действуют стереотипы, насколько признаются полномочия и авторитет архаического мышления, настолько свобода в значительной мере утрачивается. Вдобавок сама арифметика – продукт тех эпох, в чьи привычки не входила специальная забота о свободе – ни физической, ни духовной, – человек был предан во власть велений богов, звезд и судьбы, подчинялся диктату социальной иерархии, а догма и традиция всесторонне регламентировали как внешнюю, так и внутреннюю жизнь. На авторитете и подчинении правилам построено и изучение арифметики в школе. Соответствующие импликации, следовательно, пронизывают и нашу эпоху.
Е.А.Седов предпринимает более детальное исследование, устанавливая, что в реальных информационных системах – социальных, культурных – существует оптимальное соотношение между мерами детерминации и варьирования. Так, в языке на долю детерминации приходится около 80% информации; здесь хранятся правила, обусловливающие целостность языковой структуры, ее внутреннюю согласованность, правомочность. В оставшихся 20% содержатся те самые новости, ради которых составляется и прочитывается текст. Эти выводы пребывают в согласии с опытом: наша речь прежде всего автоматична, она опирается на свод грамматических и стилистических, прописанных и полугласных правил, и только на такой почве обретается языковая непринужденность, способность адекватного выражения соображений и чувств. Дефицит автоматизма и детерминации, напротив, – пусть каждый вспомнит о процессе изучения иностранного языка – сковывает нас по рукам и ногам. Не иначе обстоит и с науками, исходящими из набора установленных и общепризнанных истин, или с обществом, политический выбор которого всякий раз отталкивается от гласных и негласных норм. Попытки обновить слишком много приносят разочаровывающие плоды – анархию, затем диктатуру. Только ограничение разнообразия обеспечивает надлежащую структуризацию системы, – резюмирует Седов, – и ограничению подвергается нижележащий уровень ради разнообразия функций и структур социальных систем более высоких уровней.
Если отталкиваться от цифр Е.А.Седова, то, скажем, политология, изучающая проблематику современных обществ посредством специфически современных же представлений и методов – зиждущаяся на предпосылках принципиальной альтернативности выбора поведения граждан, партийных руководителей и правительств, осуществляющая учет воздействий со стороны экономической конъюнктуры, масс-медиа и т.д., – по сути имеет дело лишь с 20% заключенной в социумах информации. Обязательная для сайентизма установка на новизну ведет к неизбежной неполноте, даже к скудости получаемых знаний об объекте и/или ненадежности результатов. Апелляция к нижележащему – генетически не новому и в корне более детерминированному – пласту предоставляет вчетверо большие возможности. Опираясь на этот резон, мы посчитали полезным изучать современные общества – см., например,
